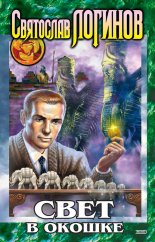Живые люди Вагнер Яна
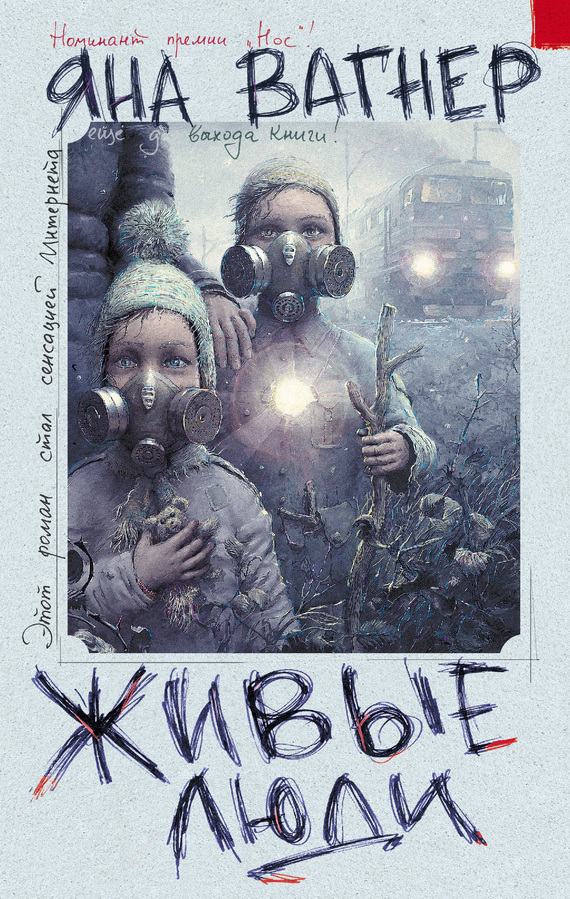
– А ты? – раздался вдруг голос позади меня; обернувшись, я увидела Мишку, стоявшего посреди комнаты, подняв плечи и отведя назад руки, словно вот-вот собираясь прыгать с вышки. Нижняя губа у него дёргалась. – Что будешь делать ты?
– А я при чём? – Андрей расслабленно пожал плечами. – У меня нет ни плана, ни ружья… мне-то зачем две недели таскать брёвна по льду только для того, чтоб порадовать двух капризных суч…
И Мишка прыгнул.
Удивительным образом, он сразу оказался прямо напротив Андрея, точнее – у него под подбородком; на мгновение мне показалось даже, что сейчас Мишка схватит его за грудки, или может быть, боднёт прямо в перекрестье нарочито сложенных рук, но он только застыл в напряжённой позе и задрал голову так, что я увидела его всклокоченную вихрастую макушку.
– Ты будешь ловить рыбу, – сказал он звонко. – Ты будешь рубить дрова. Ты будешь делать всё, что мы не успеем, пока будем строить баню, понял?..
– Тебя забыли спросить. – Андрею пришлось нагнуть голову, чтобы ответить. Он произнес эти три презрительных слова и улыбнулся неприятно, коротко; на самом деле, он просто поднял уголки губ вверх и тут же снова опустил их.
Мне достаточно было взглянуть на него – огромного, царственно раздутого рядом с моим тощим, хрупким мальчиком, чтобы я немедленно почувствовала, как все мышцы – все без исключения – напрягаются в моём теле, готовые бросить меня вперёд, между ними. Я ударю первая, занесу руку за спину и ударю, с размаху, сжатым кулаком, я никого и никогда не била вот так – яростно, наотмашь, но если он качнётся вперёд хотя бы на миллиметр, если он только позволит себе…
Мишка опередил меня. Он прижал руки к телу, отчаянно наклонил голову – его лохматая макушка пропала из поля зрения – и встал боком, похожий на маленького фехтовальщика, зачем-то бросившего вызов борцу сумо, а потом нырнул вперёд и вниз, выставив острое худое плечо, и толкнул, не глядя, отчаянно, безнадёжно. Вот сейчас, подумала я, сейчас, и приготовилась. Презрительная улыбка сползла с Андреева лица, уступив место другой гримасе. Небыстро, как при замедленной съемке, он поднял длинную тяжелую руку. И замахнулся.
Серёжа оттёр Мишку в сторону лёгким, необидным движением и через крошечное, неуловимое мгновение они оба, Серёжа и Андрей, были уже снаружи, на мостках, а потом – сразу, без перехода – оказались внизу, под мостками, взметнув маленькую беспомощную вспышку снежной пыли. Миг – и они уже лежали, сцепившись, тяжело дыша, неловко разбросав ноги. Ещё миг – и натужные объятия распались, и они поднялись, перепачканные белым, с плотными кусками снега, отваливавшимися от них при каждом движении. Не опуская рук, но и не сближаясь, словно всё ещё надеясь, что неприятное это дело решится вот так, без единого удара кулаком, они качались друг напротив друга, и пар – густой, молочно-белый – растворялся над их головами; а потом Серёжа выбросил вперёд правую руку – медленно, словно бы неохотно, но замах вышел какой-то кривой, безо всякой хлёсткости, так, что когда его ладонь царапнула, наконец, Андреев подбородок, пальцы даже не успели еще до конца собраться в кулак. Получился скорее шлепок, а не удар, на который Андрей ответил таким же вялым, угловатым тычком в Сережино плечо; не сразу, секунд через пять, как будто на самом деле им вовсе не хотелось этого делать, как будто им не хватало еще повода бить друг друга всерьёз.
Мишка рванулся было к двери, расталкивая нас, столпившихся у входа безмолвной пассивной толпой, но я схватила его сразу двумя руками, за рукав и за ворот свитера; изношенная шерсть жалобно затрещала. «Не смей», сказала я сквозь зубы, «не лезь», сказала я, «стой». Чувствуя теперь только раздражение оттого, что он мешает мне смотреть, я оттащила его в сторону и втолкнула назад, в комнату; я даже вытянула руку и плотно вцепилась в дверной косяк, чтобы не дать Мишке выскочить наружу, и снова жадно вгляделась в распахнутый, пышущий холодом проём. Марина тоненько причитала «ну вы что, ну вы что, ну мальчики, ну зачем вы..», и это тоже было уместно и правильно сейчас, потому что кто-то непременно должен был причитать, издалека, с безопасного расстояния, а я совершенно почему-то не собиралась этого делать. Наташа над самым моим ухом выкрикнула: «Перестаньте! Это глупо!», только это ведь было не глупо, совсем не глупо, это было просто необходимо, я даже дёрнула плечом, словно пытаясь стряхнуть её вместе с её неуместным криком. Не мешай, чёрт бы тебя побрал, не мешай им. Однако именно ее выкрик, казалось, наконец подстегнул их, как будто они поняли, что пора оправдать, наконец, эту нелепую возню под мостками, этот снег на одежде; Серёжа ударил ещё раз – уже сильнее, сжатым кулаком, скользнувшим по незащищенной скуле, задевшим ухо, и тут же мгновенно покачнулся от встречной увесистой затрещины, которая пришлась ему в левое надбровье. Поймал замахнувшуюся длинную руку и вцепился, пытаясь подтащить, дотянуться, одновременно стараясь держать локти повыше, защищая лицо, но Андрей ударил левой, сверху вниз, один, два раза, без замаха, но всё равно очень сильно, с хрустом, и костяшки его пальцев окрасились красным, и неясно было, чья это кровь; и тогда Серёжа вскинул локоть под каким-то неправильным углом и ткнул, подавшись вперёд всем телом, ткнул почти наугад, не глядя. Они ничего не кричали, только ухали болезненно и коротко после каждого пропущенного удара, и пёс, испуганно оскалившись, выписывал вокруг них возмущённые, неровные круги, заливаясь яростным лаем. Это была неловкая, некрасивая драка, без эффектных выпадов, без рассчитанных на публику стоек; так могли бы драться женщины, трехлетние дети или старики. Так могли бы драться мужчины, чья благополучная, приличная жизнь не дала им шанса убедиться в том, умеют ли они драться по-настоящему; так могла бы драться я. Смотреть на эту драку было скорее неприятно и стыдно, но я смотрела, смотрела.
Потом они упали снова, уже далеко не такие целые, не такие безупречно пристойные, как вначале; с разъехавшимися раздутыми лицами, залепленными снегом, покрытыми стынущей на морозе слюной и кровью. Звуков по-прежнему не было – кроме шумных прерывистых выдохов, выталкиваемых сжатыми легкими, и истошного собачьего крика. И вдруг стало ясно, что Андрей – большой, тяжелый, – одерживает верх в этой беспорядочной и неуклюжей свалке; не благодаря мастерству или ярости, а просто за счет лишних пятнадцати килограммов веса и двадцати сантиметров роста. Покатавшись недолго из стороны в сторону, они неподвижно застыли в бессильном, безвыходном клинче – Андрей вверху, а Серёжа под ним, с руками, беспомощно прижатыми к груди, с заплывшими, разбитыми глазами и губами, и тогда Лёня недовольно, досадливо загудел:
– Ну ё-моё, парни, вашу мать!.. – и тяжело спрыгнул вниз, с мостков, отчётливо желая как-то расцепить их, растащить в стороны, но какое-то время просто бесцельно кружил вокруг, не зная, как подступиться, чтобы при этом ни слюна, ни кровь, ни по-прежнему не нашедшая выхода злость не переметнулась с них на него.
Когда уже не осталось сомнений в том, что Серёжа не победит, я вдруг обнаружила себя внутри, в комнате, спиной к двери, потому что смотреть больше было не на что, незачем; я закрыла бы эту дверь, если б было можно, если бы остальные не стояли в проёме, и пусть бы эти двое, сцепившиеся в снегу, остались там, снаружи, на морозе, потому что ровным счетом ничего не зависело уже от исхода этой глупой потасовки. Я села на кровать, глядя себе под ноги, испытывая только тупое, слабое раздражение и неловкость, озадаченная тем, что чувствую только эти две вещи, и никаких больше, и в этот самый момент остальные посыпались из двери наружу – папа, Мишка, Марина с Наташей, – и закричали все разом, засуетились, растаскивая, поднимая на ноги, отряхивая. Пока они возвращались в дом, пока усаживали два обессилевших, обмякших, бессмысленных тела, словно боксёров в разных углах ринга, пока хлопотали вокруг, стягивая с них через голову отяжелевшие от снежной влаги свитера, стирая кровавые потёки, я смотрела на пол, на исцарапанные носы своих зимних ботинок, не желая видеть, мечтая не слышать.
Комната была слишком мала для этого. Казалось, кто-нибудь из них, взбудораженных дракой, усядется сейчас ко мне на колени, просто не заметив меня. Я встала, и не поднимая глаз, проскользнула назад, за перегородку, туда, где обычно спали дети, просто чтобы оказаться подальше от всего этого шума и суеты. За четыре месяца я была в этой комнате от силы несколько раз. Там даже пахло иначе – уютным и сладким, жарким детским духом. Ира сидела прямо напротив входа, а дети замерли на полу, глядя ей в лицо, две маленькие змейки перед своим заклинателем. Она коротко взглянула на меня и тут же отвернулась, словно не желая отвлекаться от них. Я села напротив, чувствуя себя одновременно незваным гостем и дезертиром. Позади нас, в другой комнате, звенел Наташин голос, жалобный и обвиняющий одновременно:
– Покажи! Ну покажи, Андрюша! Так больно? А так? Господи, что у тебя с рукой?
Муж её мычал в ответ что-то неразборчиво, раздражённо.
– Где у нас йод? – продолжала она, перекрывая остальные голоса в комнате, гудевшие и спокойнее, и ниже. – Надо йодом… У тебя рука совсем разбита, смотри, кожа лопнула, ну что же это такое, ты теперь этой рукой ничего не сможешь делать…
– Не уверена, что кто-нибудь из нас заметит разницу, – нежным певучим голосом произнесла Ира, склонившись к детям; казалось, она рассказывает им сказку, волшебную историю на ночь.
– Ты посмотри, что у него с рукой! – звенела Наташа за перегородкой. – Нет, ты посмотри! Тут зашивать, зашивать нужно, это само не заживёт!.. Зачем ты так, как тебе не стыдно, он столько для тебя сделал… а ты!
Кроме нас четверых, в крошечной детской никого не было, и я снова взглянула на Иру. Мне просто некуда было больше смотреть.
Господи, подумала я, ну что, что же такого он сделал, в конце-то концов; отчего их странная дружба так некрасиво перекосилась, и Серёжа всю жизнь притворяется теперь младшим братом, ожидающим снисходительной похвалы? Она подняла ко мне лицо, словно услышала мой безмолвный вопрос, словно я на самом деле спросила, и сказала негромко, буднично, как если бы мы говорили о погоде:
– В девяносто восьмом, когда всё развалилось, все наши деньги сгорели в банке. У нас были страшные долги, работы не было, вообще не было, ни у кого. Серёжа уже бомбить начал по ночам.
Ира протянула вперёд руки, сразу обе, и погладила детей по волосам; две крошечные худенькие фигурки неподвижно, как заколдованные, сидели возле ее ног, даже не заметившие случившейся только что драки, безмятежные, неиспуганные.
– У Андрея был тогда какой-то госзаказ, и он взял Сережу к себе. Водителем. И целый год платил Серёже зарплату за то, что тот возил его – по делам, на работу, вечером из ресторана.
Она посмотрела поверх детских голов в ту, другую комнату, где по-прежнему было шумно и суматошно, где никто не слышал её слов, и губы ее скривились в неприятной колючей улыбке.
– Это была очень хорошая зарплата. Очень… хорошая. Мы не могли отказаться.
Я посидела еще с минуту, а затем поднялась и вернулась в соседнюю комнату, перешагнула через длинные, вытянутые вперёд Андреевы ноги. Наташа хлопотала над его разбитой правой рукой, пытаясь соорудить неловкую громоздкую повязку. Пахло аптекой. Марина уже успела смыть кровь с Серёжиного лица, но смотреть на него по-прежнему было страшно – теперь стало уже совсем очевидно, что досталось ему гораздо сильнее, намного сильнее: оба глаза закрылись почти полностью, кожа на скуле лопнула; из нижней, раскроенной губы, размазываясь по подбородку, капая на грудь, на дощатый пол, струился уверенный красный ручеек. Я подошла поближе и взяла из дрожащей Марининой ладони сочащуюся водой и Серёжиной кровью марлевую салфетку. Марина с готовностью отдала ее и немедленно, с облегчением шагнула назад, вглубь комнаты. Я опустилась на пол возле Серёжи и погрузила руку с марлей в ведро с розоватой ледяной водой, поглядела на змеящиеся тёмно-алые струйки, брызнувшие между моими сжатыми пальцами, и вынула руку, прижала салфетку к его разбитому подбородку.
– Он побил тебя, – сказала я и поцеловала его вздутую, лиловую бровь.
Мокрые слипшиеся ресницы дрогнули, и он едва заметно кивнул мне, и улыбнулся – нешироко, насколько позволяли отёкшие губы.
– Ты молодец, – сказала я и поцеловала эти ресницы, чувствуя языком соль, кровь и воду. Он снова кивнул и снова улыбнулся, и сквозь разноцветное месиво развороченных вспухающих тканей сверкнул для меня ясной серой радужкой глаз.
– Теперь всё будет хорошо, – сказала я и поцеловала вспухшие воспаленные веки, болезненно пульсирующие под моими губами.
Он легонько качнулся ко мне, прижимаясь горячим лбом к моей щеке.
– Ну всё, Наташка, пусти, всё, хватит, – простонал Андрей где-то далеко, где-то у меня за спиной.
Он подошёл к нам, ко мне и Серёже, и встал рядом, баюкая обмотанную бинтом руку, большой, мокрый, пахнущий так же, как и Серёжа, птом и дракой, и спросил:
– Серёг, ты как? Нормально? – наклоняясь, чтобы взглянуть.
Серёжа поднял к нему лицо и кивнул ещё раз, улыбаясь, фыркая кровью, и тогда Андрей сказал:
– Давай сходим завтра, посмотрим эту твою баню. Я помогу. На пикапе у меня отличный фаркоп крепкий, на заказ делали, и трос у меня остался, даже два троса. Думаю, легко управимся. Надо только место выбрать, где бы её воткнуть здесь.
Я наклонилась к ведру и смыла розовую влагу с ладоней и губ, и немного потрясла пальцами, чтобы последние холодные капли стекли вниз, и потянулась к висевшему на гвозде полотенцу. Марина шарахнулась в сторону и посмотрела на меня широко раскрытыми, круглыми глазами, с изумлением и ужасом, как смотрят на диковинную шипастую ящерицу в зоопарке; и только наткнувшись на этот ее взгляд, я почувствовала, что улыбаюсь. Что, наверное, начала улыбаться в ту самую минуту, когда вошла в комнату.
14
Найти место для дома, выторгованного Сережей у людей, которым этот дом не принадлежал, в обмен на машину, ружье и несколько ножей, оказалось несложно. На крошечном острове, густо покрытом вперемешку растущими березами и елями и заваленном неподъёмными корявыми валунами, пустым оставался один только небольшой пятачок возле самого берега, почти полностью занятый нашим теперешним неказистым жилищем, так что выбора, по сути, никакого и не было. Не прошло и часа, как мы уже стояли, ёжась от холодного ветра, оглядывая неприглядный вытоптанный пустырёк, хранящий вмятины от неловкой и стыдной, неизбежной драки, случившейся ровно на этом же самом месте. Теперь это было место для будущего нашего жилья, обещающего приблизить нас к давно забытой роскоши приличной жизни,
– Поставим рядышком, – заявил папа, широко ступая по снегу огромными своими валенками, отмеряя расстояние. – Должна влезть. Сколько она, Серёж? Шесть на шесть?
– Не, Андреич, она не квадратная была, даже я помню, – отвечал ему Андрей так же деловито и беззлобно, как будто драки не было, как будто рука его, разбитая, в неаккуратной сползающей повязке, не была бережно прижата к груди, а на лвой скуле не багровел огромный уродливый кровоподтек.
– Пять на семь, – сообщил Серёжа, который выглядел ещё хуже с закрывшимся глазом и расквашенными, распухшими губами. – Вот, смотри, широкой стороной сюда, узкой – к озеру. Там терраска небольшая как раз, будет летом приятно сидеть.
Теперь они шагали втроём: три, четыре, пять метров в одну сторону, семь – в другую, «вот эту березу спилить только – и нормально, даже пень не нужно выкорчевывать, на камни поставим», мысленно вертя в пространстве ещё не существующий толком, маленький отдельный дом, который позволит нам, наконец, спать в разных комнатах. И Лёня озабоченно интересовался уже – «а печка есть там? какая печка?», а Серёжа отвечал радостно: «хорошая там печка, чугунная, дымоход из оцинкованных труб, снял – перенёс, с кирпичной мы сели бы в лужу, как ее соберешь заново без раствора?»; «а между брёвен там что? ну, щели чем законопачены?» – «да мох там, обычный мох наверняка, они тут в тайге без пижонства, его и по второму разу можно – а нет, так ещё наберем, он тут под снегом везде – просушить только». Казалось, если бы не начинающиеся сумерки, они сейчас же, в эту минуту бросились бы на тот берег и принялись осторожно, по одному отслаивать с кровли ломкие шиферные лоскуты и снимать с петель двери, чтобы день начала нашей новой жизни, одобренный теперь единодушно, начал приближаться уже сегодня.
Наутро мы отправились взглянуть на дом; называть его баней теперь, когда на него было возложено столько надежд, никому не пришло бы в голову. По-настоящему подробно его видели только мы с Серёжей, но в отличие от него, я почти ничего не могла бы сейчас вспомнить, кроме темного просторного предбанника, узкой парилки с маленьким окошком на уровне глаз, сквозь которое заглядывала слепящая холодная луна, и печки, возле которой я уснула в день своего позорного бегства. Мы шли через озеро нестройной, растянувшейся цепочкой, потому что оставаться на острове, карауля наши скудные припасы, не захотелось никому, так что детей укутали поплотнее и взяли с собой. Даже пёс, ещё не до конца простивший нам вчерашнюю драку, увязался следом, и то слева, то справа мелькал его длинноногий тощий силуэт. По дороге Серёжа, накануне осмотревший предмет своего тщательного торга во всех деталях, рассказал нам, замирающим от восторга, что в маленьком одноэтажном строении три комнаты, а не две: большой предбанник с мягкой мебелью, «там диван, ребята, настоящий диван раскладной – я договорился, мы его забираем», парилка – «не такая уж она и маленькая, метров шесть, если полки разобрать – две кровати встанут легко», и наконец, такая же шестиметровая мыльня, снабженная дополнительным комплектом деревянных полок и даже небольшим душевым поддоном.
– Там-то мы с тобой, Мишка, и устроимся. Как короли! – сказал папа весело и одышливо.
После этих слов я поверила, что этот новый, пахнущий свежим деревом сруб достанется именно нам. Что осталось подождать каких-нибудь полторы недели, и мне не придётся больше спать на продавленной железной сетке, провисающей почти до стылых почерневших досок.
Только бы они не передумали, повторяла я про себя, торопливо переставляя ноги, разъезжающиеся на едва присыпанном снегом льду; они ведь могут. Вот сейчас мы поднимемся на берег, полные радостного возбуждения, уже поверившие в то, что он наш, этот маленький новый дом, а они, эти трое пришлых незнакомцев, выйдут к нам и скажут – нет. Вашей машины, вашего ружья и патронов недостаточно. Мы передумали, скажут они, и эта баня нужна нам самим. Возможно, мы станем спорить, доказывая призрачность прав – и их, и наших – на что бы то ни было, торчащее из мёрзлой земли в этом забытом богом уголке света; может быть, мы станем просить, предлагать им взамен что-то ещё. Может, мы даже попытаемся им угрожать, но совершенно ясно, что стоит им передумать – и дома мы не получим, и поплетёмся обратно в свою нищую, неустроенную безнадёжность. Доживать до весны.
К моменту, когда мы перешли, наконец, озеро, преодолели сопротивление прибрежного частокола сорняков и выбрались на вытоптанную площадку перед первой громадной избой, я почти уже свыклась с мыслью, что мы пришли сюда напрасно, и оживленная болтовня остальных доставляла мне почти физическую боль. Я была готова хватать их за рукава и кричать им – заткнитесь, подождите, ещё ничего не решено; до тех пор, пока я не услышу собственными ушами, что дом этот нам отдадут, нельзя радоваться, строить планы, распределять комнаты, нельзя вообще говорить об этом вслух, потому что по наивному, детскому, но от этого не менее бесспорному закону, любое произнесенное слово способно легко разрушить хрупкую, непрочную конструкцию еще не случившейся реальности.
Они ждали нас на крыльце, Анчутка и два его бессловесных камуфляжных адъютанта, лениво покуривая и наблюдая за нашим приближением.
– Здорово, мужики! – крикнул Серёжа ещё издали, как мне показалось, слишком поспешно, слишком приветливо, словно существовала какая-то четкая, строго определенная мера дружелюбия и приветливости, сразу за границей которой начиналась заискивающая слабость, снова означавшая, что дома нам не получить; но в ответ на Серёжин возглас все трое, как по команде, пришли в движение, закивали, спускаясь с крыльца, затаптывая окурки, протягивая руки для пожатия.
– Ого, – живо произнёс Анчутка, рассматривая разбитое Серёжино лицо. – Я смотрю, у вас вчера нескучный был денёк. Это кто ж тебя так? Жена что ли?
И они захохотали, все трое, а нам осталось только топтаться перед ними, дожидаясь окончания этой вспышки жизнерадостного веселья.
– Жена, кто ж ещё, – легко сказал Серёжа, и я подумала: хотела бы я знать, которую из нас все вы имеете в виду, но в этот самый момент Анчутка убрал с лица улыбку (остальные двое, как будто внимательно следившие за его выражением, немедленно замолчали) и сказал уже серьёзно:
– Ну что. Давайте сначала машинку посмотрим, а после поговорим про ваше новоселье.
Место, где стояли наши машины, выглядело теперь совершенно иначе, чем в новогоднюю ночь, когда мы – беззаботные, пьяные, смеясь, спотыкаясь и поддерживая друг друга, бродили вокруг, сдвигая вниз толстые, съезжающие лавинами с покатых крыш снежные пласты, заглядывая внутрь. Видимо, наши новые соседи проявили к этим машинам гораздо больший интерес, чем люди, жившие здесь до них, потому что все три – «Лендкрузер», пикап и Серёжин «Паджеро» – были теперь тщательно обметены и доступны взглядам, а пространство вокруг, раньше заваленное глубоким, по колено, снегом, оказалось вытоптано и пусто. Я представила себе, как они ходят кругом, по-хозяйски расчищая лобовые стёкла, отряхивая крыши, выбирая – Серёжа предоставил им в этом полную свободу. И несмотря на то, что дом (целый дом! три комнаты, чистые свежие бревна!) в наших теперешних условиях стоил всех этих машин, ненужных, бесполезных, с пустыми баками; несмотря на то, что захоти эти три чужих мужика, они могли бы взять любую, а то и все три, безо всякого спроса, потому что мы бросили их здесь, на берегу, без охраны; даже несмотря на то что, решись мы бежать отсюда (при условии, конечно, что где-то нашлось бы место, обещавшее нам спасение, и мы каким-нибудь чудесным образом раздобыли бы топливо), мы сумели бы уместиться и в двух машинах теперь, когда продовольствия, составлявшего львиную долю нашего багажа, уже не осталось; словом, несмотря на всё это, самый вид этих трёх автомобилей, которые каких-то четыре месяца назад в течение одиннадцати суток ежедневно спасали нам жизнь, а теперь стояли беззастенчиво осмотренные, подготовленные к передаче, заставил нас замолчать и почувствовать себя предателями.
Мы не знали ещё, которую из машин они облюбовали, которую нам придётся отдать, но только сейчас стало ясно, насколько болезненным будет для нас их решение, каким бы оно ни оказалось. Как учитель, нарочито медленно ведущий пальцем по списку фамилий в классном журнале, Анчутка не спешил. Деловито, явно не впервые он обошёл их, одну за другой, похлопывая широкой ладонью по безмолвным кузовам, словно успокаивая нервничающих лошадей на ярмарке, а затем, отступив на шаг, еще немного полюбовался ими – молча, с удовольствием заставляя нас ждать. Лёнин пузатый «Лендкрузер», вызывающе блестящий даже теперь, после месяцев простоя, был последним на неспешной Анчуткиной орбите. Он поставил ногу в грубом ботинке на сверкающую хромированную подножку и неожиданно легко подпрыгнул. Машина качнулась, стряхивая остатки снежной пыли.
– Хорош, собака, – сообщил он нежно, заглядывая внутрь, в пустой остывший салон. – Сиденья кожаные. Литров пять?
– Четыре с половиной, – напряженно ответил Лёня.
– А лошадей сколько?
– Двести тридцать пять, – сказал Лёня неохотно.
Я боялась взглянуть ему в лицо.
– Двести тридцать пять, – мечтательно повторил Анчутка, стоя на подножке. – Никогда у меня такой тачки не было, – продолжил он, по-прежнему не оборачиваясь, как будто слова его предназначались только и исключительно самому автомобилю; словно главной его задачей было уговорить эту черную железную громаду добровольно сменить хозяина.
– Ключи-то с собой?
Несколькими минутами позже, утвердившись уже за рулем безмолвной спящей машины, он повернул к нам довольное улыбающееся лицо и сказал:
– Ребятишки-то мои пикап, конечно, присмотрели. Практичней, кто бы спорил. Я и не спорю, чего там. Просто мне нравится эта.
Оба они с Лёней – одинаковые, большие и грузные мужики, походили сейчас на мальчишек, одного из которых заставили отдать другому любимую игрушку; лица у них были детские.
«Ребятишки», притихшие, с завистью наблюдали за анчуткиными беспокойными движениями на водительском сиденье. Он даже положил красные свои обветренные ладони на руль и попытался крутнуть его; кожаное колесо поддалось совсем чуть-чуть и встало. Всё так же по-детски улыбаясь, он вставил ключ в зажигание и повернул. Ничего не произошло, кроме оглушительной, пустой тишины. Анчутка нахмурился.
– Вы когда ее заводили последний раз?
– Так аккумулятора нет, – пояснил Лёня хмуро. – Сняли мы их, в декабре ещё. Они, наверное, сдохли уже все, за четыре-то месяца.
– Прикурим, – ласково сказал Анчутка и ещё раз погладил руль. – Наш УАЗик только и годится уже, чтоб прикуривать. Ладно, – он с сожалением выпрыгнул на снег. – Пошли, баньку посмотрим, а потом я Вову к вам за аккумулятором снаряжу.
Бережно, по-хозяйски захлопнув дверцу, он запер ее ключом, положил его в нагрудный камуфляжный карман, и даже несколько раз любовно похлопал по этому карману; глаза его быстро сновали по нашим лицам, как будто ища на них малейшие признаки неудовольствия и сожаления.
Пока мы возвращались назад, пока огибали избы – переднюю, обжитую, и следующую, пустую и заколоченную, говорили уже о мелочах. «Там ещё дизеля литров пять в баке должно быть, – говорил Серёжа. – Мы сольём, иначе не хватит. Нам ходок десять-двенадцать по озеру нужно сделать на пикапе». «Сливайте, – милостиво соглашался Анчутка, – у нас есть ещё». «И кресло детское мы заберём, ладно? Вам же не нужно?» – спрашивала Марина, опасливо подбираясь к идущим впереди мужчинам; чтобы поравняться с ними, ей пришлось сойти с узкой протоптанной тропинки на рыхлую белую обочину. «Вова, тебе не нужно детское сиденье?» – смеялся Анчутка, и юный Вова, державшийся позади, возмущённо, пристыженно хихикал.
Лёня шёл последним, и даже не оборачиваясь, я мысленно благодарила его за каждый шаг, сделанный без возражений и протестов. Сделка была завершена. Дом был наш.
15
Переезд начался на следующий день. Пятеро наших мужчин, из которых один был стар и болен, другой – ранен, третий – слишком юн, и только оставшиеся двое могли работать в полную силу, должны были освободить выбранное для нового дома место от нескольких закравшихся-таки валунов и деревьев, выцарапать из-под снега и притащить подходящие по размеру камни, призванные служить ему фундаментом, и приступить к работе на том берегу. Аккуратно снять шифер и разобрать стропила и балки, стараясь при этом запомнить, как именно всё это выглядело в собранном виде, потому что никто из них, как бы они ни храбрились, никогда прежде не делал ничего подобного. После им нужно было вынуть двери и окна, а затем одно за другим пронумеровать длинные необструганные шестиметровые бревна, из которых были сложены стены; снять их по очереди, обвязав верёвками, чтобы потом пучками по пять-десять штук перетащить по льду через озеро, прицепив тросом к пикапу, и попытаться, наконец, сложить этот циклопический деревянный конструктор в том же порядке здесь, на острове.
Март перевалил уже за половину, но холод никак не хотел ослабевать, и хотя ясных дней становилось всё больше, жёлтый солнечный диск насмешливой, равнодушной декорацией торчал в нижней трети неба, не согревая. Мы, женщины, не могли помочь мужчинам никак, но в первые несколько дней всё равно старались сопровождать их, словно наше присутствие способно было ускорить что-нибудь в этом тяжёлом задуманном нами деле, которое всё чаще теперь казалось неосуществимым. Два бесконечно долгих холодных дня мы стояли вокруг разбираемой бани, отказываясь от любезных приглашений сделавшихся теперь радушными соседей зайти к ним погреться и выпить чайку, и бессмысленно мёрзли, готовые по первому требованию откупорить термос с кипятком (или чаем, когда соседи оказывались щедры). Наша жертва, однако, оказалась лишней. Под нашими недоверчивыми, неуверенными в успехе взглядами неловкие строители только больше нервничали и ошибались, роняя в снег то инструменты, то фрагменты деревянных конструкций. На исходе третьего дня, когда кровля была почти разобрана и стропила лежали теперь на снегу одинаковыми кучками, отсортированные по какому-то неизвестному нам, праздным зрителям, принципу, сидевший верхом на последнем тонком венце Мишка вдруг, нелепо взмахнув руками, полетел вниз и сам. Когда же мы бросились к нему, причитая, ощупывая, отряхивая его, он почти со злостью принялся отталкивать наши руки и сказал, наконец, болезненно кривясь и обращаясь ко всем женщинам сразу, словно мы были стаей кудахчущих наседок: «ну зачем вы… ну хватит… вам что, нечем заняться, что ли?..»
Может быть, именно поэтому больше мы с ними не ходили, предложив вместо этого взять на себя ежедневную проверку сетей. Мишка, ненадолго отпущенный со стройки дать нам первый урок подледной ловли, вытянул первую сеть на лёд и почти немедленно убежал назад, на берег, торопясь принять участие в более важном деле. Мы остались одни – четыре женщины, двое детей и пёс, хищно принюхивающийся к заиндевевшим рыбьим тушкам, опутанным капроновой нитью. Один только вид огромной спутанной сети, блестящей на мокром льду, убедил нас в том, что дотащить до дома и её, и четырёх её спящих в холодной воде товарок нам будет просто не под силу, так что выбирать из них уснувшую рыбу мы решили прямо на месте, поливая застывшие пальцы горячей водой из термоса, чтобы вернуть им чувствительность. Дети толстыми укутанными столбиками торчали неподалёку, с любопытством наблюдая за нашими мучениями. Мы до смерти боялись порвать хрупкий капрон и потому возились с каждой сетью бесконечно долго, мешая друг другу, оскальзываясь, зачерпывая воду мгновенно намокающими рукавами; к моменту, когда дошла очередь до последней, пятой сети, мы совершенно выбились из сил, окоченели, промокли и почти впали в отчаяние. Но тут в тугом клубке черных натянутых ячеек вдруг забилось, задёргалось большое, блестящее, серебряное, впятеро крупнее неподвижной и скучной подмороженной плотвы, защелкало челюстью, – и мы, все четверо разом завизжали, закричали одновременно, потащили вверх и в сторону, торопясь, чтоб не сорвалось, чтоб не ускользнуло назад в черную непрозрачную воду, охваченные первобытным азартом и восторгом.
Сеть уже лежала на льду, но толстая рыбина – живая, рассерженная, – всё так же билась ярким сверкающим на солнце боком, изгибая и натягивая тонкий капрон, желая освободиться; небольшие челюсти, обсаженные мелкими острыми зубами, опасно лязгали. Никто из нас уже не помнил про плотву, про неприкосновенность сети, про холод и мокрые рукава. Восемь закоченевших рук расплетали, разматывали жёсткий неподатливый нитяной ком, мы кричали друг другу «огромная какая, сволочь», и «дай, я», и «да держи ты!» и спустя минуту или десять минут сеть, наконец, распахнулась и выпустила наружу лоснящееся, непокорное рыбье тело, мгновенно запрыгавшее по льду обратно, к спасительной проруби. Мы бросились в погоню, не решаясь взять его руками, настолько большим, сильным и страшным оно казалось, и тогда Марина вдруг прыгнула, взметнув фонтанчик снежной пыли, с каким-то предсмертным визгом, и накрыла его собой, и несколько бесконечных мгновений лежала поверх, некрасиво разбросав длинные свои ноги, дожидаясь, пока оно перестанет бороться и вырываться; а мы, остальные, упали рядом с ней на колени, готовые перехватить, вцепиться зубами, только бы остановить, поймать, не упустить эту жирную живую добычу.
Когда Марина наконец подняла лицо – перепачканное снегом, с поцарапанной скулой, и откатилась в сторону, не поднимаясь на ноги, даже не садясь, рыбина уже сдалась и лежала теперь неподвижно, разом потеряв половину своего блеска, но всё такая же огромная, выпуклая, с розовой полосой вдоль пятнистого серебристого бока, с бессильно распахнутой зубастой пастью.
– Форель, – задыхаясь, с восхищением сказала Наташа. – Форель, девки, вы только представьте, мы поймали форель.
Марина раскинула руки в стороны, запрокинула голову и засмеялась прямо в холодное синее небо. Она лежала на спине и смеялась – тоненько, захлёбываясь, всхлипывая, и слёзы – блестящие, хрупкие, – собирались у неё во внешних уголках глаз и текли вниз, за уши, к спутанным рыжеватым прядям, а мы сидели вокруг на коленях, забывшие и про холод, и про нашу взаимную долгую нелюбовь, и про четыре жутких, бесконечных, безрадостных месяца, жадно смотря ей, смеющейся, в лицо – что? что? что смешного? – и она выговорила, наконец, просипела, выплюнула вместе со слезами и смехом:
– Глобус… Гурмэ… – и приподнявшись на локтях, оглядывая нас по очереди полуприщуренными ещё, ненормальными глазами, неожиданно выдала детским своим голосом длинное, чудовищное, совершенно какое-то непечатное ругательство, услышав которое, мы одновременно и зашикали на неё «тихо, дети же, дети», и начали хохотать ещё до того, как она договорила.
– Вы только посмотрите на нас… москвички… красавицы… форель поймали… только… посмотрите…
И мы послушно оглядели друг друга.
В том, какими мы увидели себя, не было ничего нового – перетянутые по поясу свалявшимися, нестираными шерстяными платками, обутые в грубые негнущиеся ботинки, хотя дело ведь было даже не в обуви, не в одежде; и лица наши, и руки были обветренные, серые, чужие. Это были совсем не мы, давно уже не мы, и в то же время мы были – живы. И мы поймали рыбу – огромную, жирную, весеннюю, мы поймали ее, мы сделали это сами, без помощи, без снисходительного присмотра.
Потом мы бежали домой, в самом деле бежали, передавая друг другу тяжелое плюхающее ведро, в котором у самого края, поверх снулой плотвы, скользила толстая праздничная форелина. Мы бежали, продолжая хохотать, и дети, стараясь не отстать, визжали и смеялись вместе с нами, безразличные к тому, что именно нас развеселило, а просто из желания смеяться вместе с нами. Очень хотелось как можно быстрее добраться до дома и сделать с этой рыбой что-нибудь, отличное от вечного надоевшего, жидкого бульона; предъявить ее как доказательство того, что мы сами сумели добыть из недружелюбного пугающего озера почти полное ведро жизни. Мы ворвались в дом, и в этот момент привычная его гадкая теснота и убогость совершенно не имели значения, подбросили дров в остывающую печь, и погревшись недолго, снова высыпали на улицу, потому что торжественность этого первого нашего улова невозможно было оскорбить сейчас облупленной эмалированной кастрюлей. Форелья туша была уже выпотрошена и обмазана солью. Порывшись где-то в недрах нашего истощившегося багажа, Ира вернулась с комком мятой, криво обрезанной фольги; он был небольшой, и его едва хватило на то, чтобы соорудить неказистый, нескладный кулёк, в который мы завернули рыбину (Марина снова запричитала «никаких специй, даже перца нет»), а потом стремительно разбросали снег с давным-давно не использовавшегося кострища и развели огонь.
Крепкие березовые поленья обещали гореть не меньше сорока минут прежде, чем превратиться в угли, пригодные для того, чтобы доверить им нашу драгоценную добычу, но возвращаться в дом не хотелось. Было страшно разрушить хрупкий праздничный настрой, случившийся так неожиданно, так вдруг, и поэтому все мы – даже дети, даже пёс, – остались снаружи, пританцовывая вокруг костра и стараясь держаться к нему поближе, потому что ненадёжное зимнее солнце уже успело съехать вниз, к горизонту, к верхнему краю черных замёрзших деревьев. Какое-то время мы стояли молча, наблюдая за дружелюбным, уютным огнём, а потом Наташа сказала:
– Выпить бы сейчас чего-нибудь. У нас совсем не осталось?
– Не может быть, – усомнилась Ира. – Наверняка у папы заначено где-нибудь. Я сейчас.
Она вернулась минут через пять. Боком толкнула дверь и торжествующе помахала изрядно уже початой бутылкой, в которой плескалось прозрачное, ядовитое; в другой руке её, ушками наружу, радостно топорщились четыре фаянсовые кружки.
Идея пить спирт, не разбавляя, мгновенно потерпела фиаско: после первого же глотка Марина задохнулась, закашлялась, выплюнула обжигающую жидкость себе под ноги и убежала в дом, чтобы через мгновение вернуться с чайником, полным кипяченой воды.
– Коктейль, – объявила она, улыбаясь, и мы подставили кружки под облупленный эмалированный носик.
– За нас, – сказала она потом, задрав свою кружку над головой; маленький потрёпанный римлянин, приветствующий своего цезаря.
И я не могла не вспомнить день, когда умерли телефоны – в самом начале эпидемии, и Леня с Мариной, наши нелюбимые, заносчивые соседи впервые сидели в нашей гостиной, ожидая, пока я переведу им новости CNN, и то, какая она была тогда – холёная, холодноватая профессиональная жена с идеальной причёской и непогрешимым маникюром; безупречная, несимпатичная.
– За нас, – повторила я вслед за ней и протянула вперёд кружку, по которой она немедленно, залихватски хлопнула своей.
Час спустя мы всё так же сидим вокруг огня, четыре женщины, уставшие от молчания, неспособные больше испытывать нелюбовь. Спирт шумит у нас в головах, в кровеносной системе, наполняя лёгкие мягким пламенем, и одиночество, к которому оказалось невозможно привыкнуть, тает и истончается с каждым следующим глотком. Забытая рыба замерзает в своей фольге, не дождавшись обещанных углей. Есть расхотелось, и угли больше нам не нужны. День закончился. Голубые прозрачные сумерки с каждой минутой становятся гуще, небо меркнет; мы понемногу скармливаем костру приготовленные для ужина дрова – просто ради тепла, ради неярких красных теней, смягчающих наши измученные лица, ради мимолетной хрупкой искренности, превратившей нас в случайных, безнаказанных, анонимных попутчиц. Искренности, которую страшно разрушить резким движением. Неповоротливая опустевшая планета тяжело, неравномерно вращается под нами, вокруг нас, временами уплывая из-под ног.
– Иму.. мму.. иммуно-ло-гическое бес-пло-дие, – выговаривает одна из нас с усилием, и это неважно – которая, потому что у нас нет сейчас имён, как нет и боязни сказать что-нибудь лишнее. Мы четыре долгих месяца, кажется, не говорили совсем, как можно молчать столько времени? – и теперь смертельно рады этой возможности. Мы подаёмся вперёд и слушаем, внимательно, жадно, готовые впустить в себя историю.
– Иммунологическое, – повторяет она еще раз, уже чётче, при этом лицо у неё брезгливо морщится, а уголки губ опускаются вниз, как если бы это слово на вкус оказалось горьким, горше лаймовой корки.
– У тебя всё в порядке, – говорит она. – У тебя чудесная здоровая матка, способная к деторождению. Твои тазовые кости идеально расположены и не вызовут лишних проблем при родах. Твоя система воспроизводства работает как часы.
– Ты можешь забеременеть от кого угодно, кроме собственного мужа, – говорит она, – потому что твоё тело, безупречная машина по производству младенцев, по какой-то причине безжалостно атакует именно его семя. Только его семя, больше ничьё. Иногда это происходит сразу, иногда – спустя три месяца, когда ты уже почти привыкаешь к мысли, что внутри тебя кто-то есть и спишь, обняв руками живот. Только после второго раза ты уже не торопишься радоваться и принимать поздравления, ты вообще никому не рассказываешь и ходишь, обращённая вовнутрь, прислушиваясь, уговаривая. Если бы это помогло, ты с готовностью вскрыла бы кожу чуть ниже пупка, разрезала тонкие косые мышцы и накрыла бы ладонью эту микроскопическую горошину, сгусток клеток, едва приступивших к делению, как будто твоя дурацкая неповоротливая ладонь способна предотвратить момент, когда сопротивление твоей иммунной системы – такой же безупречной, как всё остальное – добьётся своего. Она еще ни разу не ошиблась, твоя иммунная система, будь она трижды проклята.
Мы молчим, потому что она не ждёт от нас слов. Ей просто нужно, чтобы мы слушали, не перебивая, и возможно, ещё ей хотелось бы, чтобы мы забыли об этом разговоре наутро, или не забывали, но никогда потом не возвращались к нему, а скорее всего, она вовсе нас сейчас не замечает, ей просто хочется говорить, и мы не мешаем ей.
– Это что-то вроде аллергии, – говорит она. – Похоже, моё тело считает, что мы слишком долго вместе спим. Они придумали термин – контрацептивная терапия. Они не исключают, что тело можно обмануть, если прекратить обмен жидкостями, скажем, на полгода. Или на год.
– Мы женаты четырнадцать лет, – говорит она, – четырнадцать. Нам совсем несложно прекратить обмен жидкостями. Иногда мне кажется, нам гораздо труднее будет потом снова его начать.
Она сидит, обхватив руками колени. Она улыбается. Мы чувствуем облегчение, понимая, что она не собирается плакать.
– Интересно, – говорит она, задумчиво щурясь на изъеденное огнём дерево, лопающееся от жара возле наших ног. – Если бы мы попробовали сейчас. Вот прямо сейчас. У нас могло бы получиться?
Мы не настолько глупы, чтобы предположить, будто она на самом деле спрашивает нас. И потом, откуда нам знать?
– Необитаемый остров, – говорит она затем, всё ещё улыбаясь, – это лучший способ напомнить мужчине о том, что иногда следует спать и со своей женой тоже. Ну, теперь, когда все остальные умерли, у него просто нет другого выхода, так ведь?
В эту минуту действительно похоже, что она готова заплакать, только вместо этого она вдруг поворачивается, протягивает руки и выхватывает из темноты безмолвную пухлую фигурку. На мгновение её внезапное движение и ребёнок, возникший словно из ниоткуда, кажутся нам каким-то фокусом – как если бы обступающий нас сумрак сгустился и уступил, в ответ на её желание превратившись в маленькую бледную девочку, – но морок быстро рассеивается: на девочке знакомый красный комбинезон с подвернутыми на вырост рукавами, она немного озадачена стремительным своим перемещением, но сидит покорно, не сопротивляясь. Женщина, усадившая к себе на колени чужую дочь, кривит лицо, словно выпила текилы с солью.
– Есть мнение, – говорит она, – что это вообще всё в голове. Понимаете? Нет никакой аллергии. Просто такая защита. Иммунологическое бесплодие, – выплёвывает она. – Чёрта с два. Ты можешь хотеть ребёнка. Ты можешь очень. Очень. Хотеть ребенка. А тебе всего-навсего нужно было рожать от кого-то другого. Не от него.
Она делает движение, словно собирается встать, задевает ногой фаянсовую кружку, из которой выплёскиваются едкие остатки спирта, тонкая струйка достигает вулканической, покрытой пеплом границы костра, слабо вспыхивает там.
– Самое смешное, – говорит она раздельно, чтобы все мы, слушающие, сумели оценить юмор, – самое смешное – у тебя было четырнадцать лет, чтобы разобраться. А ты понимаешь это только на сраном необитаемом острове. И всё, понимаете? И всё. Глупо, да?
Она еще немного смеётся в тишине, под треск и шипение сырых березовых поленьев, а потом закрывает глаза и осторожно нюхает нестираный детский капюшон, и теплый висок под ним.
– Щёки ледяные, – говорит она. – Маринка, какая же ты дерьмовая всё-таки мать, – и встаёт, покачиваясь, держа девочку на весу.
– Пойду согрею чаю детям, раз уж мы решили мёрзнуть тут до ночи.
16
Чтобы уложить детей, они оставляют меня одну у огня и уходят втроём, словно для исполнения этой простой задачи на самом деле требуется три пары рук и три пары глаз. Четверть часа я сижу, дожидаясь их возвращения, остывая, погружаясь в темноту. Спирта осталась примерно треть бутылки. Это количество стоило бы поделить поровну, но пока я жду их здесь, снаружи, на морозе, мне необходима лишняя, тайная порция, только моя, хотя бы для того, чтобы сберечь непрочное ощущение родства, возникшее случайно и готовое выветриться с первым же порывом холодного воздуха, с каждой лишней минутой, проведенной в молчаливом ожидании. Я не хочу трезветь и вспоминать о том, насколько мы четверо на самом деле неблизки друг другу, поэтому через силу глотаю горькую ледяную смесь и все эти пятнадцать минут, сжимая в ладонях кружку, я больше всего боюсь того, что, вернувшись, они не захотят больше разговаривать.
Когда они, наконец, появляются, я собираю их опрокинутые пустые кружки и разливаю. Я хочу вернуть их. Я на самом деле хочу услышать, что они скажут. Без них мне было одиноко.
Они хватаются за кружки, как за спасательные круги, жадно, торопливо, как будто тоже чувствуют, что стоит нам сделать паузу, замёрзнуть или перестать пить, и волшебство рассеется. Тем не менее, нам требуется еще четверть часа, не меньше, для того, чтобы заговорить.
– Алёша, – произносит она, наконец. – Его звали Алёша. Алё-о-оша, – повторяет она нараспев. – Правда, красивое имя?
Она сидит на перевернутом смятом железном ведре, покрытом ржавой коростой, тонкие птичьи колени задраны почти до подбородка, рукав щегольского когда-то лыжного комбинезона разъехался по шву, выпустив на волю серую некрасивую подкладку, рыжеватые пряди небрежно заправлены за уши.
– Мне было двадцать, – говорит она, как будто это имеет значение, как будто всё, что она расскажет дальше, нуждается в оправдании.
– Двадцать. У меня было одно приличное платье. Одно, летнее. Летние платья дешевле – маленький кусочек материи. Зимой нужны еще сапоги, пальто, чулки, а летом достаточно одного платья, и можно ведь даже без белья.
Она произносит странное слово «Левбердон».
– Я там жила, – говорит она, – в частном секторе. Туалет на улице, желтые прошлогодние газеты, вода из колонки. Я думала, больше никогда во всё это не вернусь, – тут она машет рукой в сторону кособокого дома, в котором спят дети. – Я ведь правда так думала, представляете?
– Что такое Левбердон? – спрашиваем мы, потому что это надо выяснить, вдруг это важно.
– Левбердон? – говорит она удивленно. – Левый берег Дона, ну вы что.
Она рассказывает, что работала официанткой. Когда тебе двадцать, у тебя красивые ноги и приличное летнее платье, ты можешь устроиться на работу куда угодно, нет, правда, хоть в «Петровский причал», хоть в «Тет-а-тет»: хрусталь, крахмальные скатерти, трехзначные чаевые… Южнорусские девки, красивые, гладкие, загорелые, очень быстро выходили замуж – прямо из официантских форменных юбочек прыгали в дорогие подвенечные наряды, и не всегда за местных, ростовских миллионщиков, но часто и за заезжих, московских.
– Я была такая дура, – говорит она с улыбкой, запрокидывает голову, делая глоток, и морщится. – Я влюбилась. Его звали Алёша.
Она проработала недели две, может быть, три, не успев ещё покрыться плёнкой от липких взглядов, не разучившись ещё краснеть от сальных фамильярных нежностей; он сказал: «ты устала, наверное, бегаешь весь вечер, не присела ни разу, у тебя ноги не болят? Хочешь, посиди со мной». И она сразу же села на белый стул с гнутыми ножками и зеленой обивкой, прямо в черном коротком костюме официантки, поставила поднос с чужими какими-то рюмками на край стола и посмотрела на него. Она смотрела и смотрела, даже когда Боря-администратор, краснолицый, взмокший, возник у неё над левым ухом и зашипел почтительно-яростно «ты что, сука, делаешь, а ну-ка встала быстро», она не повернула головы, просто отодвинула этот чертов чужой поднос от себя подальше и сидела очень прямо, не шевелясь, и тянула шею до тех пор, пока кто-то другой (возможно, тот же Боря) не принёс пухлую кожаную книжечку со счетом, которая освободила её и от его шипения, и от кусачего форменного платья, и ото всей прежней жизни разом.
Она прожила с Алёшей до самого своего двадцатитрехлетия в странной полупустой квартире, куда изредка наведывалась хмурая тощая квартирная хозяйка, словно нарочно выбиравшая для своих скучных тягостных визитов дни, когда Алёши не было дома. Три года, целых три года она провела в точно такой же обмирающей завороженности, какая случилась с ней прямо посреди звяканья вилок по фарфору, приказов «четыре шашлыка, два столичных и ноль семь „Пшеничной“ на восьмой столик» и бесконечного «левый, левый, левый, берег Дона». Три года – не выныривая на поверхность, не задавая вопросов. «Не приходя в сознание», – говорит она сейчас, не улыбаясь больше, и снова отхлёбывает из кружки. Немного, просто чтобы не замёрзнуть.
Он был совсем не богат, этот её Алёша, и в роскошный разгульный кабак на левом берегу попал совершенно случайно. Вернее, не так: деньги иногда появлялись у него из ниоткуда, словно сами по себе, и так же легко ускользали, просачивались сквозь пальцы. В их жизни случались месяцы, когда рацион их состоял исключительно из дешёвых южных овощей и пьяного молодого местного вина, а потом он мог пропасть на несколько дней, и вернувшись, небритый, с темными кругами под глазами и тяжелым, жарким спиртным духом, прокричать прямо с порога «Маруся, собирайся, мы летим в Сочи!», и на три дня они меняли свою ободранную комнату на гостиничный полулюкс с хрустящими простынями и холодными зеркалами, катили с мрачными диковатыми таксистами по оледеневшему серпантину в Дагомысское казино, пили приторно сладкий сочинский херес и курили на гостиничном балконе, закутавшись в кусачие шерстяные пледы, бросая окурки вниз, на присыпанные нестойким мартовским снегом пальмы. За три года они были в Сочи два раза, и оба раза зимой; «ну и что, – говорит она, – к чёрту пляжи, если ты родился в южном городе, пляжей тебе хватит до конца жизни, дело было не в этом».
Он покупал ей платья на глазок, без примерки. Приносил их домой свернутыми в трогательные тонкие кулёчки и разбрасывал по смятой кровати, а она непременно должна была надеть обновки немедленно, тут же, даже если это случалось посреди ночи; и она с готовностью надевала, поджимая пальцы босых ног на холодном скрипучем паркете. В те дни, когда его не было, она просто сидела у старенького черно-белого телевизора, переключая программы, грызла яблоки, много спала и слушала шаги на лестнице, не занимая себя ничем, как будто стоило ей отвлечься от ожидания, он не вернулся бы вовсе. Она была почти готова к тому, что наступит день, когда он не вернется.
Хмурый бакелитовый телефонный аппарат, установленный в прихожей, иногда разражался пронзительными старомодными трелями. В неподъемной причудливо изогнутой трубке раздавались сердитые чужие голоса. Звонящие мужчины и женщины, особенно женщины, требовали только Алёшу, а она оставалась для них всего лишь невзрачным голосом, нежелательным препятствием, и ни разу неожиданные звонки не предназначались ей; хотя ей всё равно некому было звонить, за три года она так и не выучила последовательность цифр, заставлявших черного, кисло пахнущего монстра просыпаться. Алёша не любил телефонные звонки и часто выдергивал аппарат из розетки сразу же, переступая порог. Пока его не было, она держала телефон включённым – просто так, на всякий случай, хотя Алёша никогда не звонил ей. Он просто появлялся и уходил, и опять появлялся.
Когда Алёшу убили – ровно на десять лет позже, чем всех остальных, оставшихся в прошлом, опасном и сумасшедшем десятилетии, – она, пожалуй, совсем не удивилась, словно с самого начала знала, что никакое будущее – степенное взросление, дети, горка с бледным сервизом «Мадонна» – с ним невозможно. Словно это добровольное заточение, на которое она согласилась, которое сама себе устроила, было не более чем временным, постепенно теряющим силу подношением каким-то неумолимым закономерным правилам, банальной отсрочкой. Она сняла телефонную трубку, и слушая голос на другом конце провода, успела даже подумать – «а почему Северное?» Это кладбище было самым дальним, на противоположной окраине, за мостом. Звонивший был сух и деловит: просто назвал ей адрес и номер дорожки. Он даже не сказал, что случилось, а она была слишком поглощена усилием запомнить, куда и когда ей следует явиться, чтобы задавать ещё какие-то вопросы; она и не задала их – просто не успела, и даже не спросила имени этого анонимного вестника, оно бы ни о чём ей не сказало, это имя, всё равно не связалось бы ни с одним из скучных, плоских, посторонних лиц, всплывавших время от времени и замечаемых разве что краем глаза.
На кладбище она опоздала – не нарочно, а потому, что долго искала могилу в паутине одинаковых утыканных гранитом дорожек. К тому же, ей попался сварливый таксист, потребовавший доплаты из-за пробки, в которую их угораздило угодить по дороге, и лишних пять минут она провела в машине у въезда на кладбище, испуганно роясь в сумочке. Выискивая под его неодобрительным взглядом смятые десятки, она была остро ему благодарна, сама не понимая толком, за что именно.
Место, где Алёшу должны были хоронить, она определила по небольшой, но плотной толпе людей. Люди стояли очень тесно, и одновременно как будто старались не оказаться в первом, ближайшем к гробу ряду, словно боялись, что именно от них потребуется демонстрация самого интенсивного горя или, предположим, знание каких-нибудь специальных, важных ритуалов. Возможно, поэтому они с готовностью расступились, позволили ей подойти поближе. Незнакомая молодая женщина с некрасивым опухшим лицом лежала поперёк гроба и кричала ужасным, диким и как будто злым голосом, и она сразу почему-то угадала в ней Алёшину жену. Минуту или две она стояла возле самого гроба, возле голосящей женщины, и слушала неловкий принуждённый крик, и не знала, куда девать руки, а потом несколько крепких низкорослых тёток с такими же, как у жены, маленькими скуластыми личиками, похожими на мордочки каких-то хищных маленьких зверьков, внезапно выделились из толпы и оттёрли её назад, за чужие спины. Под их взглядами (которых она не видела, но предполагала) она и простояла добрых полчаса на леденеющих ногах, так что в очереди, образовавшейся наконец для прощания, оказалась почти последней. Очередь эта облегченно, скоро продвигалась вперёд, перетекая, как песок из одной склянки в другую, от приличествующей событию размеренности – к перспективе поминок, и шагая по холодной утоптанной земле, она чувствовала только неловкость и острое желание, чтобы всё поскорее закончилось. Подойдя, она опасливо и быстро нагнулась, и тут же упёрлась взглядом в широкую аляповатую ленту, лежавшую поперек Алешиного лба, в толстый слой жизнерадостно-кирпичного грима, покрывавшего Алёшины мёртвые щёки. И не прикоснулась, не поцеловала, прошла дальше.
Именно это в похоронах запомнилось ей сильнее всего – чувство неловкости от неявных, ни разу ею не перехваченных, но от этого не менее материальных чужих взглядов, как будто следивших за тем, чтобы она не посмела нарушить приличия или как-нибудь, не дай бог, превзойти степень горя, закреплённую здесь, на этом кусочке пространства, за совершенно другой женщиной; и ещё – абсолютную поддельность всего увиденного: и похожий на школьный пенал, обитый цветной бумагой лиловый гроб, выложенный изнутри блестящим каким-то подкладочным ситцем с торчащими из швов дрожащими на ветру нитками; и чужой, неузнаваемый предмет, лежащий внутри, укрытый покрывалом, больше всего напоминающим накрахмаленную тюлевую занавеску; и искусственные аляповатые цветы, свёрнутые из той же бумаги, с толстыми пластмассовыми черенками; и даже сами скорбящие, как будто исполняющие тягостную, нелюбимую роль. Всё было ненастоящим и не имело к живому Алёше никакого отношения.
Ей очень хотелось незаметно уйти, но она не посмела – скорее всего, из-за того же самого чувства неловкости, и послушно стояла, глядя себе под ноги, пока гроб накрывали крышкой и опускали, пока швыряли горстями землю, и даже потом, когда четверо куривших в сторонке мужчин ловко, в несколько минут забросали яму и соорудили над нею угловатый, прибитый лопатами курганчик; до тех пор, пока всё не закончилось на самом деле. Она даже потащилась за всеми этими людьми, когда они потянулись на выход с кладбища, закуривая и потихоньку переговариваясь; пошла следом машинально, без мыслей, и остановилась только возле кособокого ритуального автобуса, в котором хлопотливые деловитые родственницы Алёшиной жены принялись уже рассаживать и грузить, и из закопченных недр которого нет-нет, да выныривал уже робкий отрывистый хохоток. Только тогда она шагнула в сторону и исчезла, ускользнув, наконец, из-под их наблюдения, которого, возможно, и не было на самом деле.
Из квартиры, три года бывшей ей домом, а теперь, без Алёши, превратившейся просто в пустую бессмысленную бетонную коробку, ей не удалось забрать ничего. Хозяйка, каким-то загадочным образом узнавшая о смерти основного своего квартиранта в тот же день, наложила категорическое вето и на жалобную кучку красивых тонких платьев, и на полупустую шкатулку с серёжками и колечками – доказательства их с Алёшей время от времени случавшейся сытой жизни. Просрочки с уплатой аренды, которые до времени прощались улыбчивому Алёше, сложились, по хозяйкиному мнению, в некую довольно весомую сумму, объявленную в дверях, прямо поверх головы меняющего замок слесаря. Сама попытка оспорить это решение или даже остаться – пусть и на других условиях – была бы напрасной тратой сил, ненужным самообманом. Трёхлетнее ожидание неслучайного, неизбежного финала закончилось не на кладбище, а только что, в пахнущем кошками подъезде, и можно было только повернуться и уйти, чувствуя, пожалуй, даже что-то похожее на облегчение.
Тем временем там, куда она возвратилась, ровным счетом ничего не изменилось: те же неудобные форменные юбочки, хохот, густые кухонные ароматы, тот же неубиваемый «левый, левый, левый берег Дона». Только теперь она приняла это по-другому, спокойнее, готовая оплатить, выкупить три беспечных, случайно доставшихся ей года, на которые продлилось её детство. Правда, и этого выкупа с неё не взяли. Не прошло и шести месяцев, как она уже ехала в Москву, замужняя, с тяжелым кольцом на пальце, в богатую и правильную, совершенно безопасную жизнь.
Здесь она делает паузу и облегчённо, в три больших глотка, допивает разведённый водой спирт, от которого передёргивается вся целиком: острые колени, узкие плечи, защищённые от холода ультратонким гибридным материалом (мембрана, утеплитель, встроенный климат-контроль). Мы молчим тоже, наблюдая за тем, как она допивает, как вытирает губы рукавом. «Какая же гадость, – говорит она, – господи, какая ужасная гадость этот спирт», и мы спрашиваем: «Ты что же, получается, совсем его не любишь?» «Кого?» – уточняет она с удивлением. Три глотка мгновенно расцвечивают её лицо ровным жарким румянцем, веки поднимаются как будто с задержкой. Она всё уже рассказала, она устала рассказывать, ей не хочется больше говорить.
Мы не задаём других вопросов, потому что не существует подходящего, необидного способа произнести «брак по расчету», даже сейчас, спустя два часа и два рассказа, спустя двести граммов поделенного на четверых жгучего девяностоградусного напитка. Мы немного ёрзаем и переглядываемся, мы молчим.
– Вы ничего не поняли, – говорит она. – Вы совсем ничего не поняли.
17
Третья история начинается почти сразу же, без перерыва, так что ничего не успевает измениться – ни напряженное внимание, с которым мы слушаем, ни интонация голоса, который ее рассказывает, и если закрыть глаза, то может показаться, что все сегодняшние истории принадлежат нам всем одновременно, в равной степени, настолько мы кажемся себе сейчас похожими, одинаковыми, неразделимыми.
Не было ничего такого… Нет, правда, это было почти незаметно, такие вещи никогда не бросаются в глаза у хорошо воспитанных людей, у цивилизованных людей. А семья, без сомнения, была цивилизованная, это словосочетание часто произносили – ц и в и л и з о в а н н ы е л ю д и – и всякий раз с едва слышным ударением, потому что подчеркивать такие вещи слишком уж явно было бы, разумеется, неприлично. Но она знала, почти с самого начала. Даже когда тебе пять лет, ты уже отчетливо можешь определить, что тебя не любят, пусть и не понимаешь пока, почему.
Нелюбовь состоит из мелочей, которые, складываясь одна к другой, рано или поздно приводят в одну точку. Например, пауза, микроскопическая пауза перед каждой адресованной тебе улыбкой: лицевые мышцы приходят в движение, уголки губ поднимаются медленно, нехотя, и сразу же снова падают вниз, словно побежденные собственной тяжестью. Например, легкое, еле уловимое напряжение коленей, на которые ты взбираешься; тебе четыре, и ты еще не поняла, твой мир очень прост, и в нём нет места оттенкам. Мгновенное, кратковременное оцепенение тела, которое ты обнимаешь обеими руками, секундная задержка дыхания – это не отвращение, нет, просто нелюбовь.
Стоило ей понять, что ее не любят (точнее, не так – ему было скорее всё равно, он был рассеян и скорее послушно совпадал с чувствами своей жены, словно собственных ему и не полагалось иметь, это именно она, она её не любила), и девочка немедленно отгородилась, выстроила невысокую, но плотную оборону. Это открытие не было болезненным, оно просто вписалось в общую картину мира, которая в тот самый момент постепенно начала проступать, обрастать деталями, как фотоснимок в проявителе. Ей хватало любви и без этих двоих, её бабушки и деда, она не нуждалась в ней и не чувствовала себя обделённой – нисколько, и не намеревалась даже пытаться переломить существующее положение вещей, доказывать свою годность, заслуживать одобрение. Вовсе нет.
Её приводили к ним дважды в месяц. Регулярность визитов, видимо, тоже была обусловлена цивилизованностью семьи в целом, и именно это статусное соблюдение родственных принципов было почему-то очень важно её маме, которая, конечно же, не могла не заметить этой нелюбви, она наверняка увидела её раньше, чем девочка, но по какой-то причине продолжала длить присутствие их обеих на семейных обедах – с непременным фарфором, супницей и соусниками, с кольцами для салфеток, с накрахмаленной до хруста древней скатертью и шеренгой выложенного по росту почерневшего острозубого фамильного серебра. Иногда девочке казалось, что даже если бы их перестали приглашать, мама всё равно продолжала бы настойчиво являться под трехметровую монументальную дверь каждое второе воскресенье, хотя семьей в настоящем смысле этого слова – по крайней мере, для мамы – люди, жившие за этой дверью, могли называться в течение каких-нибудь шести месяцев, и очень давно: четыре, пять, шесть и больше лет назад.
Маму они не любили тем более. Девочка хотя бы имела право считаться носителем каких-нибудь дремлющих наследственных признаков, в то время как женщина, родившая её, была не более чем нежеланным чужаком, вторгшимся и разбившим неприкосновенное приличное ядро этой прохладной семьи, так никогда и не сумевшей одобрить внезапный второй брак единственного сына. От бури, разразившейся незадолго до девочкиного появления на свет, сегодня остались только тени, безупречно заглушённые вежливостью, но по-прежнему осязаемые. Несмотря на то, что сын, не дождавшись даже первого дня рождения своей дочери, снова, задёргавшись, вырвался и исчез теперь совсем, уехал в другой город, лишив таким образом своих негодующих родителей возможности выразить своё неодобрение (а возможно, именно благодаря тому, что неодобрение это больше некому было выразить), всё оно целиком, без остатка, досталось этим двоим – второй невестке и ее дочери. Неодобрение было тихим, неявным, образцово корректным, и от этого почему-то еще больше бросалось в глаза.
Нельзя сказать, чтобы такая принужденная вежливость не стоила усилий всем четверым ее взрослым соучастникам – родителям беспутного беглеца и двум его оставленным женам, собиравшимся за обеденным столом. Однако мысль о том, что эту традицию, соблюдаемую с железной пунктуальностью, можно бы и прекратить, теперь, спустя шесть лет, уже никому не приходила в голову; по незыблемому убеждению деда с бабкой, прошедшего времени было с лихвой достаточно для того, чтобы правильно воспитанные люди сумели справиться с любыми эмоциями, и если невестки и обладали собственным мнением по этому поводу, они оставляли его при себе. Обеды эти больше всего походили на допросы или, скорее – на долгий многочасовой экзамен, который его неизменным жертвам приходилось держать сразу по всем дисциплинам: отвечая на вопросы, касавшиеся их редких успехов и очевидных неудач, они обязаны были еще следить за тем, чтобы не капнуть соусом на скатерть и выбирать правильные столовые приборы. С другой стороны, это избавляло их от необходимости общаться между собой; на это им просто не хватило бы времени.
У двух девочек, приводимых на эти обеды матерями, была разница в восемь с половиной месяцев – невозможная у родных сестер. Словно понимая это, они не спешили ими быть; тем более, что старшая из внучек единственная могла, пожалуй, похвастаться хоть каким-то подобием приязни в этом просторном и бесстрастном доме. Именно в ней последовательно обнаруживались способности – к музыке, с немедленной покупкой почти насильно врученного ее матери немецкого фортепиано; к языкам – после чего наступило время долгих настойчивых разговоров о необходимости посещения далеко расположенной, но прекрасной спецшколы. У старшей внучки было имя – ее звали Лиза, а к младшей чаще всего именно так и обращались – девочка, как будто у нее не было имени вовсе, как будто они никак не могли его запомнить. «Девочка, не прислоняйся к обоям, – произносила бабушка, при этих словах разглядывая её без улыбки, внимательно, словно видела впервые. – Девочка, суп необходимо доесть. И убери, будь добра, ноги от диванной обивки».
Словом, Лиза заняла всё их сердце без остатка, словно оно было совсем неглубоким, это их сердце, и места в нем хватило лишь для одной внучки, а для второй ничего уже не осталось. Когда-то, вероятно, эта пристальная благосклонность безраздельно принадлежала общему отцу обеих девочек, но он жил теперь далеко, в другом городе, за пределами сферы влияния своей матери, и даже обзаводился там, кажется, какими-то еще детьми, избавленными уже в силу самой географии от обязанности как-то соперничать за внимание деда и бабки, оставшихся в Москве, в зияюще огромной профессорской квартире на Ленинском проспекте.
Взрослея, девочка поймала себя на мысли, что, возможно, её не полюбили именно из-за разочарования, которого не случилось ещё в момент рождения старшей внучки, и что ровно такая же судьба постигла бы всякого следующего отпрыска её непостоянного отца, появись он на пороге.
Сама Лиза, разумеется, была ни в чём не виновата, но младшая сестра всё же однажды как следует отлупила её; не от обиды, нет, просто ради восстановления справедливости. Это был самый простой, самый доступный способ раз и навсегда разрешить все прошлые и будущие асимметрии: в тихой библиотечной комнате с тускло поблескивающими из-за стёкол собраниями сочинений, сидя верхом на старшей, рыхлой, нарядно-розовой, не ожидавшей нападения, заталкивая той в рот её же собственные туго скрученные косы, девочка внезапно ощутила отсутствовавшее в течение долгих шести лет родство и поняла, что теперь они сумеют, наконец, подружиться. Именно это и произошло, в тот же самый воскресный день, немедленно после драки, и никогда больше не прекращалось, до самой Лизиной смерти (до которой было ещё далеко). И девочке оставалось только сожалеть о том, что взрослые не способны воспользоваться тем же – очевидным! – рецептом для того, чтобы разом разрешить собственные противоречия, а вместо этого проводят за общим столом мучительно долгие неприязненные часы, говоря о пустяках, притворяясь родственниками.
Теперь, когда она исправила всё, что было в её силах, ей оставалось разве что наблюдать. Взгляд её, лишённый снисходительности, свойственной только любимым детям, безжалостно подмечал все мелочи. К примеру, она безошибочно определила момент, когда эти два нестарых ещё человека перестали вместе спать. Им было чуть более шестидесяти, когда их неприятная, возмутительная с точки зрения выросшей без отца девочки, плотская привязанность друг к другу, которая проявлялась в бессчетном количестве крошечных прикосновений, задержавшихся ладоней, в прочих неприличных деталях и даже в самой природе заискивающей второстепенной – домашней – роли, которую принял на себя дед, являвшийся для остального мира, бесспорно, человеком гораздо более значительным, чем его никогда, ни минуты не работавшая жена, – эта самая привязанность внезапно исчезла без следа, превратив их сожительство в бесполое бытование в разных спальнях. При этом, хотя в пятикомнатной квартире имелось достаточно места, дополнительная спальня так никогда и не была обставлена соответствующим образом. Одна из комнат всего-навсего внезапно изменила запах, внешне никак не преобразившись; и отметив это, девочка поставила первую галочку в воображаемом, до этого дня даже не существовавшем списке. Это означало, что непроницаемая броня безупречной сплоченности, много лет подавлявшей четверых заложниц, призываемых два раза в месяц для бесстрастного осмотра, дала трещину, потому что их экзаменаторы и судьи не были больше едины.
Она начала вести свой список, когда ей было уже около четырнадцати. Старшая из сестёр в этот самый момент взбрыкнула и почти перестала бывать у деда с бабкой, появляясь разве что изредка, по праздникам, и младшей было уже понятно, что она имеет полное теперь право поступить так же, но ей не хотелось оставлять маму в одиночестве. Мама штурмовала неприступный крепостной вал своей несостоявшейся семьи много лет подряд легко и весело, не меняясь в лице, но по пути – туда и, в особенности, обратно – была всегда необычно молчалива, так что девочка продолжила приезжать, ощетинившись, вооружившись нелюбовью (теперь уже своей собственной), готовясь защитить – не себя, маму – при малейшем намеке на нападение; маленький оруженосец на войне, о правилах и причинах которой ему не сказали.
Перечень разломов, изуродовавших еще недавно неуязвимый фасад, которым бабка и дед поворачивались к миру, пополнялся со всё возрастающей скоростью, перешедшей буквально в галоп в тот год, когда дед неожиданно даже для себя самого вышел на пенсию, словно именно социальный статус, теперь обрушившийся, и держал эту семью на плаву так долго. С этого момента каждая мелочь – телефонный звонок от бывших коллег, учеников или почитателей, перепечатанная где-нибудь давно написанная статья, приглашение по старой памяти почетным гостем на какое-нибудь околонаучное мероприятие – словом, всё то, о чём раньше за обеденным столом не говорили вовсе, обсуждалось сейчас всесторонне и в мельчайших деталях, но событий этих становилось всё меньше и меньше с каждым месяцем, и разговоры о них, многократно повторённые, натягивались теперь на разом опустевшую жизнь вышедших в тираж стариков неловко, как худое одеяло.
Семейный распорядок остался неизменным. После обеда дверь кабинета закрывалась за дедом, и с этой минуты говорили уже вполголоса, но даже бабушка не употребляла больше слова «работает» применительно к его привычному дезертирству: никакой работы давно уже не было. Были стопки газет и ветхий, обтянутый лопающейся свиной кожей диван, который (всякий раз, когда девочке случалось заглянуть за очередным доказательством) хранил в предательских вмятинах тепло только что поднявшегося грузного тела. Кисло пахло табаком и аптекой, и всё чаще – спиртным.
Не заметить нетвердой походки, слезящихся глаз и появившейся нездоровой отечности в породистом дедовом лице было невозможно; но об этом не говорили. Даже когда бутылка армянского коньяка (с унизительно небольшим количеством звездочек), пробив, очевидно, бабкино свирепое сопротивление, заняла полноправное место посреди обеденного стола. Даже когда дед принялся назойливо предлагать невесткам и поджавшей губы жене «капельку, для сосудов»; даже после опрокидывания соусника, оставившего на белоснежной скатерти оскорбительное неровное пятно – прогрессирующий алкоголизм хозяина дома всё ещё держался за кадром, существуя словно бы сам по себе. Но трюм был пробит, и вода поступала внутрь уже не ручейком, а широким потоком, и непоколебимые бастионы приличий начали падать один за другим. Девочка подмечала теперь неостановимый, стремительный распад не из злорадства, а просто чтобы убить время, потому что ей нечем было больше заняться: первый неотстиранный след на скатерти, пересоленный суп, следы пыли на всегда сверкавшей полировке, неприглаженный, неприятно подрагивающий седой вихор на дедовой макушке. Запах – непобедимый, несвежий, стариковский, начинавший исходить от них обоих. Даже сама величественная квартира, казалось, прямо на глазах блёкла и выцветала, словно старая фотография.
Дотерпев до своего двадцатилетия, девочка смогла, наконец, последовать примеру сводной сестры и начала понемногу пропускать визиты: гидра осталась без зубов и была уже не опасна. В редкие разы, когда младшая внучка изменяла своему решению, ей уже можно было многое из того, что не позволялось раньше – прислоняться к обоям, оставлять суп недоеденным, прижиматься подошвами к вытертой обивке дивана, курить в форточку на кухне, не опасаясь разоблачения – шаркающие, натужные бабкины шаги по рассохшемуся паркету слышны были теперь задолго. Безобразная старческая беспомощность давно превратила девочкину непримиримую, тщательную вражду в почти равнодушную брезгливость, и казавшаяся вечной готовность к обороне окончательно уступила место скуке.
Некоторое разнообразие (незадолго до смерти деда) внесла некрасивая, абсолютно уникальная за все эти годы сцена, начавшаяся с известия о том, что блудный отец, брошенный в своём захолустье очередной неблагодарной женой, свалился с инфарктом и прозябает теперь в тисках бесплатной провинциальной медицины. «Ему будет лучше здесь, – с вызовом объявила бабушка, произнесшая имя своего сына впервые за долгое время, в перерыве между жидковатым супом и подгоревшим вторым, – в конце концов, это его дом». Старшая из невесток после этих слов немедленно потемнела и затряслась, испугав и удивив не только стариков, но даже собственную дочь. «Его дом! – кричала она, – его дом, черта с два, семнадцать лет! Сем-над-цать лет подряд!.. Ему было – плевать!.. Есть вы или – нет! А мы… каждый месяц! Каж-дый ме-сяц!»
Именно в этот скандальный день две женщины, когда-то страшно давно делившие одного единственного никчёмного мужчину и не ставшие с тех пор не только ближе, но как будто ещё больше отдалившиеся из-за принуждённого присутствия за общим столом, где они, пожалуй, ни разу так друг к другу и не обратились, не заговорили прямо, без посредничества властного матриарха, впервые скомкали визит и распрощались, не дожидаясь обязательного кофе, остановились возле подъезда, и словно по команде, одновременно закурили, не спеша разбегаться по противоположным автобусным остановкам. Обе их дочери встали тут же, рядом, заинтригованные и любопытствующие.
«Пятикомнатная квартира, – произнесла, вдохнув разом полсигареты, одна из женщин, и губы сложились у нее в горькую гримасу, словно она собиралась сплюнуть эти слова на изъеденный весенний снег под ногами. – И эта гнида сейчас примчится, держась за сердце, и развалится посреди, и всё, понимаешь? И всё».
«Ну и что?» – сказала вторая, аккуратно и собранно стряхивая пепел, и пожала плечами.
«Ну и что? Ну-и-что?! А зачем мы тогда? Зачем ты тогда?!»
«Не за этим», – легко, равнодушно ответила младшая и улыбнулась.
Её собеседница яростно зашвырнула окурок в обнажённый, беззащитный околоподъездный палисадник, и не прощаясь, зашагала прочь, повторяя недоверчиво, зло – «не за этим, не за этим! твою мать, не за этим!»
Много лет спустя, когда ни деда, ни бабки не было в живых, а безжалостный неразборчивый рак почти уже превратил маму в бессмысленный, обезумевший от боли кусок мяса, в один из редких моментов подаренного опиатами облегчения она, наконец, ответила давно выросшей дочери на вопрос, который та ни разу так и не решилась задать. «Я отказалась от завещания, – сказала мама, блуждающе, потусторонне улыбаясь. – Эта старая жаба всю жизнь считала, что я терплю её ради квартиры. Ради её вонючего вытертого серебра. Она мне предложила… ты не знала?.. она предложила… какой-то договор ренты – в обмен на квадратные метры. Я отказалась. Но продолжила. Туда ходить. Я выносила за ней судно. За этой сукой. Которая никогда. Меня не любила. Тебя. Не любила. Я её мыла. Я. Её. Похоронила. Эту. Суку. Эту… суку».
Дочь сидела рядом, крепко держась за сухие жёлтые пальцы, слушала прерывающиеся, пропадающие вдохи и выдохи, и природа этой мстительной, непримиримой, растянувшейся на тридцать с лишним лет битвы характеров постепенно, впервые разворачивалась у неё перед глазами. «Какого чёрта, – хотелось ей сказать, – мама, ну какого же чёрта». Но говорить это было уже некому.
Мы сидим безмолвно, изумлённые, пожалуй, даже недоумевающие. Слишком уж то, что мы услышали, отличается от двух предыдущих рассказов – сильнее, чем они друг от друга. Мы чувствуем, что обязаны как-то отреагировать, произнести хотя бы что-нибудь, но не можем найти подходящих слов; мы даже не переглядываемся, мы упорно смотрим себе под ноги. Было бы здорово выпить сейчас за что-нибудь. А может, было бы здорово просто выпить вообще, безо всяких поводов, без слов, но спирт закончился весь, без остатка, и порожняя бутылка без этикетки бессильно лежит сейчас, опрокинутая, чуть в стороне, мутно поблескивая зеленым боком.
Она обводит нас взглядом. Мы чувствуем это, не поднимая глаз. Она оглядывает нас, одну за другой, и читает нашу растерянность и разочарование.
– Вы что, правда думали, я о нём буду говорить? – спрашивает она насмешливо, с вызовом. – Нет, серьёзно? О нём?
Я успеваю ещё подумать о том, что и мне теперь (сейчас моя очередь) неловко, нехорошо, нельзя говорить о нём, а ведь я, наверное, больше ни о чём другом уже не умею говорить. И тут откуда-то снаружи, не-издалека, прямо над ухом раздаётся треск обмороженных веток и хруст шагов по снегу. Пёс, встрепенувшись, взвивается, выгнув дугой жёлтую худую спину, и рычит – тяжело, низко, предупреждающе. Мгновение-другое мы рассматриваем туго зашнурованные ботинки, прорвавшие оранжевый и непрочный дрожащий круг света, отбрасываемый нашим костром, и только потом набираемся смелости и смотрим на него.
– Уютно у вас, – говорит Анчутка, улыбаясь нешироко и скупо. – Гостей принимаете?
Он один. Больше никто не пришёл.
18
Прежде, чем мы успели задаться вопросом, что ему нужно здесь, зачем он перешёл озеро в темноте, один; прежде даже, чем мы успели испугаться по-настоящему, Ира легко и быстро вскочила, и пошатнувшись совсем немного, потянулась и выдернула из сугроба топор – тяжелый, с гнутой исщерблённой рукояткой, и встала ровно между, отгородив нас, всё ещё сонных, раскисших, медлительных, от Анчутки, стоящего в десяти шагах. И вздёрнула подбородок. Застыла, широко расставив тонкие ноги. Топор, тускло поблескивая толстым рыжим лезвием, слабо качался в её руке. Поднимайся, сказала я себе, поднимись сейчас же, и оглядела вспаханное рыхлое пространство вокруг костра. Ноги совсем не слушались, ватные от страха и спирта одновременно. Она была где-то здесь, совсем рядом, я только что её видела… Мне пришлось встать на колени и погрузить руку в холодную снежную кашу, обжёгшую пальцы, и только тогда я её нащупала; толстое стекло уже успело покрыться невесомой ледяной сеткой, мгновенно превратившейся в воду внутри моей испуганной ладони, но я ухватила бутылку, как могла крепко, за узкое скользкое горло, и с трудом поднялась, остро жалея о том, что мы столько выпили. Идиотки, сколько же мы выпили? Кажется, нужно сейчас разбить её, непременно нужно разбить, иначе не будет никакого толка; если просто ударить по этой крупной тяжелой голове, бутылка всего-навсего лопнет, как лобовое стекло в автомобиле, рассыплется на неострые одинаковые осколки.
Вокруг, как назло, не было ничего твердого. До мостков не добежать – далеко, а её нельзя, никак нельзя было оставлять там одну с этим ее дурацким топором, она и поднять-то его не сможет, наверное, не говоря уже о том, чтобы как следует размахнуться. Я перехватила бутылку поудобнее, ругая себя за слипающиеся глаза, за то, что предательская вытоптанная полянка медленно, тошнотворно вращается вокруг моей головы, за то, что каждое простое движение стоит мне таких чудовищных усилий, – и шагнула к ним, замершим лицом к лицу, разделенным только невысоким, бессильным огнём и оскаленной тощей собакой, и встала тоже, чувствуя жар, исходящий не от пламени, а от хрупкого узкого тела рядом, мечтая об одном – не упасть раньше времени.
Еще через секунду позади меня (отворачиваться, чтобы посмотреть, было нельзя) вдруг захрустело, завозилось, и я почувствовала прикосновение – слабое, скользящее, где-то на уровне коленей.
– Сейчас, – сказала Марина снизу, из-под моих ног. – Сей… час.
Ухватилась крепче, за нижний край моей куртки, потом за рукав, и выпрямилась наконец, пошатываясь, нетвёрдо, и осталась стоять рядом со мной, упираясь в моё плечо. Просто так, сама по себе, без бутылки и без топора, с пустыми руками. А за ней уже поднималась Наташа, подходя с другой, Ириной стороны.
– Топором только не размахивай, – шепнула она неожиданно трезвым, недовольным голосом.
И потом никто больше не двигался и не разговаривал, и глубокая напряженная тишина, нарушаемая только шипением смолы в огне, разлилась и накрыла нас четверых и мужскую широкую фигуру напротив.
Несколько долгих тревожных мгновений он не делал ничего, только медленно, внимательно рассматривал наши глупые, пьяные, беспомощные лица, а потом, когда ожидание сделалось невыносимым, произнёс с задумчивым, неторопливым удивлением:
– Интересные вы, девчонки. Я вообще-то ягод вам принёс.
Он сбросил с плеча рюкзак, тяжело ухнувший нам под ноги, почти в самый костер. Одна из вытертых матерчатых лямок обиженно съежилась, как живая, словно стараясь держаться подальше от жгучих стелющихся огненных языков, и тут же принялась чернеть по кромке.
– Ягод?.. – тупо переспросила Наташа, – ка… ких ягод?..
Вместо ответа он опустился на корточки – одним легким, неуловимым движением, отдернул рюкзак от кострища и распахнул его.
В плотных брезентовых недрах ярко, морозно сверкнуло красным; запустив внутрь обе свои широкие горсти, он приподнял и рассыпал, подставляя нашим взглядам, рубиновые заледеневшие шарики.
– Брусника?.. – выдохнула Марина прямо мне в ухо.
– Брусни-и-ка, – повторила она нараспев, мечтательно, с восторгом, и оттолкнувшись от моего плеча, шагнула вперёд, неловко скользнув ногой по тлеющей, негодующе плюнувшей искрами головёшке.
– Да где же вы.. где же вы взяли столько!.. – говорила она, уже падая на колени возле мешка, уже ныряя внутрь ладонями и ртом одновременно, и осеклась только в самый последний момент, поднимая лицо:
– Можно, да? Можно?
– Кислая! – сказала она с восторгом спустя секунду, с полным ртом. – Кислая, жуть! – и зажмурилась.
Рюкзак оказался набит тяжело, туго, под самые веревочные завязки. Ягоды, видно, были собраны наспех, вперемешку со мхом, подмороженными листьями, ветками и хвоей; мы вычерпывали горстями и жевали, не разбирая, ломкие и горькие ледяные брусничины пополам с листьями и иголками и жевали, сидя прямо на снегу, и не могли остановиться, потому что три месяца подряд мы ели только рыбу и ничего другого.
– Да погодите вы, – сказал Анчутка. – Что ж вы ее прямо так, замороженную. Горло заболит. Хотя я смотрю, вам море сейчас по колено.
Он засмеялся коротко, необидно.
– По поводу пьете или так?