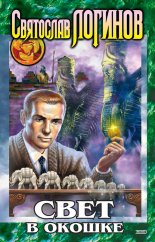Живые люди Вагнер Яна
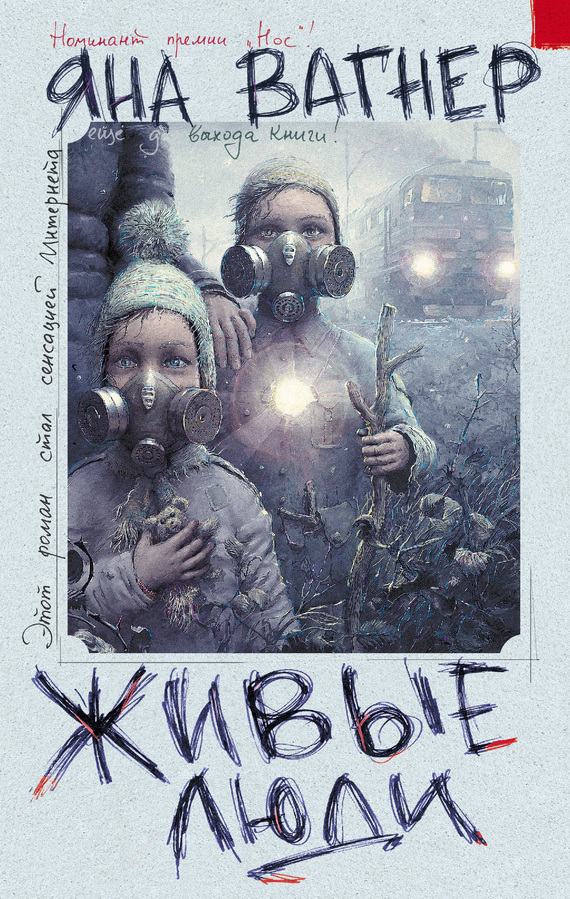
Марина быстро выплюнула в ладонь жесткую лесную шелуху.
– Форель! – вскрикнула она, словно удивляясь тому, что у нашего долгого, наполненного разговорами вечера действительно был повод. – У нас же форель! Мы ее сами… я сейчас…
И вскочила, покачнувшись.
Рыбу Анчутка запёк сам, отмахнувшись от нашей бестолковой помощи, «вы давайте лучше продышитесь, девчонки, сейчас мужики ваши вернутся, а мне оправдывайся, что не я вас поил», и мы послушно расселись вокруг, наблюдая, как он разгребает угли, как пристраивает с краю увесистый серебристый кулёк. Есть не хотелось. Спирт, прозрачный ночной воздух, ровное густое тепло от огня убаюкивали, укачивали, и Анчутка вполголоса, монотонно рассказывал, как скользнувшая с тропы снегоходная лыжа разрезала нехоженый, белоснежный, толстый слой снега, «а там ее густо-густо, целая поляна, девчонки, и ведь недалеко совсем, тут рядом». Закрывая глаза, я увидела и этот снег, похожий на взбитые сливки, и широкий красный разрез, словно след от ножа в боку пышного торта, «странно, что ее не собрали, черт их знает, не нашли, что ли, обычно они тут по осени чешут ягоду как комбайны, у них скребки такие специальные, слышишь, раз махнул – и полкило сразу, хотя, может, некому было чесать уже, перемёрли, может, а то и разбежались». Перемёрли, повторила я про себя равнодушно, проваливаясь в уютную дремоту, перемёрли – и не было больше в этих словах ничего страшного, как не бывают страшными сказки, рассказанная на ночь. Угли шипели; лёгкий, едва уловимый аромат жареной форели робко, опасливо разворачивался у нас над головами, и вдруг тот же спокойный голос произнёс прямо у меня над ухом: «о-па, здорово, мужики», – и я вздрогнула и проснулась.
Вначале виден был только массивный силуэт, безликий, неузнаваемый, и на мгновение мне показалось, что где-то совсем недалеко, в каких-нибудь десятках метров отсюда, за дрожащей и зыбкой границей рыжего свечения костра пространство изогнулось, раздвоилось и по ошибке выплюнуло ещё одну копию человека, уже сидящего здесь, рядом с нами, и что сейчас он подойдет ближе и снова сбросит с плеча набитый ягодами рюкзак. Однако стоило ему подойти ближе, морок рассеялся, и я узнала Лёню. Он тяжело, со свистом дышал, словно большую часть пути с того берега ему пришлось бежать. Он быстро, зло окинул взглядом нас, хмельных и сонных, и заманчиво скворчащую в углях форелину, и бессмысленно брошенную в сугробе опустевшую бутылку, разве что лишнюю секунду задержавшись на Анчуткином улыбающемся лице, а затем нашарил глазами жену и дальше смотрел уже только на неё. Она как раз поднималась ему навстречу, радостно, и заговорила:
– Лёнечка, ну где вы ходите, мы уже и рыбу почти.. – и даже успела сделать шаг или два в его сторону, но он оборвал ее, не дав ей закончить.
– Иди в дом, – сказал он сухо, отрывисто, и эта короткая, вполголоса произнесенная фраза заставила ее замереть на месте, как будто это были не слова, а глухой деревянный забор, внезапно выросший у нее из-под ног.
Она сделала один резкий вдох; похоже было, что она собирается сказать что-то ещё, но тут Лёня задрал подбородок и сделал одно едва заметное, легкое движение головой, и она послушно повернулась и пошла. Он следил за тем, как она нетвёрдо, с усилием шагает, словно взглядом подталкивая ее в спину, и после того, как дверь за ней закрылась, повернулся к Анчутке и произнёс с неожиданной свистящей яростью:
– Ты что здесь, сука, делаешь.
– Лёнька! – раздался папин голос откуда-то из-за Лёниной спины.
– Ну какого чёрта ты рванул? Дрова бросил, кому их за тобой подбирать…
Появившись из темноты, папа тоже задыхался, как после долгой пробежки; следом показались и остальные – Сёрежа, Мишка, Андрей, уставшие, заледеневшие и встревоженные.
– Да он просто ягод принёс, – начала Наташа, тоже поднимаясь, и Лёня, не поворачивая головы, вскинул ладонь, как будто отгораживаясь от всего, что она собирается сказать.
– Я говорю, ты что делаешь здесь, – повторил он и принялся ждать ответа, и только дёрнул плечом, сбрасывая Серёжину примирительную руку.
Анчутка выдержал паузу – долгую, в течение которой снова стали слышны тихие зимние лесные звуки, прерываемые только Лёниным сбившимся, захлёбывающимся дыханием. Потом поднял лицо, не поднимаясь на ноги, и снизу вверх посмотрел на Лёню.
– Неправ, – сказал он серьёзно, без улыбки. – Не подумал. Извини, хозяин. Я и побыл-то всего полчаса. Вовка брусники набрал детишкам вашим, слышишь, поляну нашли под снегом и чего-то так обрадовались, что я сразу и потащил. Надо было до завтра подождать.
Он поднялся и протянул руку, и рука эта несколько мучительных мгновений провисела в воздухе сама по себе, отчетливо освещённая оранжевым светом костра. Наконец, Лёня всё же пожал её. Они стояли друг напротив друга, одинаковые, большие, сердитые мужики, и в том, как были сцеплены их ладони, не было ничего дружеского, ничего мирного.
Когда скрип Анчуткиных шагов растворился в темноте, Лёня вытер руку о штаны коротким, брезгливым движением и сказал хмуро, как будто сплюнул себе под ноги:
– Ну? Кому ещё тут неясно, что именно ему от нас нужно?
19
Форель, которой мы так гордились, осталась незамеченной – её просто равнодушно съели, расставив тарелки на драной клеёнке. Ни одна из нас четверых не смогла проглотить и куска. Марина свернулась калачиком в дальней комнате рядом со спящими детьми, и наотрез отказалась выходить на свет, а спустя минуту после того, как мы вернулись в дом, за перегородкой исчезла и Ира.
– Какого черта ты там устроил? – говорил папа, кромсая беззащитный розоватый рыбий бок алюминиевой вилкой. – Отелло херов. Только наладили всё…
– Правда, Лёнь, – сказал Серёжа. – На фига? Что такого-то? Ну пришёл, ну ягод принёс. Я не понял…
– Зато он понял, – зловеще сказал Лёня, упираясь невидящим взглядом в свою тарелку, прямо в рассыпчатую ароматную мякоть. – Он отлично, мать его, понял.
– Они нам завтра обещали помочь венцы разобрать, – начал Серёжа, – нормально же всё…
– Машину тебе жалко, да, Лёнька? – с полным ртом проговорил Андрей и улыбнулся. – Вот и дружбе конец.
И тогда Лёня вдруг подался вперёд, резко, неожиданно; мне показалось, что он сейчас с размаху грохнет кулаком, и непрочный кривой стол лопнет пополам, развалившись в щепки, но Леня просто навалился на край, широко расставив локти. Тарелки жалобно звякнули, какая-то мелочь поехала, покатилась в стороны, рассыпалась по полу.
– Какая. На хер. Машина. – произнёс он раздельно, яростно, и в конце каждого его слова отчетливо слышна была точка, как будто он перешел на азбуку Морзе. – Какая. Дружба. Ты дружить с ним, блядь, собрался? Он таких, как ты. На обед. По три штуки. Ты в глаза ему заглядывал? Вашу мать, ну откуда вы такие пионеры взялись?
Лёня вскочил и пнул злополучный стол ногой, и одна из тарелок хлопнулась-таки вниз, разметав по чёрным доскам жирные перламутровые рыбные дольки.
– Не ори, детей разбудишь, – сказал Серёжа, нагнувшись, и принялся собирать осколки.
– Ладно, – сказал Лёня.
Он стоял теперь, тяжело свесив руки, посреди тесной комнаты, которая словно была ему сейчас мала и трещала по швам.
– Я не знаю, как вам еще объяснить. Остальные двое – плесень, мелочь, но за этим чёртом надо следить в оба глаза. Не нравится он мне. Ой как он мне не нравится.
– Да кому он нравится-то? – отозвался Серёжа раздражённо – снизу, с пола, не поднимая головы. – Что ты предлагаешь? Мы не стали с ними воевать. Это надо было делать вначале, и мы не стали. А сейчас повод нужен посерьезней, чем мешок ягод.
– Ну что вы несёте, – неожиданно устало сказал Андрей из своего угла. Он больше не улыбался.
– «Мы не стали с ними воевать», – передразнил он Серёжу. – Можно подумать, у нас бы получилось. Давайте совсем откровенно, а? Кишка у нас тонка просто так их взять и перебить. Я боюсь, даже если б у нас был настоящий повод, а не вся эта херня с консервами и ягодами, мы всё равно жевали бы сопли, мирились там с ними как-то, находили общий язык. Ну, разве что морду там набить, ладно, это я могу себе представить. Но ползти через озеро с ножами, чтоб их перерезать ночью – да ладно. Это кино уже какое-то, категория «зет». Это вообще не про нас.
Он с трудом выбрался из-за низенького стола и заходил по комнате, слепо натыкаясь на стены и кровати; два шага в одну сторону, два – обратно.
– И неважно, кто они, эти черти, может, и правда зеки, а может – обычные мужики простые, или не знаю, военные, не в этом дело, понимаете? Дело в нас. Мы кто такие? За каким хреном в этом сраном лесу сейчас нужна твоя высшая математика, Андреич, или Форекс, или Серёгины банковские программы? Мы и сами здесь не нужны. Мы ни черта не можем. Мы вымираем, как динозавры. Мы почти уже вымерли.
– За себя говори, – хмуро сказал Лёня. – Я – не вымру.
Андрей живо повернулся и уставился на него с любопытством, словно увидел впервые.
– Ты, кстати, может и правда не вымрешь, – сказал он после паузы и опять уселся на ближайшую кровать.
– Слушай, я всё хочу тебя спросить – а ты кто? Ну, чем занимался до того, как всё случилось?
– Кто-кто… – ответил Лёня и поглядел себе под ноги. – Издательство у меня. Учебники там, детские книжки. Буквари. Раскраски.
Первым засмеялся Мишка – положил голову на стол, на перекрещенные локти, и мелко задрожал плечами, завсхлипывал, сначала беззвучно, потом всё громче и громче; а за ним захохотали остальные – задыхаясь, хлопая себя по ляжкам, утирая слёзы и кашляя, облегчённо выплёвывая вместе со смехом усталость, разочарование и страх, который так долго душил нас, что мы почти перестали его чувствовать.
– Да что смешного-то, – неохотно, сконфуженно отбивался Лёня. – Бизнес как бизнес, ну чего вы ржёте?
Серёжа, по-прежнему сидящий на полу, поднял к нему лицо.
– Раскраски, – простонал он беспомощно. – Рас-крас-ки!..
И нырнул назад, к расколотой тарелке, к разбросанным кусочкам форели.
– Ну да, раскраски, блин! – возмущённо отозвался Лёня, но широкая его физиономия уже дрогнула, уже разъехалась в улыбке, и спустя мгновение он тоже зафыркал и затрясся, перегнувшись пополам, глотая воздух.
– Ну, всё, – наконец сказал папа и вытер покрасневшее от смеха лицо рукавом. – Спать. С завтрашнего дня на стройку девочек берём с собой. Там осталось-то работы на пару дней: разберём венцы, переправим сюда, ну а здесь уж как-нибудь присмотрим за ними. Спать, спать!
И он первым поднялся и принялся расправлять свой спальный мешок, качая головой и посмеиваясь, повторяя вполголоса, себе под нос: «раскраски, ёлки-палки, раскраски!»
Лежа в темноте, я слушала ровное Серёжино дыхание и думала: ну и что. Ну и что. Даже если мы и в самом деле динозавры. Даже если мы действительно вымерли, и те, кто останется после нас, будут уже совсем другими и совершенно на нас не похожими. Ну и что, подумала я в последний раз и провалилась в сон.
20
На наше счастье, баня была невысокая; каждая стена ее была составлена всего из девятнадцати одинаковых обструганных брёвен, крест-накрест уложенных друг на друга. «Ерунда, – сказал мне Серёжа, – представь, что это конструктор, палочки, всё так просто, перепутать невозможно, подцепил, сбросил вниз, связал, перевёз». На деле же оказалось, что смёрзшиеся, плотно слежавшиеся венцы не желают разъединяться без сопротивления; что ни Мишка, ни папа не в состоянии поднять их; а когда под Лёней проломилась вторая по счету приставная лестница, которую прислоняли к торцу разбираемой стены, стало окончательно ясно, что снимать брёвна, расшатывая их, подцепляя палками, вытаскивая из вырубленных угловых чаш, могут только два человека – Серёжа и Андрей, остальные же способны только раскатывать их, сброшенные в снег, раскладывать по вырезанным на торцах номерам и увязывать веревками. На исходе третьего часа работы Андрей попал себе самодельной киянкой по руке, взвыл от боли и скатился вниз по хлипкой стремянке. «К чёрту, – сказал он, слизывая кровь с ободранных пальцев, – перерыв, Серёга, не могу больше. Так мы до лета не управимся».
Именно в этот момент появился маленький Лёха – щуплый, кривенький, и застенчиво скалясь железнозубым ртом, предложил свою помощь. «Ты давай-ко, отдохни», – сказал он, сильно кая и глядя на длинного Андрея искоса, снизу вверх, а потом взлетел наверх по стремянке легко, словно жилистый камуфляжный муравей, зацепился коротенькой цепкой ногой за выступающий конец венца и завозился деловито, весело, застучал, упёрся плечиком, «ну чего ты? – крикнул он Серёже сверху, – подсоби давай». Серёжа послушно полез назад, и спустя минуту-две сверху посыпался мох, проложенный между венцами, и Лёха тоненько, протяжно, с наслаждением закричал, запел: «раааз-двааа-взялиии… аааащёооо – взялиии!»; почти сразу тяжелое длинное бревно поддалось, сдвинулось, – «пааааберегиииись!» – и упало с глухим стуком, нехотя, невысоко подпрыгнув несколько раз, как увесистый мяч для регби. Через какой-нибудь час количество брёвен, подготовленных к перевозке, почти удвоилось, и когда Серёжа взмолился, смеясь – «слушай, Энерджайзер, дай передохнуть-то», а его место снова занял Андрей, тщедушный Лёха, казалось, даже не запыхался; только узкие его щёки, заросшие неопрятной грязноватой щетиной, запылали свежим, радостным румянцем. «Мох, мох собирайте, – командовал Лёха сверху, – да вон хучь в машину сразу, не мочите только, чтоб сухой был!»
Чуть позже выяснилось, что в паре с Лёхой разбирать венцы может кто угодно – и юный Вова, прибежавший на шум с полным чайником горячего сладкого чая и добрых полчаса пританцовывавший внизу прежде, чем настала его очередь, и даже Мишка. Подгоняемые напевными Лёхиными мантрами «пошла-пошла-пошлааааа» и «взялииии!.. взялиииии!», все они будто проснулись, оттаяли и заработали нетерпеливо, скоро, жадно, и добрались до оконных коробок еще до темноты. Пластиковый кунг Андреева пикапа был к этому моменту почти доверху забит высушенным мумифицированным мхом. Заводить пикап раньше времени мы не стали, и бегая туда и обратно, не только протоптали широкую, щедро присыпанную мхом тропу от разбираемой бани до площадки с машинами, но умудрились даже почти не замёрзнуть, как будто и мороз, обязательный, привычный, ежедневный – сегодня решил отступить, дать нам передышку.
Анчутка показался только ближе к вечеру, когда начало темнеть. Вначале раздался рокот мотора, потом редеющий к краю ельник прорезал бледный расплывчатый луч света, и спустя минуту громыхающая одноглазая машина подъехала к бане, сделав, прежде, чем остановиться, последний лихой вираж и плюнув липкой снежной струёй в полуразобранную стену. С Анчуткиным появлением оба его товарища, как мне показалось, несколько погасли. Выбравшись из седла, он негромко подозвал Вову и всучил ему свой раздутый рюкзак – «ну-ка, прими», – скомандовал он, и Вова послушно подставил тощие плечи. Я подумала было, что внутри вторая порция ягод, собранных где-то в лесу, но в брезентовых недрах что-то глухо и тяжело зазвякало, а долговязая Вовина фигурка перекосилась и осела под этим загадочным грузом. Поймав мой любопытный взгляд, Анчутка весело, таинственно подмигнул мне, и оба скрылись в своей обжитой избе. Спустя мгновение за ними бочком ускользнул и Лёха, с сожалением воткнув деревянные инструменты в ближайший сугроб.
– Ну, что, пошли что ли? – сказал папа, когда мы остались одни. – Темнеет. Ещё один такой день – и всё, ребята, послезавтра повезём.
Свистнув пса, с энтузиазмом рыскавшего весь день в полузасыпанных снегом окрестностях изб, мы потянулись к озеру – уставшие, довольные, негромко переговариваясь и мечтая о горячем ужине. «Бруснику ещё перебрать бы», – бессильно говорила Наташа, спускаясь на лёд; «Успеем, – отмахнулась Ира на ходу, – сил нет». За нашими спинами раздался вдруг громкий, пронзительный свист. Я обернулась; расталкивая начинающиеся сумерки, от избы к нам быстро шагал Анчутка. В руках у него что-то было, какой-то крупный полукруглый предмет.
– Подождите, – сказала я.
Шагов с десяти уже можно было разобрать, что несёт он банку – стеклянную, трехлитровую, с обмотанным бумагой верхом. Вплотную он подходить не стал, а вместо этого с улыбкой остановился у самой кромки льда и принялся ждать, пока мы все до единого замолчим и посмотрим на него.
– Детишкам, – сказал он тогда и протянул банку вперёд, чтобы мы могли разглядеть. – Ягоду подсластить.
Внутри стеклянных стенок уютно дремало густое, желтое, и под нашими недоверчивыми взглядами банка словно вдруг засветилась изнутри.
– Неужели мёд? – быстро сказала Ира и шагнула к нему. – Валера, вы святой просто. Спасибо вам большое.
– Ты не против, хозяин? – всё так же улыбаясь, спросил Анчутка поверх её головы, слегка отступая назад, чтобы Ира не смогла дотянуться.
– Ну ладно тебе, – буркнул Лёня, опуская глаза, и только тогда банка скользнула, наконец, в Ирины протянутые руки.
– Дай-ка поглядеть, – попросил папа, когда мы отошли от берега метров на пятьсот. – Холодная какая, – удивился он, вертя банку в руках, приподнимая ее, заглядывая снизу сквозь вогнутое стеклянное дно.
– Я готов поклясться, – сказал он, наконец, – чем хотите, что этот мёд он привёз вот только что. На наших глазах. Они куда-то ездят за припасами, и вряд ли это место так уж далеко.
21
Пикап, четыре месяца простоявший на морозе, заводиться не захотел. Тяжеленный аккумулятор, хранившийся в тепле и безопасности под Наташиной кроватью, всё равно оказался безнадёжно мёртв. Пока папа с Серёжей откачивали из двух других машин оставшееся топливо (его набралось от силы литров восемь, неполная маленькая канистра), присмиревший Лёня с Анчуткой занялись прикуриванием наших уснувших автомобилей. Дребезжащий, раздолбанный УАЗ подогнали поближе, и через четверть часа и пикап, и «Лендкрузер» – Лёнина добровольная жертва – заурчали, закашляли и завелись.
Стоя возле уютно тарахтящего «Лендкрузера» («пускай помолотит, – щедро сказал Анчутка, успевший плеснуть в лендкрузеров бездонный бак немного дизеля из своих загадочных запасов, – погреется», – и любовно похлопал большую черную машину по капоту), я поймала себя на мысли, что звук работающего автомобильного мотора здесь, посреди безлюдной тайги, звучит дико и чужеродно. Что сами мы – выцветшие, истрепавшиеся, одичавшие, уже потеряли право на то, чтобы вставать на блестящие хромированные подножки, прикасаться обветренными ладонями к безупречной прохладной коже рулевого колеса. Что каждая голубоватая лампочка на приборной панели уже готова отвергнуть нас, обречённых неумытых дикарей, годящихся только для того, чтобы погружать рукава в ледяную воду, вытаскивая сети, и резать пальцы рыбьими плавниками.
Я протянула руку к сверкающей лакированной дверце и подумала с неожиданной злостью: как вы посмели остаться такими же безупречными, эргономичными, нетронутыми; какого чёрта вы выглядите так, будто за ближайшим углом начинается город, гладкий асфальт, светофоры, электричество, пробки, кинотеатры, рестораны, работающие до последнего посетителя, книжные магазины – чёрт, чёрт, я убила бы сейчас за какую-нибудь книгу, любую, какую угодно, даже за такую, которую и читать бы не стала полгода назад. Эти жуткие месяцы словно сняли с нас кожу, превратили в серые тусклые тени, как будто всё, чем мы нравились себе и друг другу, и заключалось в этих светофорах, кинотеатрах и ресторанах, и горячих ваннах – конечно, как я могла забыть! – в увлажняющих кремах, в центральном отоплении, в доступности еды, в отсутствии страха – ежедневного, обязательного – страха умереть от голода.
Моя ладонь застыла в воздухе, в каком-нибудь сантиметре от полированной яркой поверхности – обломанные тусклые ногти, сухая блёклая кожа; я не смогла прикоснуться. Хорошо, что у нас кончился дизель, подумала я с ненавистью, вы умрёте с голоду раньше нас. Ещё день, два – и мы бросим вас здесь навсегда, потому что нам нечем будет накормить вас, и безжалостная ржавчина, эрозия, солнце, сырость, холод убьют вас раньше, чем сдадимся мы. Ещё через полгода мы будем почти такие же, как сейчас. Мы устроены иначе, по-другому; может быть, внешний лок слетает с нас быстрее, но потом процесс замедляется, и даже без медицины и таблеток мы протянем еще десять лет, двадцать, если нас не скосит, конечно, какая-нибудь безнадёжная ерунда вроде аппендицита, или – ну, хорошо – раковая опухоль, а от вас уже лет через пять останутся только бессмысленные ржавые скелеты, рассыпающиеся от малейшего ветерка. Ваша хрупкая и капризная электронная начинка сгниёт, краска потускнеет и пойдёт пятнами, колёсная резина рассохнется и выпустит воздух. В конце концов от всех нас останется примерно одно и то же: высохшая кучка неживой материи, но мы продержимся дольше. Мать вашу. Мы продержимся дольше вас.
Я сжала в кулак свою жалкую ладонь и стукнула дверцу бедного «Лендкрузера», и в этот самый момент щекой, плечом, половиной тела почувствовала чужой внимательный взгляд.
– Хочешь, прокачу? – предложил Анчутка тихо, в самое ухо, так, что было слышно только мне и никому другому. – Или, давай, за руль садись. А?
И мне сразу же стало мучительно стыдно и за безадресную мою дурацкую злость, и за то, как этот посторонний мужик истолковал её.
– Не надо, – отказалась я. – Зачем. Дизеля мало осталось, и потом, Лёне будет неприятно.
– Это моя теперь машина. – Анчутка больше не понижал голоса. – И мне насрать, кому там приятно, кому нет.
– Ну, а мне не насрать, – сказала я, радуясь тому, что у беззубой моей ярости появился, наконец, одушевлённый адресат.
Какого чёрта он говорит мне «ты», а я которую неделю аккуратно ему «выкаю»; с какой стати мы вообще стараемся быть вежливыми, воспитанными столичными девочками, когда нет уже никакого смысла в нашей вежливости, и столицы тоже никакой уже нет?
– Не поеду я никуда.
И я отвернулась – с облегчением, и увидела, что прицеп пикапа за это время успели доверху загрузить стропилами и шиферными ломкими листами, а папа с Серёжей, стоя на подножках, уже прикручивают к верхнему багажнику всякую мебельную мелочь. Я пошла к ним, чтобы быть рядом, когда эта неустойчивая, шаткая конструкция сдвинется с места и поползёт через замерзшее озеро к нам, на остров, и услышала, как бесстыдно рокочущий двигатель «Лендкрузера» захлебнулся и умолк у меня за спиной. Так тебе и надо, подумала я, подожди. Может, ты и протянешь дольше других – но, помнишь? Регулярная замена масла, качественное топливо, импортные запчасти и хорошие дороги – ничего из этого тебе не светит, у тебя нет шансов, даже и не надейся.
Когда пикап, радостно урча, пропахал рыхлый прибрежный снег, смял торчащие повсюду чёрные обмороженные сорняки и двинулся к острову медленно, осторожно, с хрустом вгрызаясь в лёд шипованными колёсами, все мы направились следом, провожая его неторопливое продвижение вперёд, как почётный караул. То, что большая серебристая машина ожила и снова служит нам, без сомнения радовало всех, кроме меня: казалось, застрянь он, заскользи, забуксуй посреди этой гладкой слепящей пустоши, – они впрягутся, упрутся в него плечами и дотолкают до цели, и только я шагала следом, в самом конце, слушая бьющуюся в ушах единственную мстительную мысль: первый раз из десяти. Еще девять ходок – и всё. И тебе конец.
После третьего рейса, доставившего на остров разобранную веранду с перилами из круглых сосновых балясин и раскладной диван, папа, задыхающийся, побледневший, объявил: «так, хватит цыганским табором за машиной бегать, два километра туда, два – назад, только задерживаем всех. От нас, девочки, куда больше пользы здесь», – и следующие пару часов мы растаскивали поспешно сваленные в кучу стропила и покрытые лаком половые доски, освобождая место для брёвен – тонких, длинных, угрожающих занять весь наш крошечный, свободный от деревьев и камней пустырёк. Перекладывая желтые чистые доски, уворачиваясь от торчащих гвоздей, раздражаясь от усиливающейся тупой боли в пояснице, каждую минуту из этих двух долгих часов я чувствовала только иррациональный, комком застрявший в гортани тоскливый гнев, не дающий ни дышать, ни разговаривать. Я схожу с ума, я точно схожу с ума, иначе нельзя объяснить, в какую бездонную дыру провалилась вдруг осторожная, только что народившаяся радость оттого, что этот кукольный, маленький, свежий дом уже почти полностью наш.
Можно было сколько угодно наблюдать с края мостков за тем, как небыстро, размеренно переползает ледяную поверхность озера мощная машина, делая в последней трети повторяющегося своего маршрута большую дугу в том месте, где толстый полуметровый слой льда покрывала беспорядочная сеть наших неумелых рыболовных лунок; как волочится за ней плотная, долгая, туго обвязанная веревками связка брёвен, похожая издали на гигантскую пачку спагетти; как слаженно и быстро набегают при малейшем препятствии – поправляя, подвязывая, подцепляя деревянными баграми – три знакомых темных фигурки, бегущие за машиной, и благодаря их усилиям движение это не прекращается. Можно было даже расслышать негромкое мурлыканье мотора, работающего на пониженных оборотах. Только торчащему в горле тревожному ноющему сгустку не было почему-то до всего этого никакого дела.
– Поднажать бы, – озабоченно сказал Андрей, в очередной раз выбираясь из кабины пикапа, чтобы помочь остальным распутывать, развязывать, растаскивать по одному увесистые обструганные венцы, покрытые теперь, после столкновения с шершавым колючим льдом свежими царапинами и заусенцами. – Лампочка горит уже, топлива осталось всего ничего. Черт знает, на сколько ходок нам еще хватит. Нам ещё бы литров пять – но не просить же этих?
– Да в жопу их, – весело и зло рявкнул Лёня, взмокший, источающий ровный густой жар, вытирая лоб изодранной в кровь ладонью. – Почку им, что ли, продать за эти сраные пять литров? Побольше брёвен завяжем в следующий раз – ходки за две управимся, не больше. Там осталось-то штук двадцать, Андрюха, и всё.
– Стемнеет скоро, – подхватил Серёжа, уставший, с темными кругами под глазами, глядя поверх чёрных еловых верхушек. – Хорошо бы сегодня закончить, а?
– Закончим, – засмеялся Андрей. – Мне бы только машинку потом еще успеть на берег переправить.
Я смотрела, как они – вымотанные, торжествующие, упивающиеся давно забытой созидательностью простых и честных мышечных усилий, направленных не на безрадостное выживание, а на другое – новое, осязаемое, – погрузились в тёплый пикап и покатили назад, за последней частью расплетённых накануне, разъятых стен нашего будущего дома, ожидающих своей очереди по другую сторону громадного спящего аквариума, окружившего наш игрушечный остров. И подумала с завистью, что тоже, чёрт возьми. Тоже хочу – так. Принять участие, примерить на себя эту радость – чистую, простую, не омрачённую дурацкой и смутной необъяснимой тревогой. Хочу увидеть своими глазами, как последняя кучка одинаковых кусков древесины (которые потом соединятся, принимая в себя оконные коробки, дверные панели и укроются крышей, под которой мы станем жить, наконец, по-другому, по-настоящему) поволочётся по льду, повинуясь натяжению автомобильного троса, послушная законам Ньютона, мёртвого так же бесповоротно, как мой – и даже Мишкин – школьный учитель физики. И может быть, если я увижу, как это происходит, то смогу проглотить, наконец, этот жуткий безнадёжный комок, перекрывающий мне воздух.
Я не сказала никому ни слова. Просто спрыгнула с мостков и зашагала по льду, думая: два километра пешком займёт у меня минимум полчаса. За это время они успеют и подтащить, и связать тяжелые нижние венцы, и наверняка уже двинутся мне навстречу; я, скорее всего, застану их где-нибудь посередине, на полдороге, так что смогу только вообразить оставшуюся на том берегу пустоту, вытоптанную, смятую, усыпанную древесной стружкой. Ну и что, главное – я буду свидетелем, я получу право сказать себе – я была там, я видела начало и конец, и может быть, я сумею почувствовать то же, что и они.
– Анюта! – крикнул папа мне в спину. – Ты куда? Аня!
Но обернуться сейчас, увязнуть в объяснениях означало бы только разрушить хрупкий импульс, толкающий меня вперёд. Ледяной жгучий ветер впился мне в щёку, нырнул за ворот куртки, лизнул позвоночник. Я замёрзла, я устала, я хочу это видеть, я должна.
Пес, вынырнувший из ниоткуда, потрусил рядом, тесно прижимаясь к моей ноге, приноравливаясь к моей скорости неохотно, испуганно, а позади уже слышен был торопливый скрип шагов; они все пошли за мной, оставив на берегу только папу и детей, не спрашивая ни о чём, не окликая, быстро, почти бегом, мои девочки, мои девочки, мои девочки.
Мы бежали навстречу неспешно ползущему пикапу, уже отчетливо различимому в ослепительной, обостренной наступающими сумерками белизне; бежали тяжело дыша, не тратя сил на разговоры, не глядя друг на друга, но как бы мы ни спешили, поравняться со встречной медлительной процессией нам удалось только в последней трети, перед самым поворотом – там, где предшествующий десяток точно таких же, как эта, медленных проверенных ездок оставил на истерзанном льду глубокую изогнутую борозду, огибающую плавной дугой финальный отрезок, исколотый множеством неумелых дырок, проверченных нами в попытке добраться до чёрной озёрной воды и выцарапать из неё тощую зимнюю добычу.
Мы всё ещё бежали, когда двигатель пикапа зачихал, задёргался, сообщая нам о том, что топливо, наконец, закончилось – раньше времени, раньше, чем мы ожидали, и пикап свернул с проложенной, процарапанной колеи напрямик, напролом, сквозь кривую, хаотичную гущу торчащих из-подо льда корявых замороженных деревянных костылей; когда Серёжа, бегущий следом за двигающейся рывками связкой тяжелых брёвен замахал руками, закричал «стой, Андрюха, стой!» Мы ещё бежали, когда Лёня – красный, распаренный, с раззявленными полами зимней куртки, хлещущими за широкой его спиной, как неудачные, неспособные к полёту крылья, вцепился вдруг в самый хвост ярко-жёлтого синтетического троса, словно пытаясь остановить на полном скаку механическую тягу ста сорока трёх неживых, запертых под капотом лошадей; когда оба они, безнадёжно отставшие на три, пять, десять метров, захлебываясь, надсадно заревели в унисон – «дверь, дверь открой, твою мать, открой дверь!»; и потом, когда вокруг уже трещало и хрустело, когда, казалось, сам воздух взорвался, безжалостно вминая внутрь наших заледеневших ушей хлипкие барабанные перепонки, когда тесная паутина трещин разбежалась во все стороны из-под шипованных беспомощных колёс, когда толстый, как бетон, лёд начал выламываться громадными материковыми кусками, когда вокруг покосившегося, неловко задранного пикапа неожиданно вспухло, выпятилось, делаясь прозрачным, как намокшая бумага, огромное серое пятно – мы ещё бежали.
Сквозь голубоватое лобовое стекло я успела увидеть удивлённое, неиспуганное лицо Андрея, а потом тяжёлая машина в два стремительных рывка – сначала по верхнюю границу колёсных арок, затем – сразу же по крышу, по кромку кевларового туристического багажника – облегчённо, мгновенно, легко нырнула, погрузилась в чёрную пластилиновую воду, вспенив напоследок ломкую ледяную крошку, завертевшуюся спиралью поверх жирного белёсого водяного бульона.
Трос, сплотивший уже утонувшую, обречённую машину с пассивной связкой катящихся по инерции скользящих брёвен, ещё балансирующих на грани, сопротивляясь всё тем же неумолимым физическим законам, цепляясь за бесплотную, бессильную снежную пыль, за изломанные острые края зияющего свежего провала, натянулся и завизжал – жалобно, обвинительно, отчаянно.
– Так нельзя, – прошептала Наташа за моей спиной в первый раз, и я услышала её, несмотря на треск, грохот, скрежет и визг неодушевлённой материи, бунтующей, сворачивающейся вокруг нас локальным, оглушительным смерчем.
И тут Серёжа прыгнул и упал на колени возле самой границы жизни и смерти, воды и суши, и почти нырнул головой в густой, смертельный ледяной суп, и принялся пилить, кромсать жизнерадостную яркую полоску троса широким лезвием охотничьего ножа, отделяя мороженую бездонную чёрную яму от беззащитной, неповоротливой, ползущей к краю деревянной связки.
– Так нельзя! – выкрикнула Наташа во второй раз: Серёже, ножу, облегчённо лопнувшему тросу, кипящему ледяному бульону, в этот момент извергнувшему из себя огромный воздушный пузырь, и тогда я обхватила её руками изо всех сил, до хруста, ощущая сопротивление тонких хрупких костей, напряжение мышц, горькое прерывистое дыхание, отталкивая её и себя, нас обеих от растущей мокнущей расщелины.
– Так нельзя. Так нельзя. Так нельзя. Так нельзя, так нельзя, нельзя, нельзя, – повторила она в пятый, седьмой, десятый раз в самое моё ухо, словно это я, именно я была виновата в том, что ей пришлось смотреть, и как бы сильно я ни сжимала её, она вырвалась, оттолкнулась и запрокинула лицо.
– Так нельзя! – выкрикнула она в равнодушное низкое небо, плоско висящее над нашими головами.
Я уже ощущала спиной и плечами обнимающие нас руки – одна пара, другая, третья, Ира, Марина, Лёня, но сколько бы их ни было, этих рук, как бы плотно, как бы тесно мы ни сжались, ничего, ровным счётом ничего уже нельзя было изменить.
22
Если представить смерть как стремительный безжалостный разрез, сделанный неразборчивым и слепым чужим ножом – болезненный, но мгновенный, почти тут же изолируемый немеющими от шока нервными окончаниями, становится ясно, что всё самое мучительное происходит, конечно, уже после, в следующие за нею дни. Осознание смерти и попытка принять её необратимость длятся, длятся и не желают прекратиться, в точности как послеоперационные отёки, воспалительные процессы, ночные острые приступы боли и бесконечные долгие недели восстановления.
Сбежать нам было некуда. Замурованные аккуратно, в несколько слоёв – тощими досками маленького двухкомнатного дома, сотнями тысяч литров окружившей остров замерзшей воды, затем – кольцом ошпаренных морозом деревьев и километрами снежной нежилой пустоты, мы оказались заперты один на один с многоликим Наташиным кошмаром, от которого случайных свидетелей человеческой смерти (а мы и вправду ведь были всего-навсего свидетелями) отгораживают обычно спасительные перерывы между похоронами, девятинами и сороковинами, – дистанция, позволяющая не думать о свежей, только что случившейся смерти ежеминутно и даже на долгие часы или дни не вспоминать о ней вовсе. Дистанция, продиктованная суеверным страхом не соприкасаться с ней и держаться от нее подальше.
А сейчас она – смерть – накрыла нас с головой, оглушила и проткнула всех до единого, не разбирая степени причастности, потому что последовательно, со смаком предъявила нам все без исключения стадии тягучего вязкого ужаса, падающего на беззащитную человеческую душу, которой не дали времени подготовиться к потере – без продолжительной безнадежной болезни, без сгущающихся мрачных обстоятельств и предчувствий. Мы, чужие люди, оказались вовлечены в то, что обычно скрыто от посторонних расстоянием, успокоительными препаратами, самопожертвованием ближайших родственников. Мы не могли не смотреть и не слушать, нам негде было укрыться, и потому мы наблюдали за тем, как Наташа чернеет, высыхает, кричит. Горько невыносимо шутит, впадает в ярость, плачет, собирается умереть сама. Пьёт воду, отказывается от еды, пытается есть. Обвиняет, по очереди, нас, своего мёртвого мужа и себя. Швыряет вещи на пол. Собирает их и раскладывает по местам медленно и страшно. Нюхает его одежду. Надевает его свитер и лежит неподвижно и зло, уткнувшись лицом в ощерившуюся занозами стену, самой своей спиной с острыми, торчащими сквозь свалявшуюся шерсть лопатками запрещая нам разговаривать, дышать, жить под одной с нею крышей, думать о чём угодно другом, кроме того, что он умер. Умер. Вчера, позавчера, два дня назад. Только что.
Неизвестно откуда взялась глупая, ничем не подкрепленная наша уверенность в том, что острая мгновенная гибель нам больше не угрожает. Мы поверили в это, когда добрались, наконец, до озера, перенесли по льду свои жалкие коробки и мешки, преодолели недоверчивые подозрения соседей, основавших на берегу свою маленькую колонию; когда поняли, что сумели-таки убежать от волны, устремившейся за нами почти сразу, стоило нам запрыгнуть в машины и рвануть, почти не разбирая дороги; от волны, оказавшейся на поверку множеством встречных потоков, ревущих селей, несущихся нам наперерез от каждого попадающегося на пути большого города, поджидающих нас за каждым поворотом. Эта уверенность рухнула и растаяла одним махом, утонула под толщей черной воды вместе с Андреем и его пикапом, казавшимися нам одинаково неуязвимыми, безразличными и жизнестойкими. Заговор от смерти, никем не произнесённый, молчаливый, окутывавший нас в течение долгих жутких месяцев, неожиданно выветрился и истёк, перестал действовать; мы поняли вдруг и увидели, как любая мелочь от банального приступа аппендицита и до ржавого неожиданного гвоздя, вспоровшего кожу и выплюнувшего в кровь ядовитую столбнячную палочку, способна равнодушно умертвить любого из нас, внеочерёдно, случайно и запросто. Дело оказалось не в том, хороши мы или плохи, заслуживаем ли мы спасения. Беспомощный быстрый нырок пикапа под лёд заставил нас осознать: в том, что мы выжили, не было никакой предопределенности, и наше везение было всего лишь случайностью, рулеткой, шальным лотерейным билетом, который может быть отозван в любую секунду.
И вот ещё что. В крошечном доме, набитом теперь смертью по самую шиферную крышу, не осталось больше места для других мыслей: единственное, о чём мы могли теперь думать, были мёртвые – наши собственные мёртвые. Которых мы толком не успели оплакать, когда всё началось, потому что были слишком заняты бегством, страхом и белой дорогой, и которых мы не оплакали после, добравшись до цели, потому что – ну, потому что ведь кто-то же должен был первым начать, заговорить об этом, нарушить табу, которое длилось столько дней подряд, что стало почти незыблемым. Только слёзы теперь не могли уже принести облегчения, словно и здесь мы опоздали, и подходящее время, казалось, упущено безвозвратно. Острое режущее чувство потери, которое мы привезли с собой на остров, но не дали ему выхода, и которое поэтому должно было остаться нетронутым и свежим, за время долгой безрадостной зимы слежалось и прогоркло, ушло внутрь, как уходят, скручиваясь, разорванные сухожилия – слишком глубоко; и чтобы вытащить его на поверхность, пришлось бы рассечь заторможенные отупевшие ткани до самой кости, задевая и раскурочивая мышцы. Мы оказались калеками с неправильно сросшимися костями; калеками, готовыми хромать вечно, только бы не ломать их заново.
Пожалуй, именно это неуютное кислое чувство почти сразу и выдавило мужчин из дома; у них нашлась масса спасительных дел, за которыми они с облегчением спрятались: нужно было разобрать брошенную на льду последнюю связку бревен и по одному дотащить их до берега, и расчистить площадку для нового дома, который обошелся нам гораздо дороже, чем мы предполагали; нужно было, в конце концов, заняться заготовкой дров, потому что запасы их бесповоротно подошли к концу. Нам, женщинам, повезло меньше, и в течение нескольких дней, последовавших за Андреевой смертью, не было минуты, чтобы мы им не завидовали.
Даже соседи в эти дни оставили нас в покое. Они заглянули всего однажды, спустя час после того, как утонул пикап, но в дом заходить не стали, и потому почти никто из нас их не видел. Серёжа вышел к ним на улицу, и всё недолгое время – десять минут или четверть часа, – пока они негромко разговаривали снаружи, я простояла возле окна, боясь обернуться назад, в комнату; глядя на то, как они слушают Сережу, курят, качают головами, осторожно жестикулируют, я мечтала только об одном – оказаться по ту сторону тонкой дощатой стены, а лучше – по ту сторону озера. Переждать и не возвращаться, пока всё как-нибудь не утихнет.
Кажется, на четвертый день Наташа решила, что хочет устроить поминки. Она разбудила нас ещё затемно, чтобы объявить об этом, и отмахнулась от наших робких отговорок. «Мы же его не хоронили, – зашептала мне Марина возле входной двери, когда мы собирались идти за водой, – хотя бы девяти дней подождать», – «вот именно – не хоронили, – сказала ей Ира, выскользнувшая следом за нами из дома, – похорон не было, ну подумай ты головой, пусть займется хотя бы поминками этими, до девятого дня ждать – мы все тут свихнемся».
Мне пришлось пойти с ней на тот берег. «Спирта больше нет, – заявила она, угрюмо глядя себе под ноги, – не кипятком же поминать. У них наверняка осталось, у них всегда всё находится, они не откажут» – и принялась зашнуровывать ботинки. На самом деле, она готова была идти одна, и пошла бы; кто знает, возможно, ей и нужно было сейчас остаться в одиночестве хотя бы на полчаса, без сочувственных испуганных наших взглядов, без трусливой готовности, с которой мы прерывали любые свои разговоры, без предупредительной поспешности, с которой пытались заткнуть ей рот – стаканом воды, утешительными бессмысленными скороговорками, чем угодно, только бы не дать ей плакать, кричать и разговаривать. Она, наверное, устала от нас не меньше, чем мы устали от неё, но в последнюю минуту я вспомнила подёрнутый тощей весенней ледяной коркой разлом, мимо которого ей придётся пройти – огромную тёмную язву на белом боку озера, прекрасно различимую даже из нашего окна; дыру, в которую разом провалились все наши жалкие надежды, на дне которой, прижатый к илистому дну толстым слоем тяжелой равнодушной воды, сидел утонувший пикап с её мёртвым мужем за рулём. «Подожди, – сказала я, – я пойду с тобой».
Не знаю, чего я ожидала, шагая за ней по льду, след-в-след, не пытаясь ни догнать её, ни заговорить с ней. Одного взгляда в её узкую злую спину, похожую на маленький остро заточенный нож, взрезающий нависшую над озером рассветную муть, или даже одного только звонкого жалобного хруста осколков льда, дробящихся под ее подошвами, было достаточно для того, чтобы понять – эта женщина не станет прыгать в воду или падать на колени возле чёрной ямы с неровными острыми краями. Скорее, она способна сбросить сейчас в эту яму кого-нибудь другого, потому что злость её гораздо сильнее отчаяния.
Чтобы не отстать от неё, мне пришлось почти перейти на бег. Задыхаясь, оскальзываясь на рассыпанных под ногами ледяных обмылках, проклиная свой бесполезный никому не нужный порыв, я боролась с искушением повернуть назад. Она бы даже этого не заметила, она вообще ни разу не обернулась. Но навстречу уже поднимались прибрежные сорняки, запахло дымом; мы добрались до берега.
Глядя, как она взлетает по обледеневшим ступенькам крыльца, я была почти уверена, что дверь она требовательно ударит ногой, но она всё-таки постучала – сжала в кулак белую от холода руку и стукнула три отдельных, с паузами, раза. Взойти по лестнице вслед за ней я почему-то не решилась и осталась стоять внизу, прислонившись к деревянным перильцам. Дверь распахнулась, и на пороге возник румяный заспанный Вова, одетый почему-то в щеголеватую костюмную рубашку цвета топленого молока, хоть и сильно измятую (спит он в ней что ли? – некстати подумала я). Увидев нас, он страдальчески, испуганно сморщил лицо, и не говоря ни слова, снова исчез в недрах огромной скверно освещенной избы, а спустя еще минуту к нам вышел Анчутка – большой, жаркий, с полотенцем, уютно переброшенным через плечо, и тогда она сразу сказала: «знаете, нам очень нужна водка – у вас же есть – помянуть». И это была не просьба, и она не назвала имени, как будто была всего лишь непричастным посланцем, явившимся, чтобы доставить сообщение с одного берега на другой. Анчутка молча кивнул и ушёл, оставив нас дрожать на крыльце. Вернулся с двумя прозрачными поллитровками – она взяла их и тут же пошла вниз по ступенькам, и остановилась уже в самом низу. «Вы же придете, да?» – спросила она, не оборачиваясь, и не дожидаясь ответа, пошла назад, к озеру. Бутылки, небрежно зажатые у нее под мышкой, легко и нежно звякали одна об другую с каждым ее шагом.
23
Что можно сказать на поминках о человеке, с которым ты прожил четыре месяца под одной крышей, но за все время перекинулся от силы несколькими фразами? О человеке, который не был тебе другом; имя которого не всплыло бы в твоей памяти, начни ты мысленно перечислять даже просто своих знакомых, дальний, широкий круг; с которым даже вынужденная совместная зимовка не сблизила тебя ни на шаг, оставив его в точности тем же, кем он был для тебя несколько лет подряд – мрачноватым незнакомцем, скупым на слова, несколько высокомерным, скорее неприятным. Чужим.
Окажись мы в другом месте, случись эти поминки не здесь, на крошечном острове посреди тайги, мне достаточно было бы просто явиться, приехать на кладбище и выдержать сорок минут, прячась за спинами других, более близких ему людей. Проглотить обязательные пятьдесят граммов водки, неровно разлитой по заскорузлым от холода пластиковым стаканчикам, а затем вежливо высидеть несколько часов в каком-нибудь кафе, ковыряя вилкой подсыхающий оливье, аккуратно сдвигая к краю тарелки обязательную несъедобную кутью, поднимая раз за разом один и тот же едва пригубленный бокал. Уступив право на слова и на слёзы, и на всё прочее тем, кто в самом деле готов говорить и плакать. Поджидая подходящего момента, чтобы подняться, вполголоса попрощаться и уехать, наконец, домой, никого не обидев и не нарушив приличий.
Увы, нас осталось слишком мало, чтобы мы могли позволить себе роскошь молчаливого присутствия. По ломаной линии сжатых Наташиных губ, по её поднятым плечам, по тому, как она металась по маленькой комнате, вся похожая на острый, напряженный восклицательный знак; по тому, наконец, как она жадно заглянула нам в глаза – каждому по очереди – когда мы уговорили ее сесть к столу и налили ей водки, – было ясно, что нам придется сегодня говорить, всем. Спрятаться за кем-то другим не удастся, потому что у её мужа, смирно сидящего сейчас на дне озера за рулем своей серебристой машины, уже не осталось никого, кто мог бы горевать о нём сильнее, чем мы.
Сидя прямо напротив Наташи, под её немигающим настойчивым взглядом, я вертела в ладонях неполную кружку и со страхом листала редкие свои, обрывочные воспоминания, похожие на старую записную книжку. Бог знает по какой причине мне казалось, что никто так ничего и не скажет ей, и она просидит в ожидании еще десять минут, двадцать, ощущая, как густеет и наливается молчание над столом. Ну нельзя же, в самом деле, сказать «он был отличный мужик» или «настоящий друг», думала я, пригвожденная к месту её зрачками, узкими, как булавочные головки. Так нельзя говорить, только не этой женщине, которая час назад раздробила подошвами все до единого осколки, оставшиеся от льдины, убившей её мужа, ни разу не взглянув себе под ноги. Надо собрать расползающиеся, перепуганные мысли и сказать что-то другое, что-то правильное, хорошее, чтобы она перестала так смотреть и так молчать. И тут Серёжа дёрнул своей чашкой и сказал: «Он был отличный мужик, Наташка. Настоящий друг». И она сразу заплакала, отвернулась и освободила меня.
А потом они говорили все разом, перебивая друг друга, поднимая кружки и не позволяя им столкнуться надтреснутыми щербатыми боками. Закуска оказалась скудная – жареная рыба и плошка мёда, подаренного нашими щедрыми соседями, так что водка, которой было совсем мало, подействовала сразу, с первым же глотком. «Спокойный, понимаешь? Спокойный был, как танк, – говорил махом вспотевший Лёня, – а здоровый какой! Ты вспомни, как он эти брёвна..», «Да ладно – брёвна, ну при чём тут… – морщился папа, и на щеках у него уже расцветали красные беспомощные пятна, – давайте просто выпьем, просто выпьем за Андрюху», и закончил некстати – «земля пухом» (ну какая к чёрту земля, – думала я, наклоняя голову к исцарапанному фаянсу, делая вид, что глотаю, – почему земля, нет же там никакой земли…). Марина, заплакавшая мгновенно, одновременно с Наташей, запричитала: «Так глупо, так обидно, мы же сто раз могли умереть, мы не заболели, мы доехали…»
Входная дверь распахнулась после осторожного стука, на который никто из нас не ответил, и Анчутка, шагнувший к Наташе от порога, наклонился, положил ей на плечо свою тяжелую ладонь – а никто из нас ни разу за эти три бессильных мучительных дня не смог прикоснуться к ней – и тоже забубнил что-то сострадательное и подходящее, потому что внезапно выяснилось, что любой набор слов, совершенно любой, уместен сейчас и нужен.
Щуплый Лёха, незаметно просочившийся внутрь вслед за Анчуткой, выудил из широкого кармана ещё одну прозрачную бутылку, хрустнул алюминиевой пробкой и торопливо расплескал водку по подставленным чашкам. Когда он поднял свою, маленькая его синеватая рука едва заметно дрожала – скорее от нетерпения, чем от сочувствия; он сказал просто «ну!..» и опустил лицо, выставив вперёд компактную нечёсаную макушку, и даже это «ну» оказалось необходимо Наташе, которая не говорила ничего и только вертела головой, с благодарной невыносимой готовностью вслушиваясь в каждое, пусть самое идиотское слово. Лёхины железные зубы глухо, поспешно звякнули по щербатому фаянсу, и узенькая струйка, не удержавшись во рту, выскользнула и закапала на нестираный вытертый камуфляж.
– А помнишь, как он гонял того мужика? – спросила Ира, повернувшись к Серёже. – У нас на свадьбе, помнишь? Этого гнусного тамаду.
И они вдруг прыснули – все трое, Серёжа, Ира и Наташа.
– Омерзительный был тошнотворный урод, – закивал Серёжа, улыбаясь. – Не заткнуть его было вообще, и мы три часа подряд слушали херню, которую он там нёс, какие-то, не знаю, частушки…
– Он же туфлю, туфлю у тебя украл, Ирка, этот тамада, – сказала Наташа и прижала обе ладони к лицу, и вздёрнула подбородок к низкому потолку, словно пытаясь заставить слёзы затечь назад, во внутренние уголки глаз. – Толстый такой был мужик, гадкий… где вы его взяли вообще?
– Да нам было-то лет по двадцать, – пожал плечами Серёжа. – Мы там как-то приготовились терпеть, а Андрюха… Ты помнишь, Ир?
– Он прижал его к стене, – сказала Ира. – Отобрал у него мою туфлю. Эта скотина успела туда шампанского плеснуть, и я потом страшно стёрла ногу, она мокрая же была совсем. Танцевать было больно.
– И сказал, что сейчас засунет ему эту туфлю. Каблуком вперёд. – живо сказал Серёжа и засмеялся, низко наклонившись над столом, и не поднял лица, будто кто-то невидимый прижал руку к его затылку, не позволяя ему распрямиться.
– А потом он его выгнал, – проговорила Ира прямо в Сережин затылок, – совсем выгнал. Мы такие были дураки, нам это и в голову не пришло бы.
Она неожиданно с шумом втянула носом воздух и прижалась щекой между плечом его и ключицей, и Серёжа, закинув назад руку, положил ладонь ей на макушку.
Они вспоминали ещё – сидя рядом, тесно, соприкасаясь локтями, коленями и головами, и нам, остальным, уже нечем было разбавить то, что они говорили друг другу, потому что видный нам отрезок жизни человека, о котором они помнили так много, весь пришёлся на последние четыре несчастливых месяца, и об этих месяцах говорить было неприятно и незачем. А у них, у этих троих, оказалась в запасе масса мелочей, крошечных историй, которые они рассказывали не для нас – потому что то и дело прерывали, не доведя и до середины – а для себя. Нас всех могло бы здесь и не быть, настолько мы были им сейчас не нужны.
Посреди густо заставленного чашками стола скучно тускнела остывшая рыба; к мутному оконному стеклу прижимались снаружи розоватые, уже совсем весенние сумерки, и я ужасно и мучительно вспомнила вдруг маленькую мамину кухню, рыжую низко висящую лампу и сахарницу, поселившуюся на подоконнике. Надо было что-нибудь съесть, нельзя пить на пустой желудок; четыре жалких глотка – и я уже не могу остановиться: я стою там, в дверях, ощущая отчетливо тесную теплоту, вижу трещинки в потолочной побелке, подкопченную с края прихватку с подсолнухами, незамеченный катышек пыли в углу подоконника, слышу деловитое бормотание холодильника, вдыхаю запахи, домашние, свои, и за спиной у меня – за спиной у меня – мне достаточно сейчас обернуться, и я сразу её увижу, она скажет «Анька, не капризничай, ну давай полтарелочки супа хотя бы», мне нельзя оборачиваться, нельзя, я не могу сейчас вспомнить, я столько времени не разрешаю себе вспомнить – а сейчас особенно не время – и оборачиваюсь, и она говорит «Анька», она говорит «Анечка», ничего больше, только моё имя, и смотрит на меня, и стоит близко-близко, вот же она, совсем рядом, а я не могу до неё дотянуться, как будто у меня не осталось рук, совсем.
Я сползаю на пол, осторожно, боясь случайно дёрнуть головой, моргнуть, вдохнуть слишком глубоко; мне нужна тишина, я должна выползти отсюда. Я понимаю, что не могу потрогать её руками, я прекрасно, прекрасно это понимаю и не буду даже пробовать, вот они, мои руки, я даже ими не двигаю, мне нужно на воздух, подальше отсюда, я просто очень хочу ещё немного на неё посмотреть.
Снаружи, за дверью, на улице я сажусь на деревянный помост, подложив под себя ладони, чтобы не было искушения протянуть их, потому что их нельзя протягивать; и даже в этот момент она всё ещё рядом, хотя сквозь неё проступают уже черные ёлки, разбросавшие по ветру свои растрёпанные головы, и неправильное дикое пустое небо без единого электрического провода. Я пока ещё вижу её, но какой-то звук – неприятный, монотонный, мешает мне смотреть; это я, всё это делаю я сама, хилые мостки скрипят под моими ладонями, тёмные следы под ними приближаются – и уплывают назад, и небо, раскачиваясь, пролезает на передний план, загораживая от меня её лицо холодной сиреневой стеной; мой собственный голос и моя собственная ослушливая голова мешают мне видеть её, это я качаюсь и скулю, как подстреленная собака, и проходит ещё секунда. И я больше её не вижу.
– Замёрзнешь, – произносит Анчутка над моим ухом.
И я не сержусь на него, потому что сама всё испортила; выбралась наружу, подальше от голосов, лиц, запахов – и всё равно не смогла удержать её. Он бросает на меня сверху тяжелую куртку, горячую изнутри, и садится на корточки рядом, прогибая тощие доски помоста. Мама, говорю я вытянутому вороту его колючего свитера, остро пахнущего дымом, рыбой и птом. Тихо, говорит он и наклоняет голову ниже, чтобы мне удобнее было прислониться. Ма-ма, шепчу я в эту жаркую чужую шею, мама. Ма-ма. Тихо, повторяет он. Тихо.
24
– …да ни черта ещё не закончилось, – говорит папа возмущённо, упираясь локтями в липкую, замусоренную столешницу. – Ну что за ересь ты несёшь!
Щёки у него по-прежнему горят – ярко, болезненно, и нестриженая растрёпанная борода ерошится, как иголки у обиженного ежа.
– Сколько прошло времени? Ну? Сколько?
Не дожидаясь ответа, он вытягивает вперёд большую желтую ладонь с растопыренными пальцами и с размахом, лихо, помогая себе второй рукой, загибает по одному кривоватые свои пальцы с черной каймой вокруг обломанных ногтей, словно это не пальцы, а костяшки на старых деревянных счётах:
– Сентябрь! Октябрь! Ноябрь!
Дойдя до января (ладонь его к этому моменту сжата в плотный, угрожающий кулак) он уже кричит и тычет этим тёмным, сердитым кулаком прямо перед собой, и Марина, сидящая напротив, крупно вздрагивает от каждого выкрика и от каждого тычка, но не отворачивается и не отводит глаз.
– Февраль! – кричит папа, загибая большой палец на второй руке. – Март!
– Апрель, – тихо, упрямо говорит Марина. – Уже апрель.
– Да хоть май!
Папа с ненавистью разглядывает свои кулаки, а потом разжимает их и кладет обратно на стол, погружая растерзанный рукав в мутноватую лужицу – водки? бульона? воды? – которая мгновенно впитывается и чернит расплетенные шерстяные нитки.
В комнате душно пахнет рыбой, спиртом, затянувшимся нищим застольем. Злостью.
– Семь месяцев – это мало, – говорит папа гораздо спокойнее, обращаясь теперь, кажется, только к собственным своим ладоням. – Был такой грипп – испанка. В начале века. Прошлого века, – поправляется он досадливо. – Эпидемия длилась два года. Два. Ясно тебе? Или чума там какая-нибудь. Годами же!..
– Ну и что, – перебивает она. – Ну и что. Это другое дело. Они же не все умирали, да? Не все. Сейчас ведь не так. Доктор говорил, она закончится. Она быстро закончится, потому что, ну, потому что никого не останется, чтобы ее переносить. Он говорил…
– Ну и где теперь твой хвалёный доктор? – хмуро спрашивает папа. – Ты помнишь, что с ним случилось, с твоим доктором?
Она отмахивается от этой фразы и от этого воспоминания разом – нетерпеливо, поспешно, и выплёвывает испуганной скороговоркой, пока её снова не прервали. Не смотрит на папу, оглядывает нас, одного за другим:
– Они же все умерли. Все-все, наверняка, ну подумайте сами, никого же не осталось, там никого уже нет, давно, еще с осени, наверное, там пусто. Осталось столько всего – дома, машины, бензин, склады какие-нибудь с едой, с вещами. Там уже не страшно, мы могли бы вернуться, ну правда, мы могли бы…
– Да с чего ты взяла, что там никого не осталось? – говорит папа. – Ты думаешь, мы одни такие умные? Вот прямо на всей планете – мы одни сбежали, спрятались, да? Их может быть сколько угодно, таких умников. И я даже не про правительственные бункеры какие-нибудь, черт бы с ними, эти вылезут в последнюю очередь. Нет. Представь себе, что у кого-нибудь были запасы, много, и достаточно мозгов, чтобы не выходить из дома вообще. Месяца, скажем, три-четыре, пока все остальные не вымерли. И вот этот башковитый кто-то сидит у себя на даче или в какой-нибудь деревне в лесу, жрёт свои консервы, смотрит в окошко, смотрит на календарик, ну и на себя в зеркало – тоже смотрит. Ай да я, думает он. Молодец. Все вот умерли, а я выжил – можно выходить за покупками.
Папа протягивает руку через стол и хватает Маринино тонкое запястье, потому что она, похоже, готова выскочить сейчас из-за стола, только бы не слушать и не соглашаться.
– И он выходит, – говорит папа. – Он выходит и начинает рыться в первом попавшемся продуктовом магазине. Прётся на какой-нибудь аптечный склад. Садится за руль симпатичной чужой машинки. И трогает руками то, что трогать нельзя, потому что ему и в голову не может прийти, что инфекция – контактная. Потому что никто этого не знал. Кроме этих, в бункере, они-то разобрались уже, скорее всего, потому и не вылезают пока.
Марина коротко слабо дёргается, пытаясь вырвать руку, но папа держит её крепко. Мне кажется, он хотел бы взять ее сейчас за подбородок, потому что она вертится и отворачивается, не желая глядеть на него; но он всего лишь прижимает ее узкую кисть своей широкой ладонью и продолжает:
– А потом он возвращается домой, этот умник. Все эти умники, сколько бы их ни осталось, возвращаются к себе домой и заражают друг друга. И начинают бегать по улицам, пока не перемрут, и всё начинается с начала. Там нечего делать. Не этой весной уж точно. Не в этом году вообще.
– Так зима же, Андреич, – ворчит Лёня; не сразу, а через минуту или две, когда становится ясно, что Марина ничего больше не скажет, она зажмурилась и молчит. – Зима, всё повымерзло везде, и зараза эта замёрзла тоже.
Папа выпрямляется и убирает руки, пожимает плечами:
– Замёрзла – оттает, – говорит он. – Как раз к лету и оттает, как миленькая. Ты представляешь, сколько там трупов? Они же… потекут там. По улице нельзя будет пройти. По любой улице. Даже в маске. Даже в противогазе – нельзя.
Теперь мы все молчим, представляя себе, конечно, какую-то вполне определенную улицу и определенный дом, и дверь, которую нужно будет толкнуть, чтобы войти – каждый свою; и расстояние, отделяющее нас от этих улицы, дома и двери. И время, которое должно пройти прежде, чем исполинский морг, начинающийся в нескольких десятках километров отсюда, высохнет, выветрится, очистится сам по себе, естественным путём, и перестанет быть для нас опасен. Сколько-то обязательных очищающих циклов – холод, жара, холод, – сколько-то сезонов, сколько-то лет, прежде чем мы сможем вернуться.
– Слушай, – говорит папа примирительно. – Я не говорю, что нам здесь жить робинзонами до конца наших дней. Но сейчас рано, понимаешь? Нельзя сейчас. Еще хотя бы одну зиму. Хотя бы одну…
Сейчас Лёня забубнит опять – «ты как знаешь, Андреич, а я бы попробовал», думаю я тоскливо, чувствуя, как тяжеленная Анчуткина куртка давит мне на плечи, словно кто-то прижимает ее сверху ладонью, что он там носит, в карманах, не может обычная куртка весить так много; как не вовремя мы вернулись, сейчас они опять затянут на полночи. Всю зиму мы говорим, говорим об одном и том же, строим дурацкие несбыточные планы – сейчас, пока нас отделяют от необходимости что-нибудь решать еще несколько месяцев непроходимого снега, эти разговоры и безопасны, и бессмысленны, и я знаю наизусть каждый аргумент в этом вялом споре. Если повезёт, они не будут сегодня продолжать, дуаю я, высвобождаясь из засаленного камуфляжного объятия. Случается, что им надоедает уже в середине. Но тут Лёня говорит «да ладно, ну сколько говорили уже – а жрать мы что будем следующей зимой?», и я отворачиваюсь назад, к двери, потому что сейчас Серёжин выход. То, что он всегда произносит в этом месте, мне тоже известно дословно.
– Как – что? – говорю я вполголоса, одними губами.
– Брусника! – шепчу я Анчутке, который смотрит на меня удивлённо и весело.
– Утки! – повторяю я вслед за Сережей и чувствую при этом разве что слабую неловкость за то, что передразниваю этот набивший оскомину никчёмный спор.
– Грибы! – произносим под конец мы оба, Серёжа и я.
Не могу удержаться, чтобы не поднять вверх торжествующий палец; мне даже не нужно оглядываться, я знаю, что копирую сейчас не только Серёжины интонации, но и жест, которого не вижу. Анчутка громко смеётся, и я понимаю, что угадала.
В отличие от меня, Анчутка слышит этот разговор впервые.
– Ну слава богу, – говорит он, потому что все они сейчас, наверное, смотрят на него. – Я уж думал, вы собрались жить тут до старости.
Он забирает у меня из рук свою куртку, бросает ее на гвоздь и шагает к растерзанному столу.
– Валить надо отсюда, – с удовольствием произносит Анчутка, усаживаясь рядом со спящим Лёхой, монолитно приникшим к железной спинке кровати и больше всего напоминающим сейчас тяжелую, маленькую, неживую тряпичную куклу. – Только в другую сторону. Что вы там забыли, на родине? К чухонцам надо. Попросим у них политического убежища, – говорит он и улыбается. – Как снег сойдет, мы и поедем сразу.
– Расстреляют тебя твои чухонцы прямо на подъезде, – невесело и пожалуй, с некоторой завистью заявляет папа после паузы. – Если вы вообще туда доберетесь. Не ближний свет.
– Да мы и не попрёмся через блокпосты, – говорит Анчутка, пожимая плечами. – Мы там были уже. Здесь напрямки до границы не так уж далеко. Мне один мужичок из местных рассказывал, есть тут старая грунтовка. Как всё высохнет, можно попробовать. Они и раньше вдоль границы, взявшись за руки, не стояли, а теперь уж тем более. Охраняют только погранпереходы. Не ждут они нас там, дядя. Они, наверно, никого уже отсюда не ждут.
Наступает тишина, в которой слышен только негромкий свист, вырывающийся из Лёхиных запрокинутых к потолку ноздрей, и ровное гудение огня за железной печной дверцей. Так вот почему вы приехали, думаю я почти вслух, так оглушительно стучит у меня в ушах каждое слово. Не было никакой случайности в том, что вы появились именно здесь; вам нужна была эта старая грунтовая дорога, которая приведет вас к самой границе. У вас был дышащий на ладан УАЗик и пара пистолетов, и вы бы не добрались, конечно, ни до какой Финляндии, застряли бы в снегу, замёрзли, умерли бы с голоду – если бы не мы. Если бы не наша глупая трусливая осторожность. Это мы уступили вам всё. Поднесли на блюде. И теперь у вас автоматы, респираторы, куча консервов, и как будто этого недостаточно, мы только что отдали вам машину. Прекрасную, большую, выносливую машину.
– Так может, мы тоже? – говорит тогда Марина неуверенно, и голос у нее дрожит от волнения и надежды.
Еще один аргумент в вечном беспросветном споре, всплывший всего однажды – давно, в самом начале нашей жизни здесь, и сразу же забытый, отвергнутый в силу своей неосуществимости. Появившийся снова благодаря постороннему мужику, удобно расположившемуся на пересечении наших взглядов, снова оказавшемуся в центре внимания.
– Может, и нам тогда?.. Ну, попробовать? – спрашивает она не у папы даже, вечного своего оппонента, а у Анчутки, как будто ей необходимо его разрешение. – Раз недалеко?..
Анчуткина улыбка становится пластмассовой, хотя ни одна лицевая мышца, кажется, не задействована в этой мгновенной перемене. Только что это был дружелюбный сосед, приятный мужик, заглянувший поболтать, а теперь сквозь безобидную приветливость его широкого гладко выбритого лица отчетливо проступает что-то другое, хотя улыбка по-прежнему на месте, она никуда не исчезла.
– Как? – только и успевает спросить папа прежде, чем Марина понимает, что сморозила глупость. – На чём?.. У нас одна машина осталась на десять человек, – скривившись, говорит он, и я думаю об Андрее и его пикапе, одновременно выпавших отовсюду: из несбыточных планов, из неутешительной нашей арифметики и из этого многомесячного спора вообще. Хорошо, что Наташа спит сейчас за перегородкой, в тёплой сладкой детской темноте, и не слышит ни этих слов, ни этих моих мыслей.
– Да хоть три машины, – бросает Лёня раздражённо. – Хоть целый автопарк. Чем их заправлять-то?
И разговор снова делает виток, возвращаясь в вытоптанную неоднократно, до смерти надоевшую колею.
– Пешком, – говорит Лёня (в который уже раз).
– По весне, – говорит он. – Вы нас тут подождёте, а мы с Серёгой налегке, через лес, до Поросозера. Там поселок же был громадный, найдем и топливо, и машин наверняка осталось до черта.
– Грёбаный ты бойскаут, – говорит папа (как говорил на прошлой неделе, и две недели назад тоже). – Шестьдесят километров по тайге, не смеши мышей, без навигатора, без ничего. Ты когда по компасу ходил последний раз? В школе? Мы даже костей ваших не найдем!
– А какой выход? – свирепо говорит Лёня. – Выход-то какой?
И тогда наши гости начинают собираться, потому что всё уже сказано и дальше неинтересно; Анчутка – несонный, свежий, трясет за плечо обмякшего Лёху и торопит румяного, раскисшего от водки Вову – «пошли, пошли, пора», и оба они, мутные, непонимающие, послушно поднимаются, словно сломанные затёкшие марионетки, и плетутся за ним к выходу.
Мы остаёмся наедине с остывшей зловонной рыбой, составленными под столом пустыми водочными бутылками и безнадёжностью. Мишка спит, зябко свернувшись на сбившемся в комок спальном мешке. Ира встаёт, чтобы собрать со стола разбросанные тарелки, а я, прислонившись спиной к истрескавшемуся дверному косяку, пытаюсь ухватить за хвост обрывок какой-то смутной мысли – лоскут, клочок, невнятный фрагмент; и мне страшно мешает папино иссякающее уже, монотонное бормотание «даже если доберётесь каким-то чудом, там же кладбище, там ничего трогать нельзя», и Лёнино «маски наденем, перчатки, да брось ты, Андреич, один раз проебали уже». И как только они замолкают на мгновение, прежде чем Серёжа успевает присоединиться, я уже знаю. Я делаю шаг. Я говорю: «Подождите».
– Подождите, – говорю я.
Они смотрят на меня без любопытства, тускло, устало. У Серёжи красные бессонные глаза.
– УАЗ, – говорю я. – Этот их УАЗ, на котором они приехали. Это же бензиновая машина? Да? И снегоход, – продолжаю я торопливо, – он ведь тоже? Бензиновый?
Папа кивает нетерпеливо. При чём здесь они и сраный этот УАЗ, написано на его лице.
– А зачем? – спрашиваю я. – Зачем тогда? Зачем им тогда наш дизельный «Лендкрузер»?
И они смотрят на меня. Лёня понимает раньше остальных и начинает подниматься, тяжело нависая над жалким столом. Как будто увеличиваясь в размерах. Раздуваясь, как торжествующий дирижабль. Он даже протягивает в мою сторону толстый свой палец. Тычет в меня этим пальцем, словно приглашая меня пожать его, и улыбается – раньше даже, чем я заканчиваю свою мысль.
– У них не было дизеля, когда они сюда приехали, – говорю я. – У них ни черта не было, и уж дизеля точно. Зачем бы им дизель, когда у них бензиновая машина? А теперь он у них есть.