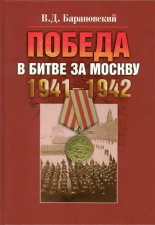Одинокая звезда Касаткина Ирина

– Ну сколько?
Когда Маринка назвала цену, мать даже охнула. Но тут же сказала:
– Ну что ж. Ты уже заневестилась – тебе одеваться надо. Добавлю из денег, что отцу на костюм откладывала. Походит в старом, может, быстрее на работу устроится. Беги, купи, пока не продали.
Так у Маринки появилось новое пальто. Когда она надела его и сапожки на каблучках, купленные весной, да покрутилась перед зеркалом, даже отец одобрительно крякнул. Хороша, ничего не скажешь!
Наконец, пришла суббота. С утра зарядил нудный дождь и, похоже, надолго. Но и он не испортил Маринке настроения. Весь день она летала, как на крыльях. Даже Гена упрекнул:
– Не светись! Не показывай, что ты счастлива – сглазят. Веди себя, как будто ничего особенного не происходит.
«Гена прав», – думала Маринка, наряжаясь. Она постаралась спрятать поглубже рвущуюся из нее радость и с равнодушным видом вышла из дому. По дороге в парк она изо всех сил старалась идти помедленнее, чтобы прийти позже него, но ноги сами так и несли ее.
Дима пришел задолго до назначенного времени. По мере приближения стрелки часов к пяти он все сильнее волновался. Придет или не придет? Она так безразлично разговаривала с ним по телефону. Вдруг у нее уже кто-то есть?
Он стоял под зонтом, держа в руке темно-красную розу на длинной ножке, купленную у входа в парк. Дождь усилился, и аллеи парка опустели. Он посмотрел на часы. Пять. А ее нет. Наверно, не придет, дождя испугается.
Он собрался пойти позвонить и вдруг увидел ее. Она неспешно шла под красным зонтом в роскошном длинном пальто – такая тоненькая, румяная, необыкновенно хорошенькая. Он протянул ей розу и, целуя в ладошку, заглянул в глаза. И сразу почувствовал ее волнение, а почувствовав его, успокоился. Она взволнована, значит, ждала этой встречи не меньше него. Значит, он ей небезразличен, очень даже небезразличен. И никого другого у нее нет. Какое счастье!
Он взял ее под руку, и, прижав к себе, спросил:
– Что Мариночка предпочитает: прогулку под этим уютным дождиком или, может, посидим в кафе «Золотой колос»? Там сегодня почти никого – я заглядывал.
– Пойдем на нашу скамейку, – предложила Маринка.
– Прекрасная идея! Но она же мокрая. Не идея – скамейка.
– Ну и что? У меня два больших целлофановых кулька есть – постелим. А под зонтиками не промокнем.
– Что ж, раз так – пошли.
Они спустились вниз. Листья с деревьев уже почти облетели и золотым мокрым ковром лежали на земле. Кругом не было ни души. Они постелили Маринкины кульки и сели, сдвинув зонты. Так они сидели некоторое время молча, слушая шум дождя и наслаждаясь тишиной и уединением.
«Наверно, это самые прекрасные минуты в моей жизни, – думала Маринка. – Интересно, есть ли кто-нибудь на свете счастливей меня? Как хорошо с ним просто сидеть и молчать».
«Если я ее сегодня не поцелую, – думал Дима, – буду последним дураком. Но не сейчас. Сейчас мы немного поболтаем. Пусть расскажет, чем занималась эту неделю: какие успехи в школе, что нового написала. Девушки любят, когда интересуются их делами».
– Мариночка, я всю неделю о тебе думал, – начал он, и это было правдой. – Утром встаю и говорю мысленно: «Доброе утро, Мариночка! Удачного дня». Вечером ложусь и думаю: «Спокойной ночи, дорогая! Счастливых снов» Как ты считаешь, что бы это значило?
«Что ему ответить? Ждет, что я сейчас растаю. Только без глупостей!» – подумала Маринка, замирая от счастья. А что бы посоветовал Гена? Он бы сказал: преувеличивает.
– Я думаю, ты преувеличиваешь, – ответила она, погрузив нос в розу и опустив ресницы, чтобыглаза не выдали ее радости.
Да, эта девочка не похожа на остальных. С ней надо держать ухо востро. И Дима решил переменить тему.
– Ну как зачеты? Все посдавала?
– Спасибо, хорошо. Даже лучше, чем ожидала. Физичка пятерку в четверти поставила. Теперь надо жать, чтобы было пять в аттестате. В прошлом году у меня даже трояки случались. «Спасибо Гене!» – мысленно поблагодарила она друга. Если бы не он, не видать мне этой пятерки, как своих ушей без зеркала.
А Дашенька стала бы клясться: «Ничего не могла учить, все время о тебе мечтала!», – подумал Дима.
– А обо мне вспоминала? – прямо спросил он и замер. Что она ответит? А главное, каким тоном. Жаль, нельзя заглянуть ей в глаза – сидит, опустив реснички. Скромница! Ничего – он в них сегодня еще заглянет.
«Держись! – приказала себе Маринка. – Не растекайся по паркету, как сказал бы Гена».
– Конечно, вспоминала, – сдержанно ответила она, стараясь не смотреть на него. – Ты же звонил. Ну как, выбрал что-нибудь из моих тетрадок?
– Выбрал, и не одно. Там есть детское стихотворение «Песенка про щенка» – ну просто отличное. Само поется. И еще несколько. Сейчас мелодии подбираю.
– О, про щенка мы еще в детском саду пели. На фестивале детской песни. Я сама тогда мелодию придумала. Даже приз получили – пять коробок конфет. Мы ими тогда объелись. И по телевизору нас показывали.
Она вспомнила, как все восхищались Леночкой, – какая она была красивая на экране. И как ей, Маринке, было обидно, ведь песню сочинила она, а не Ленка.
– А новые стихи написала?
– Всего одно. Некогда было. Может, на каникулах сочинятся.
– А как ты сочиняешь? Долго думаешь или сразу? Я, когда начинаю подбирать рифму, думаю-думаю, и иногда ничего на ум не приходит. Беру первую попавшуюся. Из-за этого песни такие корявые получаются.
– Нет, у меня иначе. Иногда совсем не пишется – даже боюсь, что больше уже и не сочиню ничего. А потом вдруг как нахлынет! Помнишь, как у Пушкина: «минута и стихи свободно потекут». Именно так – свободно. Хватаю, что под руку попадется, и пишу, пишу. Почти ничего потом переделывать не приходится. Одно-два слова, и все.
– Да, у тебя талант. Зря не идешь на литфак. Погубишь его, потом пожалеешь. Программистов много, а хороших поэтов – раз-два и обчелся.
– А жить как? Кто сейчас поэзию покупает? Нет, надо специальность получить, которая прокормить сможет. А стихи и так можно сочинять, между делом. Пушкин вон литфака не кончал, а стал великим поэтом.
– Тут, я думаю, ты не права. Во-первых, Александр Сергеевич получил великолепное, по тем временам, гуманитарное образование. Во-вторых, литфак дал бы тебе знания, которые ты сама нигде не получишь. Как твой отец говорит: ты бы стала на ступеньку выше именно в творчестве. Лучше бы писала и тематика твоих стихов расширилась бы. Но решать, конечно, тебе.
– Нет, Дима, я пойду в Политех. Стихи не моя профессия. Буду писать ради собственного удовольствия. Может, повезет – книжку издам. Когда-нибудь. Пусть люди читают. Если повезет.
– Жаль. Ну прочти мне стихотворение, что на этой неделе написала. О чем оно?
– Оно о людях, которые, когда были молоды, любили друг друга, а потом поссорились и расстались. И она представляет себе их встречу через много лет. Вот послушай:
- Когда-нибудь мы станем старше вдвое.
- Пройдут года. Промчится много лет.
- И может быть, мы встретимся с тобою.
- Узнаем мы друг друга? Или нет?
- Наверно, да. Ты станешь взрослым дядей.
- И в жизни каждый свой отыщет путь.
- Мы встретимся. И, друг на друга глядя,
- Мы вспомним то, что больше не вернуть.
– Стоп! – остановил ее Дима. – Дальше не читай. Не хочу, чтобы у нас с тобой так было. Это слишком грустные стихи. Дочитаешь их когда-нибудь в другой раз.
Они опять помолчали. Каждый думал о своем.
Дождь усилился, и стало быстро темнеть.
– Пойдем, Мариночка, в кафе, – встал Дима, – что-то холодно стало. Да и сыро. Как бы ты не простудилась. Выпьем по чашечке кофе с пирожным.
– Только недолго, – согласилась Маринка, – отец не любит, когда я поздно возвращаюсь. А для него темно, значит, поздно.
– Всего только половина седьмого. Часа полтора у нас еще есть?
– Ну часик.
Они пошли в кафе, посидели там, потом медленно прошлись в полном одиночестве по аллеям парка. Дождь лил как из ведра. Маринка представила тревогу родителей, поглядывающих на темные, залитые струями дождя окна, и заторопилась домой.
Они дошли до середины двора и остановились под старым кленом. Фонарь над ее подъездом не горел – лампочку опять разбили мальчишки. Они регулярно разбивали ее и почему-то не трогали у соседнего, где жили Гена и Лена. Там сияла «кобра», да так ярко, что освещала весь двор.
Дождь ненадолго перестал. Они сложили зонты. Он взглянул на ее напряженное лицо и притянул за поясок к себе. Она стояла, бессильно опустив руки, и испуганно смотрела на него. Он обнял ее и коснулся губами ее сжатых губ.
Совсем девочка! – подумал Дима.
Даже нецелованная. Как приятно!
– Мариночка, а зачем же поджимать губки? – спросил он, любуясь ее смятением. – Я же именно их поцеловать хочу. И зажмуриваться не обязательно – это совсем не страшно. Ну-ка, давай еще раз попробуем.
Он снова притянул ее к себе и крепко поцеловал в губы, которые она теперь перестала прятать. Но, заглянув ей в глаза, увидел, что они полны слез.
– Мариночка, а почему эти самые прекрасные в мире глазки вот-вот заплачут? Тебе неприятно? Тогда скажи – я не буду.
Он ужасно расстроился, до того, что чуть сам не заплакал. Как ее понимать? Думал, она будет рада.
– Дима, ты меня любишь? – дрожащим голосом спросила Маринка.
– Конечно, люблю! – уверенно воскликнул он. – А почему ты спрашиваешь?
– Я думала: сначала в любви объясняются, а только потом целуют, – не глядя на него, прошептала она. – А у нас все наоборот.
– Так вот в чем дело! Но разве поцелуй не означает признание в любви? Я люблю тебя, очень люблю – не сомневайся! – У Димы просто камень с души свалился. Значит, она все же влюблена, как он и думал.
– Я люблю тебя, люблю, люблю, люблю! – повторял он, целуя ее в мокрые щеки, губы, лоб. – Не плачь, пожалуйста, все будет так, как ты захочешь. Мы всегда будем вместе.
Успокоившись, она сама привстала на цыпочки и, вытянув губы, неумело поцеловала его. Потом он ее. Потом снова она. Потом они обнялись и долго стояли, наслаждаясь чудесными мгновеньями. Расставаться не хотелось никак.
Наконец, Маринка опомнилась. Подняла голову и с ужасом увидела в освещенном кухонном окне силуэт отца.
– Все, Дима, сейчас он меня убьет, – пробормотала она. Губы не слушались ее, так нацеловалась. – Димочка, я побегу, ладно? Созвонимся. – И, высвободившись из его объятий, понеслась наверх.
Дверь открыла мать. Не говоря ни слова, она ушла на кухню. С видом, не сулившим ничего хорошего, в коридор вышел отец.
– Кто он? – грозно спросил отец, и у Маринки от страха подкосились коленки. Он все видел. Что сейчас будет! Точно убьет.
Ну и пусть! Она вдруг разозлилась. В конце концов, ей семнадцатый год. Она уже не маленькая девочка, которую ставят в угол. Она влюблена и имеет на это право.
– Мой знакомый! Из сорок седьмой школы. А что? – с вызовом спросила она.
– Как его зовут? И кто его родители?
– Дмитрий Рокотов. Папа полковник, как ты. Только еще не в отставке. Мама завуч в его школе. И я его люблю – так и знай!
– А не рано ты начала этим заниматься? Может, сначала хоть в институт поступишь?
– Ничем таким я не занимаюсь! – У Маринки от возмущения на щеках выступили красные пятна. – И в институт поступлю, можешь не сомневаться. Он, кстати, тоже туда собирается. Лучший программист города. Победитель олимпиады, между прочим.
– Митя, иди сюда, – позвала мать из кухни. – Оставь ее в покое. Раздевайся, дочка, небось, вся промокла.
– Ничего я не промокла, я же с зонтом.
Маринка разделась, прошла в свою комнату и выглянула в окно. Он стоял на том же месте и, задрав голову, смотрел на ее окна. Счастливо засмеявшись, Маринка постучала в стекло и помахала ему рукой. Он послал ей воздушный поцелуй и только тогда пошлепал по лужам к воротам. В душе у него все пело.
«Какая чудесная девушка! – радовался Дима. Чистая, как росинка. Повезло мне. Теперь такая девушка редкость. Буду с ней встречаться. А потом, может, и женюсь. Надо ее с мамой познакомить – она в людях разбирается, как никто другой. Если одобрит, точно женюсь. Года через три. Или два».
А у Маринки зазвонил телефон.
– Мой совет: до обрученья не целуй его, – голосом Мефистофеля пропел Гена. – Ну, как ты? Вся в процессе?
– Подглядывал? – взмутилась Маринка. – Как не стыдно!
– Зачем подглядывать? Я любовался открыто. Вы же стояли, как на сцене. А все жильцы – как на галерке. Сплошной театр! Ну давай, рассказывай.
– Гена, все замечательно! Он мне в любви объяснился. Представляешь?
– Сам объяснился? Как это было?
– Ну, он меня поцеловал, а я спросила: «Ты меня любишь?» А он сказал: «Ну конечно, люблю, очень люблю!» И еще повторил: «Люблю, люблю, люблю!»
– Значит, напросилась.
– Гена, ну зачем ты так? Все настроение испортил. Почему напросилась? Я же его за язык не тянула. Он говорит: раз целую, значит, люблю.
– Ничего это не значит. Целовать – это одно, а любить – совсем другое. Мало ли кто кого целует.
– А ну тебя! Тебе просто завидно – вот что я тебе скажу. Он меня любит – я в этом уверена. Ты бы видел, какое у него было счастливое лицо.
– А он тебя не спросил, любишь ли ты его?
– Нет, а зачем? Это же и так видно.
– Все равно, плохо, что не спросил. Лучше, если он будет хоть чуть-чуть в этом сомневаться.
– Вот уж чего-чего, а притворяться я не умею. Ну тебя! Не хочу больше слушать.
И она положила трубку.
Гена походил по кухне, не зная, чем заняться. Хотелось только одного: позвонить Лене. Но он слишком хорошо помнил ее реакцию на прошлый звонок и боялся нарваться на новую отповедь. Наконец не выдержал.
«Хоть голос ее услышу, – подумал он, набирая ее номер. – Ну, пошлет – ну и что? Проглочу, не в первой. А вдруг повезет?»
– Лен, это я, – покорным голосом произнес он, приготовившись ко всему.
– Слышу, – ответила она. И вздохнула.
– Ты чего делаешь?
– Ничего.
– Ольга Дмитриевна дома?
– Нет, она сегодня поздно придет.
Какой-то у нее голос… смирный, без привычной в последнее время агрессии. Может, помягчела?
– Лен, можно к тебе? Я тоже… ничего не буду делать. Вместе скучать веселее.
– Обещаешь?
– Клянусь!
– Ну иди.
Он съехал по перилам на третий этаж. Она увидела это и только покачала головой, пропуская его в квартиру. Потом подошла к окну и стала глядеть в темноту.
– Не знаешь, что с Маринкой? – помолчав, спросила она. – Ее нигде не видно.
– Она влюбилась, – ответил он. – Только что целовалась до потери сознательности. Сейчас дома – летает под потолком.
– Я видела. Кто он?
– Парень из сорок седьмой. Ничего особенного. На гитаре играет. И песни сочиняет на ее стихи.
– А… понятно.
– Я на компьютерные курсы записался. Только там домашние задания дают. Можно на твоем их делать?
– Конечно. Делай, когда надо.
– Лена, что с тобой? Какая-то ты не такая. Грустная очень.
– Не знаю, Гена. Наверно, эта четверть меня доконала. Все гнала, гнала. Вот – все пятерки, а никакой радости. Наверно, депрессия. А может, просто устала.
– Можно я включу компьютер? Хочу поработать с клавиатурой – я еще не все клавиши усвоил.
– Конечно. Вот возьми хороший учебник – здесь все есть.
Она села рядом и стала смотреть, как он запускает программу. Лицо ее было таким печальным, что у него заныло в груди. «Если она сейчас попросит достать Луну с неба, – подумал он, – полезу.
Сначала на крышу, потом на антенну, потом на облако. Может, дотянусь? Как же я люблю ее! До смерти».
И когда она наклонилась к нему, помогая установить курсор, он не смог совладать с собой. Обнял ее, прижал к себе и стал целовать в висок, в шею, в ухо – в то, что оказалось рядом с его губами. И вдруг с ужасом увидел, что по ее лицу потекли слезы. Она молча плакала.
– Леночка, что с тобой? Ты обиделась, да? Не плачь, я больше не буду!
Он отошел от нее и встал у стенки, спрятав дрожащие руки за спину.
– Нет, это ты прости меня, Геночка, прости меня! Я знаю: ты хороший, ты лучше всех! Ты так меня любишь! Но я не могу, не могу… сама не знаю, почему. Не могу… с тобой… у меня не получается. Ты подожди… еще подожди, не торопи меня. Может быть, потом… я привыкну к тебе, я… я постараюсь! Только сейчас… не трогай меня… пожалуйста!
– Хорошо, хорошо, не буду! Только ты не плачь. Я уже ухожу. Не плачь, ладно?
И он ушел. Поднимался по лестнице и думал: ей было одиноко и она впустила его к себе. Она все понимает, она хочет ответить ему – и не может. Что же это такое? Почему любовь так жестока к нему? Он всю жизнь старался стать достойным ее – и все впустую.
Но он еще поборется. Еще не все потеряно. Она сама сказала: может быть, потом. Он наберется терпения и будет ждать. Иначе – хоть с моста в воду. Ничего другого не остается.
А Маринка, попрыгав по комнате на одной ножке, упала на диван и стала грезить наяву, вспоминая сегодняшний вечер. Она обсасывала его, как косточку, – мгновение за мгновением. Вот он увидел ее и просиял, вот он взял ее под руку, вот они сидят, прижавшись друг к другу и слушают песенку дождя. Вот они в кафе, вот они во дворе, вот он притягивает ее за поясок к себе. О, как сладостно прикосновение его губ к ее губам! Какое-то новое ощущение во всем теле… какое-то тепло в груди. Нега – да, вот подходящее название этому ощущению. Как она его любит – бесконечно! Какое счастье любить! Как она жила без любви? И разве это была жизнь? Просто какое-то растительное существование.
От сладких грез ее оторвал звонок. Звонил, конечно, Дима.
– Мариночка, мы опять не договорились, когда встретимся.
Как ей хотелось сказать ему: «Немедленно! Прямо сейчас!». Но у нее хватило ума предоставить право назначить свидание Диме – сказывалось Генино воспитание.
– Когда хочешь, – ответила она, стараясь сдерживать насколько можно прорывающуюся в голосе радость.
– Давай завтра утром? Хочу пригласить тебя в гости. На обед. С мамой познакомлю. И с отцом. У меня мировые родители. Мама вообще мой лучший друг, хоть и завуч. Придешь?
– Ой, я боюсь! А вдруг я им не понравлюсь? А они знают, что ты хочешь меня пригласить?
– Конечно! Именно мама мне это и предложила. Я пришел, как хлющ, а она говорит: «Что, и завтра будешь девушку по дождю водить? Лучше пригласи в дом – посидите, поболтаете, на компьютере поиграете. Фильмы новые по видику посмотрите. Прогноз на завтра не располагает к прогулкам». Так ты придешь?
– Ладно, я согласна.
– Тогда я зайду за тобой часиков в десять. Погуляем немного для аппетита, а потом – к нам. Только предупреди своих, что тебя до вечера не будет. В крайнем случае, мой телефон оставь. Тебе не влетело от отца?
– Нет, обошлось. Мама заступилась.
– Если я зайду за тобой, он меня с лестницы не спустит?
– Нет, не бойся. Он, как узнал, что твой отец тоже полковник, сразу помягчел. Поворчал для вида, а так – ничего. Думаю, ты ему понравишься. Ты не можешь не понравиться.
– Спасибо. Мариночка, можно тебя спросить?
– Конечно! Спрашивай, о чем хочешь.
– Ты до меня с кем-нибудь встречалась?
– Нет. Друзья у меня среди ребят есть. С Венькой Ходаковым еще с детсада дружу, с Геной Гнилицким – ты его уже знаешь. А как с тобой – такое со мной впервые.
– Ну и как? Что ты чувствуешь? Только – правду.
– Дима, я так счастлива! Мне даже страшно.
– Почему страшно?
– А вдруг это только сон? Вдруг я завтра проснусь и окажется, что ничего этого нет?
– А я завтра тебе позвоню пораньше и скажу: «Доброе утро, солнышко!» И ты поймешь, что это не сон.
– Дима, а вдруг это все кончится? Знаешь… всякое бывает. Жизнь такая… переменчивая!
Она хотела сказать: «Вдруг ты меня разлюбишь?» Но у нее язык не повернулся произнести эти страшные слова вслух.
– Ничего не кончится! Все только начинается. Мариночка, у нас с тобой все впереди. Не думай ни о чем плохом. Спокойной ночи, дорогая! Мама трубку рвет. Целую тебя! Люблю очень!
– Спокойной ночи, Дима. Я тоже тебя очень люблю! До встречи.
В тот дождливый вечер Ольга вернулась с родительского собрания усталой и расстроенной. Ее десятиклассники написали четвертную контрольную из рук вон плохо. Пришлось выставить за четверть пять двоек. Но родители двоечников на собрание не явились. Почти все они не имели домашних телефонов, а к ним на работу завуч не дозвонилась. Ольга понадеялась, что детки сами скажут родителям о собрании. Но детки-двоечники, естественно, «забыли» это сделать – кому ж охота нарываться на родительский нагоняй? И все возмущение Ольги их учебой и поведением повисло в воздухе.
Особенно донимал преподавателей один хулиганистый парень. На вступительных экзаменах он показал крайне низкие знания, но его мать так плакала и просила директора зачислить сына, что тот сдался. Отец парня погиб от несчастного случая на производстве, и после этого мальчик совсем от рук отбился. Мать надеялась, что, может, хоть в лицее он возьмется за ум.
Но парень учиться никак не хотел – да и не мог, так как имел пробелы в знаниях едва ли не с начальной школы. Тем не менее, он был из лидеров – и поскольку не мог привлекать к себе внимание класса успехами в учебе, стал отличаться его безобразным поведением на уроках.
Родители постоянно возмущались поведением безобразника и частыми драками. Всем было ясно, что слабая успеваемость в классе – следствие низкой дисциплины. Нужно было принимать радикальные меры, а именно – отчислять парня из лицея. Тем более что у него за четверть стояли двойки по всем предметам, кроме физкультуры и биологии. Добрая биологичка вообще не ставила двоек. К тому же парень прогулял больше половины уроков, поэтому все основания для его отчисления были.
Но директор медлил. Ведь отчисление лицеиста сопряжено с крайне неприятными разговорами в гороно и необходимостью подыскивать школу, согласную принять двоечника. Но руководство этой школы обычно сразу начинало просить принять в лицей какого-нибудь ребенка «нужных» родителей. А тот впоследствии мог оказаться ничуть не лучше отчисленного.
К концу четверти терпение родителей лопнуло, и на собрании они высказали директору свое крайнее недовольство. Пришлось тому клятвенно пообещать, что в ближайшее время он соберет педсовет и поставит вопрос об отчислении безобразника. Только после этого родители успокоились.
Потом был очень нервный разговор о перегруженности детей домашними заданиями и проблемах с математикой. Эти проблемы возникали ежегодно. Из-за крайне слабых школьных знаний приходилось повторять математику буквально с начальной школы, со сложения и вычитания простых дробей, не говоря уже о десятичных, и одновременно проходить материал десятого класса. Поэтому, помимо интенсивной работы на уроках, очень много задавали на дом.
Еще хуже было с изучением физики. За два месяца первой четверти десятиклассники должны были повторить практически весь материал трех предыдущих классов. Ведь абсолютное большинство бывших школьников никогда не решало задач на законы Архимеда, сообщающихся сосудов и прочие, которые изучались в седьмом и восьмом классах. А без этого успешно решать задачи молекулярной физики и термодинамики было невозможно. Вот и приходилось заниматься этим всю первую четверть – а за оставшиеся полтора месяца короткой второй четверти вталкивать в головы ребят весь материал первого полугодия десятого класса.
И обвинять школьных учителей в слабых знаниях ребят было бессмысленно. Наоборот, при их теперешней позорной зарплате, на которую не смог бы прожить ни один нормальный человек, надо было кланяться им в ножки, что учат детей хоть чему-нибудь.
В общем, проблем с лицеистами было много. Но зато, где бы они потом ни учились, отовсюду приходили только отличные отзывы – марку лицея ребята держали высоко. Большинство из них поступало в свой Политех, задавая отличной учебой тон остальным студентам.
Хорошо, что хоть на кафедре было спокойно. Вошедший в силу Михаил Сенечкин внимательно отслеживал малейшие намеки на ссоры и конфликты, зачастую бытующие в педагогической среде, и гасил их в зародыше. К Ольге он относился трепетно, стараясь почти все ее советы и предложения воплощать в жизнь.
Весьма плодотворной оказалась система студенческих взаимопроверок, придуманная Ольгой. Она внедрила ее сначала в своих группах, а затем – после доклада на заседании кафедры – и в остальных. Дух соревнования, характерный для молодежной среды, и личные взаимоотношения вносили во взаимный контроль знаний столько творчества, остроты и эмоций, что на занятиях скучать не приходилось. Но зато в математику очень быстро влюблялись поголовно все. А знание математики благотворно сказывалось и на изучении остальных предметов – особенно физики и информатики, которые без математических методов усвоить невозможно.
Размышляя над внедрением подобного взаимоконтроля и в лицее, Ольга подошла к подъезду и уже открыла дверь, когда ее окликнула незнакомая женщина, видимо, давно ее поджидавшая. Она зашла за Ольгой в подъезд и прислонилась к батарее, стараясь согреть озябшие руки. Слабый свет лампочки еще сильнее подчеркивал худобу ее лица. Присмотревшись, Ольга узнала мать Юры Шмелева – того самого безобразника, так досаждавшего своими выходками.
– Ольга Дмитриевна, можно с вами поговорить? – Мать просительно смотрела на Ольгу. Было видно, что она еле сдерживается, чтобы не заплакать.
– Но почему вы не пришли на родительское собрание? – с трудом скрывая раздражение, спросила Ольга. – Ведь кроме математики у вашего сына проблемы и с остальными предметами. По физике одни двойки, а на химию он вообще не ходит. Вам бы следовало выслушать и других преподавателей. Да и родители весьма сердиты на Юру и тоже хотели высказать вам свои претензии.
– Вот потому я туда и не пошла, – понурилась она. – Что я им скажу? Что вынуждена работать с утра до вечера, чтоб его одеть да прокормить? А он в это время предоставлен сам себе.
Ольга Дмитриевна, если его сейчас отчислят, это все – конец. Он покатится по наклонной плоскости и кончит колонией или чем похуже. Дружки его по двору уже наркотиками промышляют и Юрку к тому же склоняют. Мне тогда – хоть в петлю.
– Да вы понимаете, что из-за него весь класс страдает? Он сам не учится и другим не дает. Нет, я думаю, уже ничего сделать нельзя. Восемь двоек в четверти и масса пропущенных занятий. Вы же подписывались под уставом лицея, знаете, что отчисление следует при трех неудовлетворительных оценках. А здесь восемь! Куда уж дальше? Это вам хочется, чтоб он учился, а ему учеба совершенно не нужна. Он сам не раз заявлял – мол, в школе уроков никогда не делал и все было нормально. Вот пусть и идет в школу.
– Ольга Дмитриевна, вы, конечно, правы, во всем правы. Но… дайте ему шанс, ну хотя бы до конца полугодия. Если бы вы знали, как он раскаивается! Он, когда узнал, что у него восемь двоек за четверть, даже разревелся. Он ведь думал, что его только пугают. В школе никогда столько не ставили. Вы знаете: Юра понял, что в его жизнь вошло что-то настоящее, что стоит ценить. И вот он по своей глупости его лишается. Он умоляет не отчислять его, клянется, что исправится. Дайте ему шанс, прошу вас!
– Но я ведь ничего сама не решаю, – растерялась Ольга. – И почему вы за него объясняетесь, почему не он сам? Ведь уже не маленький – десятиклассник. По-хорошему, он должен был сегодня прийти на собрание и перед всеми покаяться.
– Побоялся. Лежит сейчас дома – весь день ничего не ест. И глаза на мокром месте. На вас вся надежда, Ольга Дмитриевна.
– Он побоялся! Жидкий на расправу! Когда других ребят он с дружками лупцевал, не боялся. И уроки срывать. Верите, вас мне жалко, а его ни капли.
– Ольга Дмитриевна, ну поверьте ему один раз! Попросите директора – он вас послушает. Не отчисляйте его до новогодних каникул. Если в полугодии будет хоть одна двойка, клянусь, сама заберу документы. А вдруг он возьмется за ум?
– Ох, не знаю, что и сказать. Свежо предание, да верится с трудом. Ладно, я поговорю завтра с директором. Но и Юра пусть даст обещание, что изменится. И пусть прощения попросит перед учителями и товарищами, которым так досаждал. И чтоб впредь на уроках вел себя тише воды, ниже травы. Так и передайте.
– Все передам. Огромное вам спасибо! Побегу, обрадую его.
– Рано радовать – еще ничего не решено. Пусть Юра завтра идет к директору и кается. Я замолвлю слово, но если он меня подведет! Пусть тогда не обижается. И если его оставят, чтобы каждый день ходил на консультации. Каникул у него не будет. И вообще, я плохо представляю себе, как он будет исправлять двойку по математике. У него же с самой начальной школы – сплошная черная дыра. Помню: я ему говорю: «Возьми корень из этого выражения». А он мне: «Где я вам его возьму? Корни в земле растут, а не в выражениях». Весь класс прямо умер со смеху.
– Ольга Дмитриевна, может, вы с ним позанимаетесь? Я понимаю, что вы очень заняты, но, может, хоть по полчасика? Денег у меня нет, но я могу вам квартиру прибирать или сшить чего. Я хорошо шью.
– Ну что вы – ничего не надо. Пусть завтра найдет меня на кафедре. Я посмотрю, что можно сделать.
– Ох, прямо, не знаю, как вас благодарить. Но я у вас в долгу не останусь, только помогите.
Она, наконец, ушла. Досадуя на себя, Ольга медленно поднималась по лестнице. Ей не верилось в благополучный исход этого дела – ведь она слишком хорошо помнила все выходки Юры. Она обнадежила его мать, и, может оказаться, зря.
Но как ей можно было отказать? Сказать: нет, мы его все равно отчислим, потому что он безнадежен и мы на него злы? У нее, Ольги, язык бы не повернулся. Что ж, попробуем еще побороться за парня – может, что и выйдет.
С этими мыслями она нажала на кнопку звонка и сразу заметила покрасневшие глаза Леночки.
Опять плакала, – расстроилась Ольга. – И здесь не слава богу.
– Что случилось? – спросила она, раздеваясь. – Почему у тебя глаза на мокром месте? Опять что-нибудь с Геной?
– Мама, можно я попробую сама разобраться? – сдержанно ответила дочь. – А то я все твоим умом живу. Пора бы уже научиться своим пользоваться, хотя бы в личных отношениях.
– Конечно, дочка. Не хочешь – не рассказывай. Покорми меня, а то я сейчас упаду.
– Я яичницу поджарю с зеленым горошком и тертым сыром. Будешь?
– Спрашиваешь! Два яйца. И побыстрее.
– Пока переоденешься и руки помоешь, все будет готово.
– Ну давай.
На следующий день Маринка проснулась ни свет ни заря. За окном было темным-темно. Часы показывали без четверти шесть. Спать бы еще и спать, да сон пошел гулять.
– Вот если бы надо было в школу, – думала она, потягиваясь, – пушками бы меня не разбудили. А сейчас, когда можно дрыхать хоть до двенадцати, не спится.
И тут она вспомнила о главном: про Диму и про поцелуй. И про объяснение в любви. Она представила себе его лицо в тот момент – и внутри у нее все запело от радости. Захотелось, как в детстве, поджать одну ножку и завизжать на весь свет. Но она уже была взрослой девицей и, конечно, ничего такого позволить себе не могла. Поэтому она только еще раз потянулась, немного помечтала, лежа на животике, и стала одеваться.
Да прихода Димы оставалась уйма времени. Во всем доме было тихо-тихо. Родители спали. Чтобы их умаслить, – ведь она собиралась смыться на весь день, – Маринка начистила картошки, тихонько прошлась шваброй по кухне и коридору, вытерла пыль и открыла банку с огурцами.
Родители проснутся, а у меня уже завтрак готов, – думала она. – Отец встает рано и любит сразу покушать. То-то будет доволен. И, может, не так разворчится, когда узнает, куда я собралась.
Когда картошка уже почти поджарилась, она положила туда сосиски и все обильно посыпала зеленым луком. Почистила селедку и полила ее постным маслом. Нарезала хлеб, поставила на огонь чайник и расставила на столе тарелки. И тут на кухню заглянул отец.