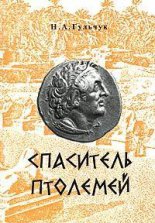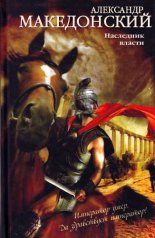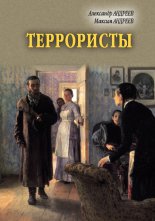Другие барабаны Элтанг Лена

Я просидел в качающемся кресле еще около часа, пока стены гостиной не начали разъезжаться, а идальго на репродукции Кейля не принялся качать головой и поправлять воротничок. Коньяк понемногу вытягивал из меня отчаяние — так яблочный уксус вытягивает соль из суставов. Я уже не думал о Хенриетте, ее кровь просочилась куда-то в древесную мякоть моей памяти, я вообще не способен на длинные, затяжные терзания, не то что мой дядя-самоубийца, хотя какой он мне дядя, parent du ct d'Adam.
Я думал о том, чего от меня потребуют в кафе «Ас Фарпас».
Смешно будет, если они снова захотят моих денег, думал я. Я готов три раза проползти на коленях вокруг святой Клары, чтобы заплатить банку хотя бы проценты по закладной. Нет, они знают, что денег у меня нет, наверняка уже вытрясли из маленького Кордосу всю горькую правду о моих финансах. Понятное дело, я в руках у Ласло — я представил себе крепкие руки с пальцами, похожими на заточенные карандаши, руки вездесущего Труффальдино — и мне придется расплатиться за услуги чистильщика, хотя подчищал он не за мной.
Но что, скажите мне, боги, что можно содрать с безупречно паршивой овцы?
Там девушка не умывается, водой из окна не плещется.
Там перевозчик «навались» не кричит.
Там страж вокруг зубцов не кружит.
Когда, получив телеграмму от нотариуса, я поехал покупать билет в Лиссабон, то еще не знал, что уезжаю навсегда. Агентство Литовских авиалиний тогда было возле филармонии, и я ждал конца обеденного перерыва в кафе, где лет пятнадцать назад поедал мороженое с Рамошкой, вместо того, чтобы слушать концерт для валторны с оркестром. В седьмом классе нас всех заставили купить абонемент, но мы с Рамошкой сходили два раза и ухитрились продать оставшиеся бумажки какому-то меломану за восемь рублей. Сто двенадцать порций фруктового или двадцать восемь эскимо.
Я заказал мороженое и стал ждать, пока оно растает, люблю есть растаявшее, особенно зимой. День был тусклый, пыльный, снега давно не было, и ветер гонял по площади пластиковый мешок, на мешке было написано I love my town, и, глядя на него, я вдруг понял, что давно не люблю этот город. Я подумал, что тетка предлагала мне лучшее, что у нее было — дом в альфамском переулке, где пробковый пол согревал ноги, а шкафы выдыхали книжную пыль. Она предлагала мне выход.
Помню, что, прочитав телеграмму, я не сразу понял, что тетка уже умерла, и говорил о ней в настоящем времени:
— Зоя просто скучает там одна, а я давно обещал приехать. Вот и поеду.
— Она всегда хотела забрать тебя, — сказала мать. — Все время намекала, что тебе нужна приличная школа, можно подумать, я отдала тебя в приют для слабоумных.
В тексте говорилось о том, что мы должны непременно приехать на похороны вдвоем, потому что касательно меня в завещании сделана особая запись. Телеграмма пришла на наш прежни адрес, новый владелец квартиры переслал ее матери в Друскеники, а она вызвала меня, сказав по телефону, что у нас плохие новости. Я приехал только на следующее утро, подумав, что речь идет о чем-нибудь вроде докторского пьянства, и мать снова будет ходить по дому чернее тучи, прижимая к вискам смоченную одеколоном салфетку.
Одним словом, я узнал о Зоиной смерти два дня спустя, когда до похорон оставалось всего ничего, помню, что вернулся в Вильнюс ранним автобусом, завернул на квартиру приятеля за паспортом, купил билет за безумные по тем временам деньги и помчался в аэропорт. Мне было двадцать семь лет, и я был уверен, что мое литовское время закончилось и начинается время совершенное, как год Платона, как лето в шлараффенланде, где початки кукурузы так тяжелы, что их приходится катить по земле. Лиссабон, увиденный в детстве, белоснежный и карминный, заволакивал мне глаза, заполонял горло, крутился в барабане моего живота.
Белокурая тетка улыбалась мне с облаков, а Фабиу помавал своей костистой рукой со слабыми длинными пальцами рогоносца. Ладно, я знаю, что над мертвыми не смеются, но я смеюсь над собой, Хани, ведь это не я был ее любовником, а чертов испанец Зеппо, про которого она говорила, понижая голос, как будто в гостиничном номере кто-то мог нас услышать. Рассказы о нем заняли не меньше часа — целый час из короткой тартуской ночи! — и были такими достоверными, что я почувствовал запах и жар андалузца в нашей постели, и без того не слишком свежей и засыпанной крошками от печенья.
— И где теперь этот карбонарий? Ты больше никогда его не видела? — спросил я, глядя на шевелящиеся от зимнего сквозняка занавески.
— Вижу сейчас перед собой, — тетка отбросила одеяло и села в постели, обняв колени и положив на них подбородок — Ты до странности на него похож.
— Он тоже носил очки?
— Да, они и теперь лежат у меня в столе. Очки случайно попали в мою сумку, когда я собиралась второпях: восьмиугольные стекла без оправы с прозрачными дужками. Я хотела переделать их для себя, но для этих очков нужно такое же лицо, как у него. Никакое другое лицо не подойдет.
— А чем я на него похож?
— Фетровым ушком.
— Чем-чем? — мне показалось, что я ослышался.
— Разве ты не читал Честертона? Там говорится, что у джентльмена непременно должна быть шляпа, а если погода для шляпы не годится, то из сумки джентльмена должно торчать фетровое ушко. Когда я тебя увидела вчера на вокзале, такого длинного хмурого щеголя, мечущегося по автобусному перрону, ушко уже торчало из твоего рюкзака, только слабое и едва заметное.
У меня такое чувство, Хани, что я живу на съемочной площадке: дом чуть не разнесла полуголая массовка, друг заделался режиссером, по всем спальням развешаны камеры, и даже в тюремном потолке мигает брусничный зрачок, какой-то просто голливудский нуар. «Sunset Boulevard» какой-то. Вот оно, точно!
Он сказал, что ты классический Джо Гиллис, говорила сбежавшая стюардесса. Если я знаю человека, который смотрел старый фильм с плоскогрудой актрисой, застрелившей любовника, и мог за глаза обозвать меня альфонсом, то это мой школьный друг Лютас Рауба. Он знал про камеры, потому что сам их поставил, он мог затеять эту историю с шантажом, чтобы заработать денег на свой проект, он мог даже изменить голос, чтобы прикинуться Ласло, ведь я так никогда и не видел этого проклятого Ласло. А когда датчанку убили, он понял, что влип в историю, испугался и подставил меня со всей своей дзукийской холодной аккуратностью.
Я ведь рассказал ему про тетку, напился и рассказал, в первый же вечер, как только он появился в моем доме, даже фотографии бросился показывать. Семейные альбомы Брага лежали в кассоне с резными стенками, однажды я взялся их полистать и поразился фамильному сходству: все особы женского пола на снимках были горбоносыми, лоснились волосами и глядели настороженно. Зоя держала в кассоне только те снимки, где она была одна, а прочие — с друзьями и русской родней — отдельно, вместе с документами и счетами. И правильно: фотографии это тоже своего рода счета, рано или поздно ты натыкаешься на них и понимаешь, что до сих пор кому-то должен.
В тот день, когда Лютас закончил возиться с техникой, он пришел в кабинет, где я упаковывал гравюры, снятые со стен, чтобы отвезти их в аукционный дом, постоял, наблюдая мою работу, потом сунул руку в карман и положил на стол две купюры по пятьсот евро.
— Что, плохи дела, Костас? Пустил имение на ветер? Ничего, теперь все изменится, к тебе приехал друг, чтобы выдернуть тебя из болота. Смотри только, не появляйся до вечера.
Я подумал, что он хочет привести женщину, и хотел было посоветовать одну смешливую мулатку, работающую в порту, но тут он добавил:
— Здесь, в кабинете, хороший свет, можно испробовать камеры и порепетировать. Через два дня я получу аванс, так что пора начинать Ortsbetrieb. Картинки мне не нужны, можешь хоть все поснимать, а ковры оставь. Особенно вот этот, атласный.
— За ним скоро покупатель придет, — возразил было я, но посмотрел ему в лицо и замолчал.
Лицо у Лютаса было пустое и многозначительное, точно звездочка примечания, отсылающая читателя к чистой белой странице ( где я читал про эту звездочку?). Глядя в его лицо, я почему-то вспомнил про злополучный аквариум с рыбками, хотя лет двадцать уже не вспоминал.
Когда в восемьдесят шестом Лютасу подарили аквариум, он принес его ко мне, так и пришел по улице Траку, прижимая к груди тяжелую сферу, заполненную зеленоватой водой. Мы поставили аквариум на подоконник в гостиной, он был размером с небольшой арбуз, и мелкие черные рыбки метались в нем перепуганными семечками.
— Моллинезии! — важно сказал Лютас и потряс аквариум, так что вода снова заплескалась. Рыбы тревожно трогали носами стекло. В стайке моллинезий мелькали два снежно-белых малька, я подумал, что это альбиносы, и решил назвать их Альби Первый и Альби Второй.
— Давай их препарировать, — предложил Лютас, — все равно они не выживут, отчим говорит, им нужен шар литров на пятьдесят. Узнаем хотя бы, какие они внутри — такие же белые или нет?
Он низко склонился над водой, издававшей гниловатый запах, и поморщился:
— Сдохнут и никакой пользы от них не будет. Тащи, Костас, нож поострее и доску для хлеба.
Я пошел было на кухню, но, дойдя до середины коридора, остановился. Лютас стал мне неприятен, каким-то странным образом он смешался в моем сознании с тем клеенчатым мужиком на рынке, у которого мама покупала рыбу со льда, и еще — с врачом из поликлиники, который года два назад зашивал мне палец. У врача были тщательно выстриженные баки, впадающие в смоляную бородку. Потерпи, казак, говорил он мне, радостно разматывая клубок кетгута, атаманом станешь.
Я пошел в свою комнату, достал из кляссера марку с портретом мужчины в брыжах и, вернувшись, протянул ее Лютасу. Я знал, что он ее хочет. Наши коллекции, пополняемые на Центральном почтамте, были похожи до отвращения и различались только несколькими экземплярами, этот — с черным Камоэнсом — я отклеил с теткиного письма, подержав конверт над чайником. Лютас молча кивнул, положил марку на ладонь и пошел домой, прикрыв Камоэнса другой рукой, чтобы не сдуло.
Через восемь лет он признался мне, что купил рыбок нарочно, за четыре рубля, а стеклянный шар одолжил у знакомого парня на птичьем рынке. Он не собирался резать моллинезий по имени Альби. Он знал, что я захочу их выкупить.
— Ты тогда был несусветным лопухом, — сказал Лютас, — такой умник и при этом совершенно несусветный лопух. Разве можно заглянуть в моллинезию?
Когда спустя много лет я посмотрел фильм Сидни Люмьера, где его дочь сорок две секунды вылавливает красных рыбок из аквариума, то внезапно понял, что наша дружба с Лютасом кончилась в тот самый день, а не позже, как я думал. Я понял это, сидя в маленьком лиссабонском кинотеатре, глядя, как по экрану стремительно скользят титры, и вдыхая застарелую плюшевую пыль и горечь пережаренной робусты.
Знаешь, что я сделаю, как только вернусь домой? Скоро это соловецкое сидение кончится, и я вернусь домой, не сомневайся. Первым делом я проветрю спальню старой хозяйки, вымою там полы — придется самому, не думаю, что Байша ко мне вернется, — потом проведу ритуальное очищение, потом соберу полный дом гостей — всех, о ком я тут думаю, и еще человек сто — в точности как Эней на Сицилии: устрою гонки кораблей, кулачные бои, стрельбу из лука и турнир наездников. А потом расскажу им все, как было.
Неведеньем в доме болели как манией.
Сказать по правде, Хани, мне неловко, что ты оказалась замешанной в эту историю, но я рад уже тому, что ты от меня не открестилась. Проще всего было послать португальских чиновников к черту, изложив, как все обстоит на самом деле. И то сказать — ну какая ты мне жена? Мы не виделись четырнадцать лет, я даже не знаю, как они тебя разыскали, эти упорные клерки, больше того — я не слишком хорошо помню твое лицо.
Что я помню, так это запиленную пластинку со «Стабат матер» в исполнении Лондонского симфонического, которую мы слушали в твоей увешанной серпантином комнате, дожидаясь ужина. Ты мельком заметила, что мама не слишком серьезно относится к нашему браку, раз постелила мне в дедушкиной спальне.
— Они надеются, что мы пошутили, — сказал я. — Но ведь мы не пошутили.
Помню, что ты показывала бумажный театр, который устроила для младших детей, и я немного завидовал этим детям, да и тебе тоже. Театр был сделан из шляпной коробки, занавес сшит из вельветовой штанины, на сцене стояла мебель из спичечных коробков, оклеенных фольгой. Я взял двоих актеров за нитяные волосы, встал за стулом и стал показывать сцену с Панчем и Джуди, придумывая диалоги на ходу:
— Кто эта девочка с коленями, похожими на собачьи морды?
— А кто этот мальчик с носом, как у тяньхоу?
Если кто-то сказал бы мне тогда, что ты станешь моим — как его звали-то? — Ором (нет, лучше Аароном, эстонцы любят сдвоенные гласные), когда начнется битва с амаликитянами, что ты будешь поддерживать мои руки, когда они станут падать, до самого захождения солнца, я бы засмеялся. И ты бы засмеялась. Мы с тобой только и делали что смеялись. Теперь-то я знаю, что секс без смеха — вещь, ничего не стоящая, просто обряд с аккуратно разложенными на алтаре дарами (на тебе, убоже, что нам негоже, сказала бы няня), но что я знал тогда, двадцатилетний заносчивый jovem? И что я знаю теперь, если хоть чуть-чуть поглубже копнуть?
Что я знаю о растрепанной Габии, вечно боящейся подвоха, стоящей на воображаемом причале, будто королева ужей, привыкшая ждать кровавую воду? Что я знаю о своей матери? Или — о нечестивой Марте из поселка Видмантай, которую я презирал за неразборчивость, не подозревая, что сам стану таким, как только мне слегка перевалит за тридцать. Что я знаю о Додо, с которой провел в постели без малого сотню часов? Я знаю, что додо — это большеглазая неуклюжая птица с опасным клювом, которая не умела летать. И что больше этой птицы нет. Додо вымерли еще в семнадцатом веке, недаром в английском есть выражение as dead as a dodo, в моем случае это звучит: as gone as Dodo, если мой английский меня не подводит.
Додо говорила, что была стюардессой, потом два года жила на яхте пожилого тунисского дельца — служила там не то поварихой, не то гейшей. На яхте было неплохо, но приходилось все время молчать, тунисец любил молчаливых женщин, и чуть что не так, доставал хлыст. Помню, что я тогда подумал: наверное, где-то на окраине мира есть фабрика, производящая особенные вещи — держалки для шампанского, необходимые при сильной качке, палубные туфли на манке, водяные кровати, хлысты, чесалки для спины, да бог знает что еще. Например, партнерш для кругосветного плавания, легко прерывающих дозволенные речи.
Я провел с Додо немало ночей, старательных и безучастных. Таких же пустых, как ее коттедж в Капарике, похожий на тысячу других коттеджей на побережье: иллюзия фахверка, красные балки, перечеркивающие беленый фасад, маслиновое дерево у крыльца.
Да полно, разве я не этого хотел, когда решил поставить крест на писанине и стать похожим на своего школьного друга? Я хотел стать равнодушным и расторопным, легким, черствым и острым на язык. Буквы тянули меня вниз, туда, где копошились тысячи, десятки тысяч покорных, горячих, невезучих личинок, всю жизнь шевелящих усиками — или что там у них бывает? — в поисках нужного слова. Я отказался от букв, и мне удалось оттуда вырваться.
У меня появился дом с пологой гранитной лестницей, где на каждой площадке стоит скамья орехового дерева. Мой школьный друг нашел меня неузнаваемым. Женщины теперь говорили со мной иначе, они видели, что я пьян без вина, знали, что я навеселе от других возможностей, женщины слышат это первыми, как чайки слышат приближение шторма. Женщины первыми узнают, что ты перестал бояться.
Но вот я напоролся на Лилиенталя в заброшенном клубе фадо и вернулся к буквам, вознамерившись его поразить. Я залез в эту термальную грязь по колено, желая, чтобы он меня полюбил. Другой причины не было, только эта — у меня появился собеседник, и я хотел его удержать. И что же? Не прошло и трех лет, как я оказался под окнами галереи, куда мне велели забраться, чтобы вынести низку кораллов и расплатиться за услугу (так они называют вынос трупа из вашего дома). Услугу, оказанную любовником девчонки-дронта, которая впутала меня в историю, полную едкой крови и химикалиев. Девчонки, с которой я толком ни разу не кончил, девчонки, о которой я не знаю ничего, кроме клички, похожей на низкое мычание кукольной мембраны.
Конвоиры сели справа и слева от меня, зажав мои колени своими, можно подумать, что я способен выпрыгнуть на ходу из окна автомобиля, как проворный Бандерас в фильме «Убийцы». Я надеялся, что дорога в морг ведет через центр, и я успею углядеть голубиный блеск реки или цветущий куст бугенвиллии. Мы выехали за ворота тюрьмы, и тут произошло непонятное: конвоир протянул руку к окошку, щелкнул там чем-то и опустил брезентовую занавеску, не обращая внимания на мой протестующий возглас.
В фургоне стало совсем темно, я с трудом различал профиль полицейского и тусклое свечение позументов. Надо заметить, что в этой тюрьме я пока не видел ни уродов, ни истязателей. В департаменте на калькаде Барбадиньос явно не хватает персонала, зато все молодые и благодушные. Даже те, что уронили меня вместе со стулом на первом допросе, сделали это напоказ, без особой враждебности, думаю, что в литовской тюрьме мне пришлось бы солонее.
Смотреть было не на что, и я стал представлять лиссабонские улицы. Я слышал низкий гул идущего на посадку самолета, а потом — ярмарочный голос зазывалы, значит, это может быть Эштрела или ее окрестности. Если я правильно прикинул, то мы не слишком далеко от Рато, вероятнее всего — спустимся вниз на набережную и поедем вдоль реки.
В конце февраля я здесь был: шел к Лилиенталю пешком, прихлебывая из карманной фляги. Я складывал в уме речь, которую произнесу, когда устроюсь в своем углу и стану смотреть, как он собирает нам выпить, ловко двигаясь по своей захламленной студии, перехватывая узловатые канаты, похожие на календари древних балтов. Возле оперного театра я присел на портик и свернул себе цигарку, глядя на окна Casa Pessoa и думая, что сам Пессоа, наверное, был не дурак покурить. Он тоже жил с равнодушной матерью, тоже бросил учебу и тоже получил наследство, которое не сделало его богатым, скорее, наоборот. К тому же, он носил такие же очки, как у меня, если верить портрету в Википедии. Одним словом, нас различает лишь одно: парень взаправду писал стихи, а я только прикидывался.
Ли говорил мне, что его район назвали так из-за слова chiar, что означает шипеть, потрескивать. Только представь все эти телеги и повозки, взбирающиеся по крутым склонам, говорил он, лошадей, вынужденных подниматься по вздыбленным мощеным улицам, колеса, зависающие над пустотой, сердитые окрики возниц, и скрип, и треск, и хруст ломающихся спиц. Сидя там, возле театра Сан Карлуш, не в силах подняться, я слышал, как трещит моя голова, вылетают штифты, лопаются клапаны и шипят, набухая, лимфатические узлы. Ингалятор я забыл дома, но дело было не в астме, за эти дни я так вымотался, что даже будничная доза сбивала меня с ног. Мало того, чем ближе я подходил к руа до Лорето, тем меньше во мне оставалось ожесточенной уверенности.
Мне это не нравится, Ли, расскажи мне все, что знаешь, и покончим с этим. Вот что я хотел сказать, добравшись до дверей его студии, а сказал совсем другое, и даже не сказал — проверещал, замкнул ему рот своими воплями и, натурально, не услышал ни одного правдивого слова.
В какой-то момент я понял, что мы едем вдоль реки, гудок круизного парохода раздался прямо над моим ухом, минут через десять машину тряхнуло, мы два раза переехали рельсы, я услышал трамвайный звон и понял, что мы в Альфаме. Чуть позже водитель открыл свое окно, чтобы выкинуть окурок, в машине запахло дегтем и рыбой, и еще — прелыми стеблями, как будто вместе с водой выплеснули застоявшийся букет. Так пахнет в одном переулке, недалеко от военного музея, не знаю почему, может, из-за складов на задах супермаркета.
Раньше там была парикмахерская Альмейды, я даже брился там пару раз, но она давно разорилась. Сам Альмейда приходит иногда посидеть на ступеньках, он так и не смог продать развалюху, и она — как он сам мне сказал — продолжает пить его кровь. Что-что, а это я способен понять! Лиссабонские дома убивают тебя медленно, тихо прокалывают в тебе дырочки и приникают к ним, покуда ты продолжаешь их любить и сочиняешь стансы о черепице, брусчатке и чугуне.
Брусчатка, чугун, черепица, брус-чат-ка, чу-гун... Кайрис! Не спать, cabro!
Конвоир распахнул дверцу, острое утреннее солнце полоснуло меня по глазам, глиняная пыль забила ноздри. Пруэнса уже вышел, прислонился к машине и молча, наморщившись, смотрел на небо. Приближался ураган: окна здания гудели под тяжестью ветра, небо надулось и стало слишком ярким, а звуки погасли — даже голос конвоира, говорившего с водителем, доносился как будто из-за театральной завесы. Я смотрел в окно, ожидая приказа выходить.
Двор морга был здорово похож на двор полицейского департамента: тот же гравий и синеватая глина на обочинах, такой же рифленый забор, такие же свалявшиеся голубиные перья под ногами. Может, это и правильно: смерть и несвобода происходят из одного Кощеева яйца. Еще там есть херовый Интернет, манная каша, опера, ветряная оспа, и на самом дне — марксизм.
На нем шапочка с пером,
Рукавица с серебром,
На нем шапочка смеется,
Рукавицы говорят.
Память — это колодезная вода. Отвлечешься, перестанешь шевелить в ней цепью, глядь — она уже зацвела, позеленела, и ничем эту муть не вычерпаешь, а со дна на тебя смотрит унылое железное ведро, оторвавшееся еще во времена Веспасиана. Сегодня я весь день вспоминаю женщину, которая вертела меня, словно абрикос, примеряясь к зеленому недозрелому боку и не решаясь вонзить в него зубы. Женщину, которую я сильно подвел.
Я мог бы стать ее другом, любовником или хотя бы японской куклой надэмоно — это такая соломенная кукла, которой натирают больное место, а потом кидают в реку в третий день третьего месяца, или относят в храм, или просто бросают в огонь. Я мог бы стать абрикосовой косточкой, раз уж ей так хотелось, и дать ей покой, обыкновенное утешение, то есть свободу.
Свобода не существует без спокойствия (всякая тревога уже не свобода), как писал любимый теткой Ф.МД, которого я не читаю, а если читаю, то ловлю себя на желании завязать бороду узлом, чтобы отогнать демонов, как делают знающие люди. Еще неделя без бритья, и я смогу сделать не слишком крупный, но убедительный узел.
Вот, Хани, я понял! Я понял, чем чувство вины отличается от любви. Чувство вины не заставляет тебя звучать, а только подкручивает колки. И ты молчишь еще напряженнее.
Когда весной две тысячи третьего я разговаривал с теткой по телефону, сидя с ногами на стойке бара, потому что уборщица разлила по полу мыльную воду, я еще не знал, как мало ей оставалось жить, но мог бы догадаться, прислушиваясь к убегающему, матовому, неплотному голосу. Слышно было на удивление хорошо, помехи были в самом голосе, как будто тетка говорила со мной не из своей лиссабонской квартиры, а с острова Исабель, стараясь перекричать хлопанье бакланьих крыльев и грохот прибоя.
— Я не смогу приехать, — сказал я, — на днях только на работу устроился. Ты как там, в порядке? Справишься покамест?
— Я в порядке, — захлопали бесполезные крылья. — Хотелось бы тебя увидеть, но не более того. Со мной здесь пан Грабарчик, он приехал повидаться, и еще разные люди.
— Надо же, и Грабарчик там! — я почему-то обрадовался. Мне показалось, что человек, подаривший тетке витражную лампу с рисунком Альфонса Мухи, должен быть отличной сиделкой.
— Да, он тут, не беспокойся, — сказал полый голос, и нас разъединили.
Я не беспокоился. Я не хотел уезжать из города, я был немного влюблен и до смешного беден, но, сказать по чести, это не было настоящей причиной.
Видишь, Хани, я пытаюсь назвать настоящие причины, будь у меня психоаналитик, он бы мной гордился, пошуршал бы тетрадкой и сказал бы, что мы продвигаемся вперед. На самом же деле я продвигаюсь назад и делаю это так быстро, что февральский ветер свистит в ушах.
Ты в детстве каталась с высоких ледяных горок, стоя на прямых ногах?
Я ужасно хотел, но так и не решился, шлепался на задницу и съезжал, вертясь волчком, обдирая штаны и стиснув зубы от унижения. Горкой это место называли у нас в школе, на деле это было горой, обледенелой насыпью, спускавшейся к Нерис. Мы вечно болтались там в холодные дни, особенно в сумерках. Накатанная дорожка начиналась возле собора и всегда казалась празднично освещенной, свет лился из стеклянных шаров, насаженных на копья ограды, а далеко внизу, у кромки берега, стояли два фонаря, будто стражи с тусклыми факелами. Рамошка, мой одноклассник, даже не разбегался с победными криками, как другие — нет, он вставал на самый кончик черного ледяного языка, незаметно отталкивался, согнув колени, и тихо, на совершенно прямых пружинистых ногах скатывался до середины реки, постепенно превращаясь в темную точку на сером снегу, там, где свет фонарей становился бесполезен.
Ладно, оставим это, вернемся на воображаемую кушетку, где я лежу за условные сорок монет в час, глядя в воображаемый потолок. Я боялся увидеть тетку в руинах. Я уже видел в руинах свою бабушку Йоле и теперь никак не мог вспомнить ее лицо, оно пропало, смазалось, растворилось в белилах, которыми она мазала лоб и щеки, пугаясь собственной бледности и новых, вялых очертаний, так изменивших ее властную улыбку и взгляд. Когда бабушка заболела, ей велели снять зубные протезы, уж не помню почему, рот у нее провалился, и она почти перестала выходить из дома. Это казалось мне дикостью — подумаешь, нет зубов, кому нужна такая древняя старуха и кто на нее смотрит?
Прошло десять лет, я лишился двух зубов, жил на чужой квартире и работал в забегаловке на улице Ужупио — стоял за стойкой вишневого дерева, с трудом справляясь с тугими рычагами древней кофейной машины. Хозяин был поляком и взял меня по просьбе одного из дядьев Конопок, того, что постарше. После двенадцати я выставлял ужупийских пьяниц, закрывал двери на ключ и шел в подсобку, чтобы раздеть свою напарницу и уложить ее где придется. Мы проводили в этой подсобке длинные январские часы, иногда оставались до утра, расстелив на полу дерюжные мешки из-под муки и сахара, но мне было мало, я хотел еще и еще.
Помню привкус тминного сыра, который мы доедали перед закрытием, собирая его со всех тарелок, помню имя этой девушки, оно было коротким и сочным, сказать — как дольку мандарина откусить на морозе. Чеська, Чесь, вот как ее звали. Мне было двадцать семь лет, я целый год не писал ни стихов, ни прозы и был вечно голоден, пьян и умиротворен, будто Нарцисс над водами.
Этот полутемный кабачок в десяти минутах ходьбы от вокзала оказался моим последним рабочим местом в Вильнюсе: я научился смешивать коктейли, использовать все Чеськины отверстия и выпроваживать подвыпивших клинтов, больше я ничему не успел научиться, потому что в январе пришла телеграмма из Лиссабона, и мне пришлось собирать вещи, уместившиеся в две теннисные сумки и рюкзак. Поляк был на седьмом небе, я ему страшно надоел своим юдейским упрямством, это он сам сказал, когда я заносил ключи перед отъездом. Выходя из кафе, я поймал себя на том, что впервые подумал о своем деде Кайрисе как о еврее и что мне это нравится.
Йезус Мария, во мне четыре крови!
Совсем недавно, упаковывая старую одежду для Армии Спасения, я обнаружил красную вильнюсскую куртку, в кармане лежал коробок спичек с бабочкой и русско-португальский разговорник с загнутыми уголками, наспех купленный в букинистической лавке. Кто бы мне сказал тогда, что на этом языке я буду читать Камоэнса в тюремной одиночке.
Когда я стоял под окнами галереи «Гондвана», разглядывая водосточную трубу, я думал о том, что там, наверху, не может быть ни Хуана с кораллами, ни Карла, ни Клары — просто потому, что перед прощальным банкетом компания, доставившая экспонаты, непременно вывезет все до последней булавки, чтобы не рисковать. Транспортная страховка действует с той минуты, как выставку начинают разбирать, вещи выносятся из здания по списку, машина с бронированным кузовом стоит вплотную к дверям, и стоит это несусветных денег — я видел это своими глазами в галерее у лысого Римаса, когда там выставляли немецких модернистов.
Безрукий, которого жалят на солнце слепни — вот образец беспомощности у древних, я же стоял там в синих приморских сумерках, засунув руки в карманы, и в любую минуту мог повернуться и уйти. Уйти, добраться до дома, взять сумку с компьютером, сунуть туда смену белья и податься на Галапагосы — например, младшим матросом на «Серендипити». Мог, но не ушел. Окно на втором этаже окликнуло меня, будто маркитантка из заваленного подушками шатра, я знал, что совершаю глупость и рискую остаться без гроша, а то и с провалившимся носом, но послушно пошел к шатру и приподнял засаленную занавесь.
О чем я тогда думал? На кой черт Ласло понадобилось это блошиное барахло, вот о чем.
В историю с коллекционером я не верил, как не верил и в то, что освобожусь от мадьяра, принеся ему то, не знаю что из провинциального музея, запертого на щеколду. Скорее всего он пытается заморочить мне голову, сделать из меня бессловесного мальчика на побегушках, напугать и обратать. Иначе к чему разводить эти масонские таинства: звонки в одно и то же время, посредники с ключами, связь через дупло и прочая цветущая книжная чушь.
Дело ясное, что дело темное, сказала бы няня, але попробуй, Костас, чем черт не шутит.
Я пошел на задний двор, заваленный магазинными ящиками, и некоторое время ходил там вдоль стены, слушая, как льдинки похрустывают под ребристыми подошвами — редкий звук, непривычный для португальской зимы. Я ходил там и чувствовал себя быком, собравшимся тихонько отправиться в угол арены и вдруг обнаружившим, что она круглая. Когда в девяносто первом году Агне взяла меня на корриду, я прочел в буклете, что в старину арены для боя быков были квадратными, а углы арены закрывали щитами — потому что быки нередко трусили, забивались в угол, и выкурить их оттуда было невозможно. Еще там говорилось, что быки близоруки от рождения, поэтому стоит матадору отойти на пару шагов в сторону, и бык останавливается как вкопанный.
Хани, похоже, я и есть близорукий бык, к тому же глухой, как пень: я тебя не вижу и не слышу, хотя говорю с тобой каждый день. А может быть, тот, с кем я говорю, это и не ты совсем. Ну и что с того? Надо же мне с кем-то разговаривать.
...сколько ни сиди плоскогубый божок перед зеркалом, все лишь неподвижная игра вещей.
Чего же он все-таки ждет? Конца лиссабонского карнавала? Впрочем, какая разница. Не розовый понедельник, так пепельная среда. Причина, по которой Лилиенталь не навестил меня в тюрьме, представлялась мне поочередно безразличием, виной или жестокостью, хотя могла оказаться и неведением. Может быть, Ли уверен, что я скрываюсь от долгов, собирается участвовать в торгах и хочет спасти дом на Терейро до Паго от меня самого. Если бы мы были равны самим себе, сказал он однажды, то, скорее всего, не встретились бы вообще. Что толку быть равным самому себе? Ни повернуться, ни вздохнуть, ни охнуть. Даже внутренних своих собак ни в какие дюны погулять не вывести. С другой стороны, равенство самому себе — это самое распространенное заблуждение, пако. Все живут так, как если бы жили на самом деле. Такая уверенность безнаказанно существовать не может!
Как же мучительно слышать эти голоса в соседней камере, они бубнят с утра до вечера, иногда смеются, иногда слушают музыку. Монотонные звуки напоминают мне сумасшедшего из нашего переулка по имени Радио Хавьер: он любит стоять в наушниках у дверей бакалейной лавки и пересказывать прохожим все, что слышит, на разные голоса, приемник лежит у него в кармане пальто и оттуда тянется красный проводок. Когда Хавьер говорит за женщину, он надувает губы и закатывает глаза, но ни голоса, ни ритма не меняет, смены тембра у него удостаиваются только футбольные комментаторы.
Поначалу я радовался, что сижу в одиночке: никто не пристает с историями, никто не нарывается на драку, а теперь — другое дело, я бы неделю не ужинал, чтобы провести с этими парнями несколько часов. Хотя вряд ли нам нашлось бы о чем поговорить, судя по голосам, за стеной сидят молодые воры, дерзкая портовая шпана, если бы я сказал им, что я тоже вор, они бы со смеху померли. Мне и самому не верится, что несколько недель назад я шел по карнизу эшторильской галереи, вздрагивая от звона сигнализации за окнами и стараясь не смотреть вниз, в колодец двора с топким дном, заваленным ящиками из-под апельсинов.
Так вышло, что за всю свою жизнь я украл только одну настоящую вещь, да и ту — практически в собственном доме. Где-то я читал, что в штате Аризона до сих пор действует закон об украденном мыле: если тебя застали за кражей, то ты должен мылиться этим мылом, пока все до крошки не измылишь. Живи я в Аризоне, что бы я делал с сердитыми золотыми быками на синем поле? Ладно, оставим размышления о быках и мыле, нужно сосредоточиться и продумать каждое слово вечернего разговора — вечером я собираюсь говорить с Пруэнсой начистоту, я заставлю его повернуть ко мне свое желтое потрескавшееся ухо и выслушать, что я хочу сказать.
Если вечером он не вызовет меня, как обещал, я заявлю протест и начну голодать против него, как делали в старину, чтобы заставить себя слушать или же взывая к правосудию. Тот, против кого голодали, тоже переставал есть, чтобы доказать, что он прав, а если голодать ему было слабо, то шел к победителю и выполнял его условия. Не знаю, может, это сказка, но я слышал, что один крестьянин голодал против Бога, за то, что тот не прислал ему всего, о чем говорилось в молитвах.
Как объяснить Пруэнсе, что произошло? Одно дело рассказывать такую историю другу за бутылкой вина или записывать ее в виде сценария: все коллизии вылизаны, палочки попадают в нужные дырочки, герои наполняются воздухом и поднимаются к потолку, а причины и следствия становятся стройными рядами, покорные, будто кегли в кегельбане.
Возьмись я рассказывать все, как было, я начал бы с коттеджа на побережье, потом рассказал бы про камеры, нет, сначала — про камеры, иначе будет непонятно, потом про мужика с пистолетом, про мешок для мусора и ботинки защитного цвета, потом я рассказал бы про метиса-кабокло, нет, про метиса потом, сначала про дядин пистолет. Объяснив первую часть либретто, я перешел бы к тому вечеру, когда метис показывал мне свои шишки на черепе, потом сказал бы, что чуть не вывихнул ногу, приземлившись возле апельсиновой пирамиды, а потом — что сидел в ночной электричке, заслонив лицо газетой, чувствуя себя поочередно то преступником, ускользнувшим от преследователей, то болваном, каких свет не видывал.
Сейчас перечитал последнюю фразу и понял, что мало кто стал бы выслушивать этот бред до конца. А вот Лилиенталь, тот стал бы. Его прямо хлебом не корми.
Он умеет меня слушать — набивая трубку, валяясь в подушках, заваривая чай, перебирая свои корабельные канаты, туго натянутые вдоль коридора и поперек комнаты. Раньше я стеснялся смотреть, как он двигается, а теперь смотрю, не могу удержаться: это похоже на воздушный трамвайчик, медленно движущийся от башни Васко да Гама к океанариуму. Однажды он поймал мой взгляд, нахмурился и тут же послал меня вниз, за bolo de amendoa. Когда я вернулся, дверь была заперта. Я не стал звонить, повесил теплый еще пакет на дверную ручку и спустился к консьержу, с ним всегда можно выкурить индийскую сигарету, свернутую хрупким листочком. Через полчаса Ли распахнул дверь, постучал своей тростью по перилам и крикнул: поднимайся, пако, искупаешь меня, раз уж ты такой жалостливый, и я поднялся.
После этого он разрешил мне купать его в чугунной ванне, воду в нее нужно было наливать из ведерка, согревая на кухонной плите, а потом вычерпывать и выносить в туалет. Я увидел его ноги, они оказались неожиданно длинными, под пледом выглядели короче, он всегда клал на колени плед, говорил, что так чувствует себя защищенным. Это было в две тысячи восьмом, Хани, с тех пор я купал этого человека по меньшей мере пятнадцать раз, а он не может прислать мне чертовых сигарет.
Estocada por cornada, ni el toro ni yo no nos debemos nada, сказала бы моя служанка, любительница затейливых поговорок Что означает: ладно, мы в расчете.
...И стали спадать с глаз его белые, как яичная пленка, бельма, и увидел он свет.
Я сидел на кухне своего дома и прихлебывал бренди из чайной чашки. Бренди был мой собственный, испанский «Bandolero», Пруэнса щедро плеснул его в чашку, поленившись искать стаканы. Мы уже полчаса сидели в моей кухне, в ожидании Байши, но она все не появлялась. Сначала я повел их в спальню, чтобы показать место, где лежала датчанка, исчезнувшая вместе с овечьей шкурой и пистолетом. Я даже контур ее тела обозначил, проведя восковым мелком по полу, и розовые пятна показал, плохо замытые, на стенах и мебели. Я чуть сам не лег на пол между кроватью и окном, изображая Хенриетту — так мне стало весело оттого, что я дома.
Покой и веселье качались во мне, как море во внутреннем ухе, когда сойдешь с корабля на сушу после долгой болтанки, я соскучился по теплому пробковому полу, по ставням, нарезающим полуденный свет серпантином, по медленной лиловой реке за балконным окном, я даже запахи скисшего вина и испорченного сыра вдохнул с удовольствием. Так, наверное, чувствовал себя мореход Ганнон, когда сошел на марокканский берег, он ведь тоже знал, что придется возвращаться, но старался об этом не думать.
— Это же классика, — сказал я, когда мы вернулись из спальни, оставив там меловой контур с раскинутыми руками. — Классическая подстава, преступление с одним подозреваемым. Не знаю, в чем провинилась датчанка — или датчанин? — может, это вообще случайный персонаж, одноразовая салфетка. Ее могли убить просто для того, чтобы отобрать у меня дом. А когда выяснилось, что дом нельзя ни продать, ни подарить, они отправили меня в тюрьму, чтобы я подумал как следует. Не забывайте, что речь идет о половине миллиона, если не торопиться и поискать достойного покупателя. В Лиссабоне убивают за бронзовую ручку от двери, так что удивляться нечему.
Пруэнса выслушал меня молча, только недоверчиво поднял брови, когда я упомянул про полмиллиона. Потом он налил мне выпить, велел успокоиться и сесть на кухне у окна. При этом он жевал высохшее до пыльной корочки печенье, которое нашел на столе, — глядя на это печенье, купленное мной в «Canto idlico», я вдруг осознал, что провел в тюрьме не меньше сорока дней. Я тихонько качался на стуле и понимал, что опьянеть мне не удастся.
На самом деле они — хотел бы я знать, сколько их помещается в это они! — отправили меня не в тюрьму, а в галерею, чтобы я ободрал там музейного тореро. Я должен был стянуть связку коралловых четок с золотой фигой вместо креста, одним словом, raniec, только с деревенским языческим загибом. Похоже, тореро Бельмонте не был послушным прихожанином, иначе знал бы, что негоже вешать на четки лузитанский амулет, отгоняющий зло. Хотел бы я знать, отчего он умер, и помогла ли ему его бесценная дуля.
Рассказывать следователю об Эшториле я не стану, он и так смотрит на меня, как на клоуна, особенно после нашей поездки на побережье, в коттедж Додо, о котором я говорил с такой уверенностью. Буду рассказывать только о том, что могу доказать, а там посмотрим.
— Когда я пришел сюда, — сказал я, показав рукой на дверь спальни, — было около часа ночи. Тело уже забрали. Лютас Рауба устроил все просто и весело: его человек убил женщину в моем доме, моим оружием и практически в моем присутствии. Не знаю, сколько он на этом заработал, но думаю, что немало, montro de dinheiro.
— А может, вы перебрали дозу и вся эта команда вам почудилась?
— Серверу тоже почудилось? В полночь труп все еще лежал в спальне. Тут все пропиталось кровью, ума не приложу, как чистильщику удалось все так чисто отскоблить!
— Вот тут, где мы теперь сидим? — он лениво листал мое дело, не поднимая глаз.
— Я сам наступил в эту кровь, когда ввалился в кухню!
— Так где же был труп — в спальне второго этажа или на кухонном полу?
— Чистильщик перенес тело со второго этажа вниз, — терпеливо пояснил я. — Но не успел выйти из дома. Он услышал шаги на лестнице и затащил тело в кухню — скорее всего потому, что там есть место, где труп можно спрятать, если что. Открыть крышку погреба, бум, хлоп — и все.
— Принеси ему кровь, — угрюмо сказал Пруэнса. — Не знаю, кто эти люди, так ловко над вами посмеявшиеся, но вы явно друг друга стоите. Поделом вору и мука.
Полицейский вразвалку вышел из кухни и принес из чулана банку с вареньем. Кто-то уже открыл ее и слопал больше половины, на жестяной крышке виднелись вишневые потеки.
— Вот ваша кровь, — сказал он и поставил банку на стол между мной и Пруэнсой.
— Моя?
— Пятна на стенах и мебели, о которых вы говорите. Это вишня, — Пруэнса потыкал в липкую банку пальцем и поморщился. Полицейский понимающе усмехнулся и подал ему кухонную тряпку. Я точно знал, что вишневого варенья в кладовке не было. Там вообще никакого варенья не было, за семь лет я прикончил все запасы, даже горькую лечебную облепиху. На полке стояли пустые банки, которые я не решился выбросить — так некоторые складывают в стол почтовые конверты только из-за того, что они подписаны знакомой рукой.
— Вы не понимаете, инспектор. Я открыл дверь, споткнулся и упал мертвой женщине прямо на спину. Потом я принял душ. А потом отмывал руки жидкостью для мытья посуды, потому что кровь осталась у меня под ногтями, и это была настоящая кровь, черт бы вас побрал. Моя мать — операционная медсестра, а я был донором еще в школе и способен отличить вишневый сироп от любой человеческой жидкости!
— Вот оно что, — Пруэнса зевнул и по-деревенски постучал по губам ладонью. — Ну, раз вы были донором, значит, знаете, что кровь можно носить не только в теле, но и в пробирке. А коли так, ее можно и вылить в назначенное место, например на затылок предполагаемой жертве. Хватит и сотни граммов, чтобы перепачкать руки такому cobarde, как вы.
Он потянулся, встал со стула, кивнул своему помощнику, и оба вышли в коридор, оттуда потянуло дымком и послышался долгий, сочувственный, освобождающий смех, так, наверное, смеялись фиджийские демоны, когда перебрасывались человеком вместо ореха.
Полицейский был тот же самый, что приходил меня арестовывать, я узнал его по усмешке, обнажающей розовые десны до самого верха. Похоже, у них не так уж много людей в департаменте, да и в самой тюрьме тоже — кажется, я знаю всех своих сторожей в лицо.
Я сидел за столом, смотрел на лиловую ветку бугенвиллии в окне и пытался думать. Десять часов, или немного позже — это время, когда человек в шапке выстрелил в Хенриетту. Через полтора часа я выехал из коттеджа, вернее, выбежал на дорогу под проливным дождем, прикрывая голову копьютерной сумкой, и стоял там минут двадцать с протянутой рукой, пока не вымок до нитки. Додо понимала, что быстро мне домой не добраться. При этом они были уверены, что я не выдержу и приеду посреди ночи, один, без полиции, и тогда они покажут мне спектакль с чистильщиком и трупом. Уверены? А чем они рисковали-то? Да ничем. Примчалась бы пара полицейских, походили по дому для приличия, посмеялись бы надо мной, дураком, и уехали с огнями и сиренами. Выходит, сначала мне крутили пленку с актером, притворявшимся женщиной и загримированным вишневым соком, а потом действие перешло на авансцену.
Ясно, что чистильщик замешкался в доме потому, что так было задумано. То есть он вообще не собирался уходить, он сидел на кухне и ждал, пока я приеду из Капарики. Может быть, они с актером Хенриеттой выкурили косячок, сидя на полу, глядя на бьющуюся о стекло бугенвиллию и слушая дождь. Я поймал себя на мысли, что сокращающееся на глазах число участников пьесы вызывает у меня досаду. Лучше бы их было больше.
Обидно, что понадобилось всего три человека, банка варенья и груда голубой больничной клеенки, чтобы сделать из меня идиота. Байша могла сказать мне правду, но ведь я не спрашивал — я навязал ей свою версию, и она промолчала. Бедная одинокая дура с золочеными ногтями. Да что Байша, я мог догадаться и сам — я мог приехать домой, вызвать полицию, включить компьютер и показать им запись! Но ведь не вызвал же. Полуночный бес оцепенения схватил меня за рукав и водил по комнатам, я поджал хвост и праздновал труса.
— Итак, мы выполнили ваше требование, — сказал Пруэнса, возвратившись в кухню. — И на этом покончим с русскими байками. Мы терпеливо возим вас туда и сюда, таскаемся за город в час пик, как арабские таксисты, а вы нам по-прежнему рассказываете про тело в мешке. Basta!
— Ладно, я понял. Не было никакого тела. В таком случае, мне не очень ясно, что я здесь делаю. Нет тела — нет дела, разве нет?
— Ему неясно! — Пруэнса обернулся к сержанту. — No quero ouvir mais nada.
— Если у вас нет трупа, то почему я в тюрьме?
— У нас нет трупа? — он постучал ребром картонной папки по столу. — Да у нас полно трупов, а в этой папке полно вранья!
— Я говорил правду, вы и сами это знаете.
— Я знаю, что вы врете самозабвенно, даже в мелочах, — папка шлепнулась на стол перед моим носом. — Вот здесь написано, что вы искали людей в поселке, чтобы позвонить в полицию, но шел дождь, ужасный ливень, и в дачных коттеджах не было ни души. А теперь посмотрим в календарь: в тот день на побережье стояла ясная погода, а вечер был таким ветреным, что с пляжных киосков сдувало парусиновые крыши. Семнадцатого февраля в стране не упало ни капли дождя!
— Семнадцатого?
— Разумеется. Четверг, семнадцатого февраля, погода в Эшториле: температура плюсовая, осадков не отмечено. Читайте вот здесь!
Я покачнулся на стуле, и Пруэнса схватил меня за руку.
— Вам плохо? Принесите ему воды.
Семнадцатое? Разве мы говорили не про третье? Третье ведь тоже было четверг. Я закашлялся, вода попала не в то горло, воздух стал горячим и острым, он раздирал мне трахею, плавился и падал на дно грудины смоляными каплями.
Семнадцатое февраля. За неделю до моего ареста.
За неделю, а не за три недели.
Я сижу в тюрьме за что-то другое, но за что?
Я летел через все семь горячих слоев, описанных ламой Джамгоном, вниз, минуя по очереди оживание, черные нити, сокрушение, вопли, громкие вопли, жар и, наконец, чрезвычайный жар, из которого уже нет выхода. Раскинутые ноги Хенриетты, вишневая пенящаяся мякоть, пистолет, из которого не стреляли, коттедж, в котором никто не слыхал о Додо, галерея, которую я не ограбил, и, наконец, венгерский контртенор из барочной оперы, Ласло, который так и не появился. Все это здесь ни при чем. После дождичка в четверг, вот что важно.
— Ему плохо, звоните chefe! — загремело у меня над ухом.
Он сказал chefe, хозяину, я успел подумать, что хотел бы посмотреть на хозяина Пруэнсы, но тут сине-белая кухонная стена снова поплыла у меня перед глазами, я вцепился в край стола, закрыл глаза и стал торопливо читать заговор спокойствия:
пустота в прекрасных занавесях соловей жалуется обезьяна удивлена.
Это помогает, нужно только выбрать правильный ритм. Мне стало заметно лучше, всего-то десять раз и пришлось повторить мантру. Этому фокусу научил меня Ли, вспомнил я, разжал пальцы и сполз со стула на пол. Мне хорошо, хорошо лежать здесь на полу, еще бы этот розовый с мясистым затылком исчез, ишь, выпускает струйку из иглы, кладет мне шершавый плавник на лоб, отойдите же, я с вами не хочу, что это? раз-жевать, говорит он, два-жевать, комната за его спиной беспредельна — вылитый palais de dance, в такой ходят старушки обниматься под довоенные мотивчики, на счет три выплюнуть, царская люстра лилиенталя полыхает прямо над лицом — вот он, стрекозиный глаз! — отойдите, вы пахнете пожухшими стеблями, перестоявшей водой, он задирает мне рукав — touche! в немом предплечье поселяется жар, зато холодно голове, у меня от вас гусиная кожа, подобно тому как участием... удостой нас и вечного пира в твоем царствии, что он бормочет? почему их стало трое, не понимаю, полная горница полицейских, светло-зеленых, как огуречные семечки, дверь закройте, видите — крадется сквозняк? зажать бы его в кулаке, пусть холодит, как сосулька, принесенная на урок рисования, дверь хлопает, бальная люстра распадается на глазочки, на дырочки, и каждая смотрит, и нет обнадеживающего ответа, и нет убедительного опровержения, давным-давно у другого моря это было, и каждая смотрит, каждая, все, все до одной.
El amor es una locura
Que ni el cura lo cura.
Si el cura lo cura,
Es locura del cura.
Вода потекла у меня по лицу, и я открыл глаза.
Пруэнса сидел на стуле и грыз сухое печенье. Полицейский, который плеснул мне в лицо из стакана, стоял у него за плечом и улыбался, высоко обнажая розовые десны.
— Вставайте, Кайрис, хватит валяться. Что это вы как девка — кашляете, врете, в обморок падаете.
Я смотрел на него с пола, понимая, что приступ прошел, осталась только горячая щекотка в бронхах, но сил, чтобы подняться, почему-то нет.
— Что за дрянь вы мне вкололи?
— Обычное средство. Полагаю, вы читаете кириллицу? — следователь разглядывал какую-то липкую бумажку. — Это было под крышкой в банке с вареньем, я только теперь заметил.
— Дайте сюда! — я с трудом поднялся и сел на стул.
— Это сообщение предназначено вам? Прочтите вслух и переведите нам дословно.
Я взял записку из его руки, положил перед собой на стол, протер очки краем свитера, надел их и громко прочел:
- Один студиозус из Кракова
- Все прятал всегда одинаково,
- Засунул в бокал
- И долго искал
- Заначку растяпа из Кракова.
Пруэнса терпеливо выслушал мой перевод и в недоумении оглянулся на полицейского:
— Вы что-нибудь поняли, сержант?
— Это мог бы быть лимерик, — пояснил я, — но его здесь нет, это глюк, alucinac^ao. Женщина, которая могла это написать, давно умерла, а про Краков никто, кроме нее, написать не мог.
— Налейте ему еще воды, — Пруэнса махнул сержанту рукой, — а то опять начинается.
— Это он просится в изолятор, чтобы на мягком поваляться, — сказал сержант, отвернув кран до отказа. Он набрал холодной воды в горсть и плеснул мне в лицо. Толстая струя ударялась о латунные пепельницы, сложенные в раковине, я сам сложил их туда за день до ареста, а сполоснуть не успел. Еще воды. Еще.
Двенадцать лет назад я ходил по коридору мимо двери, за которой лилась вода, будто Френсис Дрейк, услышавший звук своего барабана. За дверью была тетка, и мы были дома одни.
В полдень мать побежала на привокзальный базар за маком для кутьи, а Зоя пошла в ванную, чтобы вымыть голову, но потом решила, что успеет выкупаться, и открыла все краны. Что-то жестяное упало и покатилось там за дверью, послышалось португальское роклятие, которое я раньше уже слышал — merda! — а потом сдавленный смех. Мне нужно было увидеть эту женщину голой, я видел ее голой в тартуской гостинице и не понимал, почему теперь — нельзя. Минут через десять я все же постучал в дверь и сказал, что порезался, что мне нужен спирт или одеколон, сию минуту, срочно. Дверь открылась не сразу, но все же открылась. Влажное облако жара выплыло в коридор, тетка, завернутая в голубое мамино полотенце, стояла в дверном проеме и хмуро смотрела на меня.
— Спирт есть на кухне, — сказала она. — Покажи мне, где ты порезался.
Я вошел, довольно грубо ее отодвинув, закрыл за собой дверь, прислонился к ней и медленно оглядел тетку с головы до ног. На голове у нее была купальная шапочка, на лице испарина, а ноги были заметно смуглее, чем тогда, в тартуском отеле, наверное, она наловчилась загорать на своей террасе, не обращая внимания на соседей. Теперь я хотел увидеть все остальное — все, что три года назад мне показали небрежно, будто евнуху или врачу. И правильно сделали, потому что я был племянник Рамо, девственник, пустое место, собутыльник, милый ночной собеседник. Тот, Кому Кладут Голову на Плечо.
Ванна уже переполнилась, и вода начала с хлюпаньем втягиваться в отверстие перелива. Я знал, что отверстие не слишком надежное, и если вовремя не выключить воду, она снова протечет в библиотеку профессора Бейнорюса, жившего под нами. В прошлый раз это случилось, когда бабушка забыла завернуть кран, и нам пришлось сушить книги Бейнорюса феном для волос, а за некоторые даже заплатить. Честный сосед назвал не слишком высокую цену, хотя я знал, что словарь Вильямса и Упанишады он вряд ли себе достанет, а они размокли до полной мокши, что на санскрите означает освобождение.
Тетка прочла мои мысли и повернулась, чтобы выключить воду, а я сделал шаг вперед, протянув руку к голубому полотенцу. Зоя помотала головой и села на край ванны, дальше идти было некуда. Теперь я думаю — почему мы оба молчали? Мне так хотелось увидеть ее голой, что я потерял дар речи и весь превратился в глаз: так галльский бог сна отрастил себе чуткое оленье ухо, чтобы лучше слышать молитвы смертных. Но почему молчала она?
Я придвинулся еще ближе, так, что наши колени соприкоснулись, и уткнулся носом в теткин горячий лоб. Он мне всегда нравился: ровно такой ширины и покатости, которая говорит об уме, но не добавляет высокомерия. Тетка сидела тихо, будто лиса в капкане, я слышал ее дыхание, слышал, как мается у нее внутри хрипловатый маятник, задевая сизые стенки.
Во всем ее теле была какая-то правильная кривизна, будто в арках Тиция, нет, будто в каменных дырах Генри Мура — я это всегда знал, вернее, предчувствовал, еще до того, как увидел ее раздетой в темноте гостиничной комнаты. Но тогда, в «Барклае», я был ничто, умирающий от желания волчонок, я смотрел, но не видел, любовная хмарь помутила мое зрение. Теперь я хотел увидеть ее и резко потянул за край полотенца.
Полотенце упало на пол, обнажив правую грудь и два зубчатых розовых шрама вместо левой. Опустив глаза, я увидел атласистый живот и мокрый клочок волос, похожий на лисье ушко, но тетка даже не пошевелилась, чтобы прикрыться. Шрамы были странной формы, как будто ее дважды ударили в грудь острой шестеренкой.
— Ну вот, — вздохнула она, — теперь ты знаешь.
— Больно было? — спросил я, протягивая руку, чтобы дотронуться.
Тетка не ответила, она смотрела через мое плечо, приоткрыв рот, ее темные зрачки расширились и заполнили радужку целиком. Я обернулся и увидел, что дверь ванной комнаты открыта и в ней, будто в высокой портретной раме, стоит мать. В руках у матери был сверток, пахнущий жженым сахаром, на черном лисьем воротнике таял снег, а на лице быстро замерзали глаза и рот.
Незлобивые лапландцы
там в глуши своих селений
мирно пьют из толстых кружек
благодатный жир тюлений.
— Выходи, Кайрис, — конвоир протянул мне руку и выдернул меня из машины, как лисичку из сырого мха. — Двигайся вперед, по сторонам не смотри.
Смотреть было особенно не на что: здание, выкрашенное в цвет яичницы-болтуньи, дорога из ракушечника и живая изгородь, на которой еще не проклюнулось ни листочка. Вывеска морга едва поблескивала на стене, я даже не разглядел ее поначалу, зато дверь была парадной, высокой, двустворчатой, заноси хоть целый полк под знаменами. На широком гранитном крыльце маячил санитар, или еще кто-то в белом, его халат был распахнут и развевался на ветру, будто сигнал бедствия. Небо побелело, птицы исчезли, стало тихо и холодно, я понял, что сейчас начнется буря, и ускорил шаг, направляясь к дверям мертвецкой. Снаружи — смерч, а внутри — смерть, сказал бы я Лилиенталю, будь он рядом. Ему бы понравилось.
Пруэнса шел впереди, пояс его плаща был развязан и свободно болтался по бокам, я стал думать о том доме, где на гвозде висит этот плащ, и о жене, которая способна вытерпеть лицо Пруэнсы, эту ущербную фаянсовую луну. Собачья у следователя работа: воскресенье, полдень, в предместье тихо и свежо, под мостом Васко да Гама застыли рыбаки, а ты будь любезен, поезжай в морг. В Вильнюсе теперь тоже тихо, там стоит та особая мартовская тишина, по которой я скучаю: сонная, белая, войлочная, с глухо пощелкивающими звуками города и железной дороги.
У расстроенного пианино, что стояло в нашей прежней квартире, была хитрая третья педаль — для тихой игры, чтобы не беспокоить соседей. Стоило ее нажать, как между струнами и молоточками появлялась полоска толстого войлока, и звуки зарывались в мягкое, превращаясь в приглушенный разговор, почта что шепот. Помню, как я удивлялся, когда мать садилась на вертящийся стул и перебирала клавиши, мне казалось, что ее короткие пальцы, пропахшие ланолином, не годятся для музыки, другое дело — пальцы пани Рауба или даже бабушкины, с разбухшими косточками, но быстрые, легко берущие октаву.
Однажды летом я зашел на кухню, когда мать резала салат, она протянула мне зеленый перчик — не глядя, машинально, — и я отшатнулся. Ее масляные пальцы, сжатые щепотью, оказались у меня перед глазами, и меня возмутила их некрасивость. Я закрылся в ванной и долго разглядывал свои руки, представляя себе Франтишека Конопку — белорукого шляхтича, избавившего меня от материнских пальцев, жестких волос и широкого сувалкийского носа.
Приехав в гости в первый раз и увидев пианино в нашей гостиной, тетка обрадовалась, как маленькая, сыграла какую-то быструю, плещущую Шопеном мелодию, захлопнула крышку и потребовала немедленно вызвать настройщика. Мать пробормотала что-то обиженное, но на следующий день пригласила к нам деде Хенаса, научившего меня слову «вирбельбанк» и подарившего камертон, похожий на вилку для гриля.
Удивительное дело, в ту, последнюю, зиму я не почувствовал никакого эльфийского щипка или толчка в грудь, как бывает, когда догадываешься о чем-то простом и очевидном, скрывавшемся только от тебя. Я не видел, как стремительно она стареет, как запали у нее щеки, покрывшись парафиновым лоском поверх загара, да и сам загар приобрел скучный оттенок, который мой учитель рисования почтительно называл сырая умбра. В ней было столько холодного воздуха, мистраля, трамонтаны, звенящего жесткого электричества, что я не мог представить ее слабой и бессильной, не мог и не хотел. Другое дело, ее дочь.
Не помню точно где, кажется, на юге Италии, я видел круглые дома — trulli? — оставшиеся с тех времен, когда местный синьор разрешил своим подданным строить жилища из камня, при условии, что камни не будут скреплены цементом или известью. Такие дома можно было легко разобрать в наказание за неуплату налогов, это были крепкие с виду башни, способные развалиться на кусочки в мгновение ока, деревянный овин и тот был надежнее. Агне казалась мне чем-то вроде такого дома: дородная, уверенная в неотразимости своего материнства, она была жалкой и неустойчивой, как башня виллана. Стоило сказать ей что-нибудь резкое или просто не улыбнуться в ответ, как она рассыпалась на кусочки — голос садился, глаза набухали влагой, аквамариновый раёк темнел и расплывался.
Ее мать никогда не плакала, по крайней мере, я этого не видел.
Однажды, в зимний вильнюсский день, она собралась было заплакать, пару раз шмыгнула носом, но тут же с сомнением посмотрела мне в лицо. Глаза у нее стали зеленее, чем обычно, как будто их быстро промыли изнутри, но этим все и кончилось — был ясный полдень, и я различил бы слезы, не сомневайся. Мы шли по берегу Вильняле, и она все говорила и говорила про своего андалузца. Я уже знал о нем больше, чем о ней самой, и хотел бы никогда не слышать этого имени, но перебивать Зою мне не хотелось: ей было весело, а я давно не видел ее веселой.