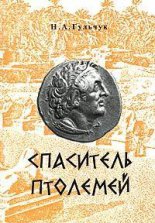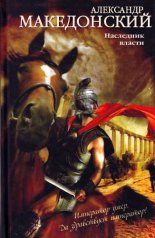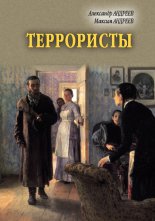Другие барабаны Элтанг Лена

— Эти люди были должны ему деньги или, наоборот, хотели получить долг с него, я так и не поняла толком, — прошептала тетка. — Бывший сторож явно не хотел поддерживать разговор, даже пытался сделать вид, что меня не узнал. Глядя с моста вниз, на бурлящую воду, я подумала, что тело Зеппо разорвалось в ней на тысячу мелких кусочков, и еще я думала, что это не такая уж плохая смерть. Та, что ожидает меня, гораздо грубее и незатейливее.
Мудак, мудак. Почему я не мог найти десяти минут, чтобы позвонить ей, набрав номер под барной стойкой вишневого дерева — так я звонил китаисту в Эстонию, в аспирантское общежитие, где его долго и звучно выкликали соседи на этаже. Когда же тетка позвонила мне сама, я говорил коротко и безучастно — торопился на свидание в кладовке, где, раскинувшись на дерюжных мешках из-под сахара, меня дожидалась голая, тяжелая, будто кистеперая рыба, напарница Чеся. В тот день я слышал теткин голос в последний раз. Однажды, перебрав коньяку, я рассказал об этом Лилиенталю, и он посмотрел на меня с удивлением:
— Натурально, пако, всегда бывает последний раз. Может быть, мы тоже говорим в последний раз и больше ты не увидишь ни меня, ни этого коньяка, ни стола, на который закинул ноги в заляпанных грязью ботинках. Ребенку ясно, что смерть связана с сегодняшним днем больше, чем со вчерашним или завтрашним: сегодня ты еще можешь умереть, а вчера уже нет.
— Зато я могу умереть завтра, — я отодвинул бутылку, уже показавшую дно.
— Что касается завтра, то, если ты умрешь даже ранним утром, это все равно будет твое сегодня. Поэтому нужно думать о смерти каждый день, с тем же ласковым автоматизмом, с которым медсестра переворачивает песочные часы, ставя тебе припарки, или как там эта штука называется? Елена ставила мне такие на грудь, когда я простудился, выкупавшись спьяну в запруде возле железнодорожного моста. Из нее вышла бы неплохая сиделка, если бы она выкинула из головы свободу для тибетцев и независимый Курдистан.
— Как ты представляешь себе смерть? — спросил я, не желая говорить о Елене.
— Смерть? — он довольно фыркнул. — Мне она представляется морем, поглощающим круизные корабли, землечерпалки, филиппинские банки и двухмачтовые суденышки для контрабанды, да все, что угодно, и создающим из них новое дно, чтобы те, кто поплывет по водам позднее, думали, что так оно и было всегда. Понимаешь, облик реальности конструируется произвольно, немцы называли это traumrealismus, бредовый реализм.
— То есть смерть — это то, что мы ясно видим, но не понимаем, как оно работает?
— Ну да. Что-то вроде воздухоплавания или электричества.
— Чушь собачья. На свете полно людей, которые знают, почему самолет держится в воздухе, а вольфрамовая нитка светится, — возразил я, — есть даже люди, которые делают это своими руками!
— Разумеется, — он довольно кивнул, — точно так же обстоит и со смертью. Некоторые всю жизнь умудряются потратить на то, чтобы разобраться, как работает смерть. А некоторые способны призвать ее мгновенно, не слишком церемонясь.
Таков мой друг Лилиенталь.
Но вернемся к моему другу Раубе и тому дню, когда он явился на Терейро до Паго с намерением забрать свои сребреники из дядиного сейфа. С тех пор прошло восемь дней, апрель кончился, и начался май, но я помню наш разговор весь, до последнего слова.
— Тебе повезло, — сказал я, услышав про крупные ставки. — И буржуям твоим повезло. Не впутайся я в историю с шантажом, черта с два поехал бы с поддельными копами в участок.
— На это никто и не рассчитывал! Ты ведь сам рассказал мне подробности, даже про ожидание ареста написал, когда назначал свидание в Эшториле. Поляк-домушник, который должен был стать лошадкой, сорвался с крючка в самый последний момент. Ставки были сделаны, и я совсем было отчаялся, а тут подвернулся ты — оставалось только поменять сценарий.
— Значит, все они проиграли свои деньги потому, что я так и не вышел? Это хорошо. За что же тебе так щедро заплатили, если банк достался крупье?
— Никакого крупье там не было. По условиям пари выиграл парень, который поставил на самую позднюю дату, конец пятой недели, кажется. Он в самом начале приходил на тебя посмотреть и совсем было расстроился, решил, что проиграет. Говорил, что видел тебя на прогулке, страшно довольного собой, и подумал, что ты собираешься на волю.
— Я тоже его видел. Насчет двери я не догадался, но ценю твою выдумку. Лилиенталь сказал бы, что это история о внутренней свободе, а также о подсознательной готовности человека понести наказание. Ему бы это понравилось. То есть не сама история с тюрьмой, а то, что ты читал мой дневник, знал мои страхи и мог воплотить их в следующем эпизоде, как чертовски везучий интерактивный демиург.
— Лилиенталь — это тот, хромой? И чего тебя так тянет к увечным? Даже служанка, и та с придурью, — он широко зевнул, обдав меня коньячным духом. — Все-таки странно, что ты не попробовал открыть дверь, ведь тебя никто не сторожил, охранники появлялись там по графику, как уборщики в конторе. Тебе что, так хорошо было в бетонной одиночке?
— Я хотел дочитать твой сценарий до конца! Ты ведь сам писал тексты для Пруэнсы, верно? Как только я вспомнил о Габии, она замелькала в разговорах со следователем, а стоило мне описать чистильщика, как ты прислал его на очную ставку. Жаль, что я не сразу догадался, а то написал бы страниц пять о раздирающем меня страхе перед ящиком арманьяка, глядишь, ты бы и купился, старичок.
— Не смешно. Это я их уговорил оставить тебе компьютер и пальто, а то кашлял бы сейчас, как чахоточный Монте-Кристо. Хотя, правду сказать, тот актер, что изображал следователя, говорил, что ты с каждым днем выглядишь все свежее и задиристее. Что значит хорошая режиссура.
— А ронять меня на пол в кабинете следователя, это тоже была режиссура?
— Да, мне пришлось это вписать, иначе ты бы не поверил, а мне платили за то, чтобы все было как на самом деле. И потом, не забывай, я самого начала намеревался с тобой поделиться.
— Еще скажи, что собирался взять меня в Патагонию.
Лютас вздрогнул и прижал подбородок к согнутым коленям, я сидел так близко, что видел мурашки у него на запястьях. Его била дрожь, я слышал шорох ее широких крыльев внутри его тела, недаром литовское drugys означает и лихорадку и бабочку одновременно.
— Нет, не собирался, у тебя же свои острова есть. Хотя ты и это у меня позаимствовал. Тебе мало было моей подружки и моего швейцарского ножа, ты всегда был прожорливым, будто яблочная гусеница. Помнишь нашего соседа Йозаса, который вечно в саду возился? У него было всего четыре яблони, и он на каждое яблоко мешочек надевал, чтобы уберечь от гусениц.
— А мы эти яблоки воровали, а мешочки оставляли на ветках.
— Ну вот, — он кивнул, одобряя мою понятливость, — ты и есть эта самая плодожорка. Считай, что посидел в коконе и вторично вылупился. Просветленным мотыльком.
— Ладно, я гусеница. А ты у нас гений, значит?
— Гений. Но и я могу ошибаться, — он поднялся со ступеньки, его худое тело распрямилось словно гармоника и оказалось как будто длиннее, чем я думал. Странная штука, мне всегда казалось, что он почти на голову меня ниже!
— Ты ведь не поверил в мою смерть, Костас.
Лицо моего друга на глазах становилось другим: белым, злым и блестящим, как вощеная бумага. Таким я видел его только однажды, много лет назад, когда пани Рауба велела ему убираться вон из дома, и он явился ко мне во двор поздно вечером и бросил камушек в окно. Мы полночи просидели на скамейке за домом, накурились до черноты в глазах и решили, что утром подадимся на побережье, там у Лютаса были знакомые, которые взяли бы нас грузчиками на паром, идущий в Киль, а уж там, в порту, непременно подвернется суденышко, идущее вокруг света.
— Не поверил. Как ты догадался?
— Я прочел твои записи. Ты ведь хотел, чтобы я их прочел, иначе не выбрал бы такой простой пароль для своего файла. Разве ты не помнишь, как в прошлый раз объяснял мне про Фалалея?
— Я там ничего про твою смерть не писал.
— Прямо об этом нигде не говорилось, верно. Но я заметил, что после посещения морга твоя интонация изменилась: ты перестал бояться. Я знаю вкус твоего страха, Костас.
Мой друг спустился в гостиную, взял там кресло-качалку, легко неся его перед собой, поднялся по крутым ступенькам и что было силы двинул креслом в дубовую дверь. Задвижка хрустнула и отлетела вместе с железной петлей, на дверном косяке осталась рваная вмятина. Лютас спокойно вошел в комнату, и я вошел за ним. В зеркале отражался голубой с белым круизный лайнер, зашедший сегодня в порт, я проснулся утром от его низкого радостного гудка.
— Это было просто, — я сел на подоконник, чтобы видеть лайнер целиком. — Только до меня не сразу дошло, а дней через пять. На бирке, привязанной к твоей ноге — «Liutauras Jokbas Rauba. Год рожд. 1974», — второе имя было написано с литовским диакритиком. В немецком паспорте так не напишут, а у тебя ведь немецкий паспорт. Но это мелочи, а вот дату рождения мог написать только ты сам или я, но никак не тамошний санитар. Ты и вправду родился в семьдесят четвертом, но в паспорте у тебя семьдесят шестой, еще со времен мореходки. На этом ты и спалился, старичок.
Корабль понемногу двинулся от причала, я прищурился, растянув глаза кончиками пальцев, — очки остались где-то внизу, на кухонном полу, наверное — на голубом боку было написано «Луминоза». Значит, уже десять утра. Когда живешь возле доков, часы не нужны.
— Тогда почему ты не дал Пруэнсе в морду и не вышел вон? — сказал Лютас за моей спиной.
— Я не знал, с чем я имею дело. Если это затянувшаяся шутка, думал я, то следует достигнуть ее дна и посмотреть, что будет. Если же угроза серьезная, то от того, что я брошусь на следователя, ничего не изменится — декорации и реквизит слишком дорого обошлись, чтобы так просто дать мне уйти. К тому же я был уверен, что твое чувство меры тебе не изменит, не продашь же ты меня на разделку подпольным хирургам. Тотализатор — это единственное, что не пришло мне в голову!
— Да мне бы самому не пришло, — Лютас сел рядом со мной и принялся разглядывать ногти. — Это затея клуба, они вечно на что-то ставят, в прошлый раз поставили на мужика, который за неделю съел собрание сочинений Чарльза Диккенса.
— Я читал в сети, что один парень за десять долларов откусил голову живой ящерице.
— А теперь представь, что можно сделать за сто тысяч раз по десять. На тебя приходили посмотреть те, кто проиграл: те, кто поставил на первую неделю, на вторую, на сорок пятый день и так далее. Они говорили, что ты выглядишь спокойным, как пациент альийского санатория. Меня даже заподозрили в том, что я слил тебе информацию и сам сделал ставку, хотя по правилам игры не имел на это права. Но я-то знаю, что не сливал. Почему же ты так долго сидел?
— Я мог там писать, вот и сидел. Сидел же Пруст в комнате, где стены были обиты пробкой. Кстати, ты мог бы расщедриться и на кофе, охранник приносил какую-то целлюлозную муть, заваренную в ковшике, и обдирал меня как липку. Даже за сахар брал отдельно!
— А чего ты ждал от безработного актера? Слушай, не заговаривай мне зубы, — он спрыгнул с окна и подошел к зеркалу. — Мне надо забрать свои комиссионные. И поделиться с тобой, разумеется.
Увидеть кого-то в зеркале, стоя за его спиной — плохая примета. Так я увидел тетку — за два года до ее смерти, — когда она поправляла волосы в какой-то вильнюсской лавке. А теперь увидел хмурое лицо Лютаса в зеленоватом стекле, когда стоял у него за плечом. Пока он возился с рычагом и набирал пароль, сверяясь с бумажкой, я думал о том, что я стану делать, когда сейф распахнется.
Еще я думал о том, что мне на удивление приятно слышать литовскую речь, даже жаль, что, когда Лютас уйдет, я ее долго не услышу. Почему-то я был уверен, что он сразу уйдет, увидев, что его дупло опустело. Но он не ушел.
Мы созданы из вещества того же, что наши сны.
Дверь на первом этаже хлопнула, сквозняк пошевелил занавески в спальне, где мы стояли перед пустым сейфом, и звякнул гранеными подвесками люстры. Лютас поежился, обхватил себя руками, как будто внезапно замерз, и повернулся ко мне:
— Ты сейчас вернешь мне то, что здесь было, верно, Костас? Слушай, бросай эти шутки, я и так две ночи не спал. Я готов отдать тебе четверть, это неплохие деньги, особенно в твоем нынешнем положении. Считай, что ты их заработал.
Я стоял перед ним молча и прислушивался к шагам Агне: вот она вышла из спальни, вот стукнула чем-то в кухне, теперь поднимается по лестнице, но нет — прошла наверх, в мансарду. Я мог сказать Лютасу, что деньги спрятаны в комнате сестры и что, скорее всего, она просто положила банкноты под подушку или сунула в пеленки своему младенцу. Мог, но не сказал.
— Поверь, старичок, если бы я знал, что они с тобой делают, эти местные жулики, венгр и его девчонка, то придумал бы другую историю, а то как-то монотонно получилось — и тут подлог, и там подлог. Два поддельных трупа, как в номере индийского факира с пилой! Но я ведь не знал, я действовал наобум. Wer htte das geglaubt!
— Я в этом не уверен.
— Ты сам написал, что у тебя неприятности с полицией, и назначил встречу в Эшториле, это так удобно вписывалось в сценарий! Я просто должен был умереть в тамошних скалах и лишить тебя возможности отвертеться. Ты оказался в нужном месте в нужное время, без единого шанса оправдаться — и все благодаря какому-то венгру, действовавшему со мной заодно и не знавшему об этом. Когда я стал приходить в камеру и читать твой дневник, то сразу понял, что тебя развели, как младенца, и все ждал, когда же умника Кайриса осенит, но так и не дождался. Отпустить тебя я не мог, речь шла о слишком больших деньгах. Напиши об этом роман, и никто не поверит.
— Я уже написал.
— С тебя станется. Ладно, хватит болтать, отдавай Papiergeld, или я сам пойду искать. Если деньги в доме — а они в доме! — то найти их не так уж сложно. Ты не тот, кто понесет добычу в банк, нет — ты засунул их в ямку, под стекло, вместе с останками майского жука. Уж я-то тебя знаю.
Лютас подождал еще немного, покачиваясь с носка на пятку, потом помотал головой, потер кулаками покрасневшие глаза и пошел искать. Он искал несколько часов, а я сидел в столовой и листал забытую Агне книжку. В доме было тихо, сестра куда-то подевалась, затаилась или заснула, слышно было только, как мой друг, вернувшийся из подземного мира, выдвигает ящики комодов и хлопает дверцами шкафов. Несколько раз до меня донеслись его приглушенные ругательства — о, полузабытая, шерстяная, ужом струящаяся литовская речь! — потом он перешел в комнату тетки, и теперь я слышал только торопливые шаги у себя над головой. Чуть позже знакомо звякнула щеколда, что-то железное покатилось по плиточному полу, и я понял, что Лютас дошел до шкафов в мансарде — свет там был тусклым, зато пыли предостаточно. Я вспомнил, как Лилиенталь выговаривал Байше за нерадивость, заведя ее в кладовку и торжествующе держа двумя пальцами плюшевую мышь, которую сам же туда и подложил неделю назад.
— Совсем она у тебя распустилась, — сказал он тогда. — Слуги чувствуют безответность и радостно идут на нее, будто кошки на запах полежавшей рыбы. Видел бы ты свою улыбочку, когда ты с ней разговариваешь, вид у тебя точь-в-точь как у барского сынка, утешающего беременную горничную. Со слугами нужно говорить без экивоков и требовать с них жестко, как с близких друзей, или вообще их не заводить. Это, кстати, и друзей касается.
Лютас прошел мимо открытой двери столовой, даже не поглядев на меня, волосы у него были серыми от пыли, а белая рубашка покрылась сомнительными пятнами. Его целью явно была кухня, и я приготовился к грохоту сковородок и шороху рассыпанной по полу крупы, но вместо этого раздалось радостное восклицание, что-то вроде «Jaja!», и через минуту глухо стукнула откинутая крышка подвального люка. А потом я услышал какой-то домашний, мягкий, но тревожный звук: как если бы гигантской выбивалкой шлепнули по гигантскому ковру.
После этого стало совсем тихо, и я забеспокоился.
То есть я подумал, конечно, что Лютас мог свалиться в погреб, тем более что вторая ступенька давно держалась на честном слове, но ушибиться так сильно, чтобы затихнуть, там было никак невозможно: каменное дно плотно покрывали свернутые в рулоны ковры, четыре здоровенных ковра, я их сам туда оттащил, отчаявшись продать, давно, еще прошлой зимой. Персидский голубой был проеден молью, зеленый — выцвел, а два оставшихся просто не представляли никакой ценности. Ковры пришлось окропить камфарой, туго свернуть и прихватить шпагатом, они заняли собой весь пол и громоздились один на другом, словно физкультурные маты в школьной подсобке.
Я подождал минут пять, из кухни не доносилось ни звука, зато в парадной гулко хлопнула дверь, и я подумал, что сегодня день сквозняков, выдвинутых ящиков и парусящих на ветру занавесок День вселенского обыска, не хватает только грязного пуха из перин и соседей с виноватыми усмешками. Кто-то медленно шел по лестнице, насвистывая «Se eu bailar no meu batel», и на какое-то мгновение я поверил, что это может быть Байша, вернувшаяся за бутылкой хорошего порто.
— Хозяин, что это у вас тут происходит? — сказала бы она, уперев руки с золочеными ногтями в бока, обтянутые красной блузкой. — Прямо на минуту оставить нельзя.
Перед нашей дверью шаги затихли. Нет, это была не Байша, у нее свои ключи, а человек открыл только уличную дверь, это можно и шпилькой сделать. Наш гость может оказаться и полицейским, подумал я, дом ведь стоит на муниципальном учете, дверь была опечатана, и мы с сестрой находимся здесь незаконно. Самое время спуститься вниз по пожарной лестнице, обойти дом со стороны переулка Себаштиану и сделать вид, что только что пришел.
Я поднялся с кресла, закрыл книгу и помедлил, раздумывая, что сделать сначала — посмотреть на гостя или протянуть руку свалившемуся в ловушку лису Раубе. Поскольку в дверь не звонили, я махнул рукой и пошел в кухню, где посреди пола зияла темная дыра, из которой когда-то появлялся Фабиу, держащий бутылки в обеих руках, за горлышки, будто подстреленных уток. Склонившись над дырой, я увидел своего друга, лежащего там внизу, на мягких коврах, будто ребенок в темном чреве матери, подтянув колени к подбородку и закрыв лицо руками.
— Эй, — я позвал его, приложив ладони ко рту, и услышал короткое слабое эхо, всегда вызывавшее у меня недоумение: откуда оно берется в земляной пещере глубиной с два человеческих роста? Одна из стен погреба была выложена круглыми, вечно мокрыми камнями, наверное, там оно и таилось, фамильное эхо дома Брага, скучающее по запасам выпивки и тяжеым окорокам, перевитым шершавой веревкой. Две другие стены были построены позднее, когда просторный купеческий дом на Терейро до Паго разделили на четыре дома поменьше, а в самом крайнем открыли представительство пароходной компании. Контора и сейчас там, даже вывеска старая осталась «compnia naviera», а над ними была квартира с балконом, где жила девушка-йогиня, которой я любовался каждое лето, пока она не съехала.
— Эй, ты ушибся, что ли? — я пощупал первую ступеньку, но она была на месте, только немного шаталась, как молочный зуб, еще не готовый смениться коренным. На второй ступеньке блестели какие-то шарики, в темноте показавшиеся мне просыпанными леденцами, я лег на пол и легко дотянулся до одной — это были теткины цитрины, те, что остались невредимыми. Ясное дело, я колотил по ним утюгом, положив ожерелье на откинутую крышку люка, чтобы не портить старинную плитку, потом сестра закрыла погреб, и уцелевшие бусы полетели на лестницу вместе с осколками и стеклянной пылью. Похоже, мой друг поскользнулся на них, когда спускался в погреб, — прямо, как жена Гермеса на коровьей шкуре. Надеюсь, он треснулся как следует, должен же кто-то отомстить за те кровоподтеки, что я получил на первых допросах.
Стекло, черт бы его подрал! Не могу поверить, что все это время я любовался подделкой и даже собирался выставить ее на аукцион. Хорош бы я был, проведи они простейшую экспертизу в этой своей галерее «Шао Хорхе», небось, швырнули бы ожерелье мне в лицо да еще в полицию сообщили бы. Я встал возле люка на четвереньки и опустил голову вниз:
— Хватит прикидываться, слышишь? Ты повторяешься, и это скучно.
— Аешься, учно, — сказало эхо.
Мне не терпелось вытащить Лютаса оттуда и договорить. Я еще не все ему сказал, даже до середины не дошел. Я хотел сказать, что его актеры играли из рук вон плохо, особенно Редька, хренов Мальволио. Лучшим актером оказался сам режиссер, несколько дней я был уверен, что его и впрямь пристрелили. Пока не вспомнил про бирку на щиколотке.
Еще я хотел сказать, что никакого сценария у него не было, я в этом уверен. Лютас просто сунул меня в тюрьму на несколько дней, посмотреть, что будет, а я вдруг начал строчить свои записки, как помешанный, он прочел, не смог удержаться и продолжил. Ведь ты чувствуешь себя богом, когда владеешь страхами другого человека, можешь с ними играться, как с красными стеклянными шариками, можешь воплощать их, один за другим, наслаждаясь его смятением.
И еще я хотел сказать: неужели ты думал, что я так и не вспомню про доцента Элиаса?
Schatzi, Schatzi, zeig mir dein Fratzi?
Смахнув со ступенек стеклянную пыль, я спустился в погреб и сел рядом с лежащим навзничь Лютасом. Я уже забыл, какие там завалы разного домашнего барахла — в последнее время я просто сбрасывал вещи в люк, уж больно неудобно сюда лазить, да и служанка, думаю, делала то же самое. За вином можно было сойти по другой лестнице, ведущей в кладовку, этот погреб имел два ответвления, как и полагается подземному ходу. Я сел перед Лютасом на корточки и осторожно отвел его ладони от лица — мне показалось, что он улыбается, и я тоже улыбнулся, готовый понять его затянувшуюся шутку, но это была не улыбка, а черная струйка крови, сочившаяся из уголка рта. Свет из люка падал на его ноги, и я увидел, что одна из них — левая? правая? — вывернута как-то ненатурально, носок ботинка смотрел вверх, а должен бы смотреть в сторону.
— Старик, ты, кажется, сломал ногу, — сказал я, и маленькое эхо покорно повторило последний слог. Я попробовал перевернуть Лютаса на спину, но его голова оказалась зажата между ковровым рулоном и чем-то твердым и круглым, похожим на обрезок железной трубы. Я постучал пальцем по этой трубе, и она отозвалась не пустым и гулким звуком, как я ожидал, а так, как мог отозваться почтовый ящик, доверху набитый газетами. Голова Лютаса шевельнулась, струйка крови оживилась и заблестела.
Я испугался, что сделаю еще хуже, встал, с трудом разогнулся, поднял руку и нашарил на полке фонарик, оказавшийся, как ни странно, на своем обычном месте. Луч света оказался неожиданно ярким, я даже зажмурился, лицо Лютаса, выхваченное из тьмы, стало похожим на терракотовую маску повара из римской комедии, которую я видел в берлинском музее. Перекошенный алый рот стал заметно больше прежнего, а на месте левого глаза чернела звездообразная клякса.
Я вытащил твердый предмет, застрявший между выступом стены и затылком Лютаса, и поднес к нему фонарик То, что я принял за обрезок трубы, было моделью маяка, полосатого маяка из Авейру, той самой, в которую я поставил урну с теткиным прахом — она как раз поместилась, только лампочку пришлось вывернуть. Я провел рукой по волосам своего друга, на этот раз его голова легонько подалась, и я смог дотянуться до правого глаза и попытаться опустить веко. Правда, это мне не удалось, глаз тут же открылся и уставился на меня, ресницы намокли от предсмертной влаги и казались накрашенными, непривычно черными.
Если бы маяк был пустым, понимаешь, если бы он только был пустым, то наверняка сломался бы под тяжестью Лютасова тела и, в худшем случае, расцарапал бы ему лицо. Теткин прах ничего не весил, разумеется, зато урна была тяжелая, с острым наконечником, точь-в-точь кубок победителя гребной регаты. Я снял с маяка крышу и вынул урну, мысленно извинившись перед Зоей Брага.
— Вот сейчас вылезу отсюда и найду для тебя место поприличнее, — сказал я ей.
— Вылезай давай, — сказал Лютас, и я шарахнулся от него, выпустив урну из рук и больно ударившись затылком о полку с инструментами. — Вылезай, а то буду стрелять.
Голос был незнакомым, мертвый рот не двигался, и мне показалось, что мой друг говорит со мной писклявым волшебным голосом, какой раздается из живота кукольника. От Лютаса можно было ожидать чего угодно, я ведь уже видел его на грязно-розовой клеенке, тогда рот у него был крепко сжат, что правда, то правда, но ведь он встал с железной каталки, открыл дверь с надписью «Manter a calma» и вышел вон. Почему бы не сделать этого еще раз?
Широкая лопасть света заметалась по стенам, это был уже не мой фонарик, а большой фонарь в руках у кого-то, стоящего над моей головой, он светил, как мощная автомобильная фара.
— Косточка, вылезай, — сказал Лютас испуганным голосом моей сестры, и я, наконец, поднял голову. В квадратном отверстии люка виднелось лицо Агне, перегнувшейся вниз так сильно, что я невольно протянул руку, готовясь поймать ее. Я так делал, когда мы играли во дворе с заброшенным фонтаном — давно, лет двадцать назад — сестра прыгала с высокого барьера, украшенного выпуклыми рыбьими головами, а я делал вид, что не собираюсь ее ловить, и только в последний момент подставлял руки. Фонтан был полон тинистой вонючей воды, там вечно что-то булькало и ржаво поскрипывало, и хотя мы видели, что на дне лежат несколько монеток, брошенных заблудившимися в Альфаме туристами, никто из нас не решился туда забраться.
Лица Агне я не мог различить, оно было закрыто свесившимися вниз волосами, но судя по голосу, она была насмерть перепутана. За ее качающейся в светлом квадрате головой я различил какую-то фигуру без лица и спросил:
— Там у тебя полицейский? Скажи, пусть немедленно вызовет «Скорую». Тут несчастный случай. Лютас упал и сломал себе шею.
— Сам ты полицейский, — сказал писклявый голос из живота кукольника, и растрепанная темная голова склонилась надо мной, отодвинув русую голову сестры. Я видел только рот, совершавший знакомое движение, и слышал противное причмокиванье — мятные таблетки! Владелец рта на секунду направил фонарь себе в лицо, и я закашлялся от удивления.
— Да тут, я вижу, и впрямь несчастный случай, — медленно произнес охранник Редька, обводя лучом света подвальные углы. — У тебя, никак, труп в погребе припрятан?
— Это не труп, — сказал я. — Это Лютас Рауба. Он просто расшибся. Упал в подвал, поскользнулся на цитринах, то есть на стекле, и упал.
— На чем твой труп поскользнулся? Ты, милый, я вижу, совсем умом тронулся в своей одиночке. Давай-к выбирайся оттуда, — он засмеялся, и смех его упруго запрыгал по каменным стенам, будто шарик от бильбоке.
Я посидел еще немного возле Лютаса, глядя на его светлые спутанные волосы и думая, что когда его будут хоронить, то вставят, наверное, стеклянный глаз, люди ведь любят совершенных мертвецов, вот только где они найдут такой безупречно синий глаз, как тот, что смотрел на меня в темноте. В погребе к тому времени стало совсем темно, у карманного фонарика кончилась батарейка, ее, должно быть, никто не менял со времен амонтильядо.
Теперь свет сочился тонкой струйкой из дыры в потолке, то есть в полу — нет, все-таки в потолке. Я вдруг понял, что потерял ориентацию в пространстве, две каменные стены и две кирпичные плыли вокруг меня, то и дело меняясь местами, при этом слух мой обострился до такой степени, что я слышал, как в щелях меж камнями копится подземная вода, а волосы Редьки, все еще стоявшего над люком, свесив голову, трутся друг о друга с противным шорохом.
— Косточка, у него пистолет, — тихо сказала Агне, и ее голос почти разорвал мне барабанные перепонки. — Кажется, это наш пистолет.
Понятное дело, наш. Тот самый, что полицейские изъяли у нас в качестве улики в деле об убийстве литовского кинорежиссера. За верную службу от генерала Умберту Делгау.
Что ж, по крайней мере, реквизит в этой абсурдной пьесе остается неизменным. То, что в первом акте висело на ковре, в финале выстрелит и прикончит главного персонажа, если, конечно, это я здесь главный. Видела бы сеньора Брага, во что я превратил ее дом: в спальне стена распахнулась разграбленным тайником, в кухне стоит тюремный охранник с дядиным пистолетом, а в винном погребе лежит труп молодого мужчины с выбитым глазом. И это еще не все — где-то здесь, в этих каменных стенах, замуровано тело маленькой девочки, не зря же дядя выстрелил себе в висок, и где еще ему было ее прятать? Ладно, Фабиу, мы скоро встретимся — и ты мне расскажешь, произнес я вслух и тут же услышал раздраженный окрик сверху:
— Долго ты будешь там копаться, Кайрис? Небось, стираешь свои отпечатки? Напрасно стараешься, при живом свидетеле убийства полиция обойдется и без них.
— Это ты, что ли, свидетель? — рявкнул я, почувствовав, как гнев забивает мне горло астматическим хрипом. Мне захотелось побыстрее выйти из ямы на свет и врезать этой скотине промеж глаз.
Я нащупал в темноте нижнюю ступеньку и поставил на нее ногу, лестница была короткой, метра два всего, но пока я поднимался, я о многом успел подумать. Ты не представляешь себе, Хани, сколько всего можно передумать, пока поднимаешься по двухметровой лестнице.
Выбравшись наполовину, я увидел дуло пистолета, направленное мне в лицо, и поднял руки, с трудом удерживаясь на ступеньке, где все еще похрустывали осколки ожерелья. Агне стояла у окна, взявшись ладонями за голову, я даже подумал, что Редька ее ударил, но потом увидел выражение ее лица и вздрогнул: моя сестра улыбалась. Такой мутной, обращенной в себя улыбки я у нее не знал, такую улыбку я вообще видел только раз в жизни. На лице ее матери.
— Надо же, — сказал мой бывший охранник, — какой послушный мальчик.
Он поводил дулом перед моим лицом, потом ловко подкинул пистолет, поймал его, направил себе прямо в лоб и нажал на курок. Раздался щелчок, и Агне жалобно вскрикнула.
— Забирай свою игрушку, — Редька протянул мне пистолет рукояткой вперед, — я за этим и пришел, чтобы вернуть тебе вещдоки: пукалку и цацку.
— Почему бы тебе не оставить его на память? — я отвел пистолет рукой, взялся за крышку люка, подтянулся и выбрался, наконец, на кухонный пол.
— А на кой он мне? Это же старый ствол, ни на что не годный, — охранник смотрел на меня с любопытством. — Выпотрошенный, будто улей без пчел.
— Но хозяйка дома говорила мне, что он в рабочем состоянии, — я повернулся к Агне, по-прежнему стоявшей с опущенной головой. — Из него же стреляли в феврале!
— А ты больше слушай, что бабы тебе говорят, — Редька выплюнул в горсть мятную таблетку. — Ладно, ты и без пистолета справляешься неплохо, как я погляжу. Чем это ты его? Он мне никогда не нравился, скользкий тип, сразу видно, что с востока.
— Агне, я должен рассказать тебе, что здесь произошло, — я отодвинул Редьку и подошел к сестре.
— Костас, я позвоню в полицию, хорошо? — голос Агне был ласковым и безличным, как у медсестры. Она обратилась ко мне по-русски, и Редька слегка занервничал:
— Эй, я услышал слово «полиция», или мне показалось? Звони, милая, только подожди, пока я уйду. Я перед законом чист, и мне здесь делать нечего.
Он зачем-то обтер пистолет кухонным полотенцем, положил его на стол, потом вынул из кармана тавромахию в пластиковом пакете для улик, положил рядом и направился к выходу. Глядя ему в спину, я подумал, что все это время хотел спросить, куда он подевал свое bilboquet.
— Да, чуть не забыл. Там Хардиссон велел денег тебе передать, — сказал охранник, обернувшись от двери. — Так я, пожалуй, оставлю их себе. И будем считать, что я здесь ничего не видел. Зачем тебе, милый, деньги в настоящей тюрьме?
Я кивнул, и дверь за ним тут же захлопнулась.
Некоторое время мы с сестрой стояли друг против друга в тягостном молчании. Я пытался подобрать слова, чтобы объяснить ей, что произошло в доме за последние несколько часов. О чем думала Агне, я не знаю, но она заговорила первой.
— Я слышала ваш разговор, — сказала она, — это ведь твой школьный друг, верно? Ужасный человек, я слышала все, что он тебе говорил. Продержать тебя в камере два с лишним месяца, чтобы заработать паршивых тридцать тысяч!
— Ты уже пересчитала деньги?
— Даже не знаю, как можно наказать за такое, это отвратительно, — продолжала она торопливо, не обращая внимания на мой вопрос. — Но ты не должен был его убивать, Косточка. Убивать людей нельзя. Можно избить, даже изувечить, но...
— Я его не трогал! — воскликнул я и тут же понял, что она меня не слышит.
— Когда я буду давать показания, — сказала сестра, поднимая на меня посветлевшие глаза, — я сделаю все, чтобы тебе дали как можно меньший срок. И когда ты вернешься, мы с сыном будем ждать тебя здесь, в нашем доме.
Моя сестра всегда хорошо владела тем, что в музыке называют portamenti — скользящие переходы от одного тона к другому. У меня даже волосы на голове зашевелились.
— Агне, да очнись же ты, — я старался говорить спокойно, хотя больше всего мне хотелось встряхнуть ее как следует. — Он поскользнулся на осколках и упал в погреб, а там стояла урна с твоей матерью... Тьфу, блядь, что я говорю?
Я прервался, чтобы посмотреть ей в лицо, но передо мной маячила все та же полная луна с двумя безмятежными темными кратерами. Руки Агне сложила в мусульманском жесте омовения, и я понял, что дело плохо.
— Короче, там стоял маяк твоего отчима, в котором я хранил урну с пеплом, спрятал ее от служанки, понимаешь? Если бы он не подвернулся Лютасу под голову, он, может быть, остался бы в живых. Медная крыша воткнулась ему в глаз. Да ты меня не слушаешь!
— Бедный, бедный Косточка, — она смотрела на меня с жалостью, — ты заговариваешься от ужаса. Тебя теперь мучают раскаяние и страх, и ты должен собраться и подготовиться к худшему. Но я помогу тебе. Я не скажу полиции, что слышала шум борьбы, крики и угрозы, я скажу, что я спала и пришла сюда только, когда ты его уже убил.
— Кого я убил? — я схватил ее за плечи, голова со светлыми косичками вяло мотнулась.
— Его. Не бойся, я скажу им только половину правды, ведь я не желаю тебе зла.
— Агне, что ты несешь? Какая борьба, какие угрозы, да ты с ума сходишь! — тут я осекся, но было поздно, она вся пошла тревожными пятнами.
— Ты не посмеешь меня тронуть, ты меня любишь. Они тоже говорили, что я схожу с ума, они хотели избавиться от меня, говорили, что я пью, что я глотаю таблетки, они выставили меня из миссии, — слова сыпались из нее, будто чечевица, дробно и неразборчиво.
— Агне!
— Но если ты хочешь, я не стану звонить в полицию, какое мне дело до этого человека, мы даже не знакомы, давай просто закроем этот погреб и забьем крышку гвоздями.
— Агне, дорогая, — я приблизился к ней и хотел взять ее за руку, но сестра торопливо отступила и прижалась к подоконнику. По ее лицу потекли черные от сурьмы слезы, она выставила руки ладонями вперед, и я застыл в нерешительности.
В распахнутом окне за ее спиной ветер трепал занавеску, солнце садилось в тучи и розовые черепичные крыши понемногу наливались винным оттенком, в порту низко и тревожно гудел отходящий круизный пароход — судя по времени, это был «Александр Великий». Где-то во дворе заплакал младенец, раздраженный голос матери выговаривал что-то вроде tapar la boca, в колодезном ресторанчике Гомеса готовились к ужину и звенели тарелками, заставляя эхо метаться от стены к стене, из какого-то окна радио говорило о завтрашнем дожде. Переулок до Паго жил своей субботней жизнью, и я вдруг успокоился.
Агне ушла к себе, а я сел на пол и стал ждать. Ты будешь смеяться, но в какой-то момент мне показалось, что все обойдется и на этот раз. Что это невзаправду, еще одно пари, еще один божественный розыгрыш. Я даже поднялся и заглянул в погреб, где мой друг по-прежнему лежал в неудобной позе, глядя в потолок своим небесно-синим глазом. Но тут радио в соседском окне сказало, что в Лиссабоне восемь часов вечера, и тут же запело надтреснутым голосом:
Serranillo, serranillo, no me mates, gitanillo,
так что я сразу понял, что не обойдется.
Но восторг и ужас длились — краткое мгновенье.
Через миг в толпе смятенной не стоял никто.
Это было в тот год, когда на хутор напала каштановая чума.
Дед пытался с ней бороться, поливая стволы гашеной известью, но каштаны, служившие дому живой оградой с восточной стороны, начисто облетели еще в середине июля и теперь стояли голышом, поднимая к небу черные подсыхающие ветки. Дорога, ведущая к хутору, была усыпана раздавленными плодами, которые успели покрыться шипастой коркой, но ослабли, упали и лежали теперь на песке вперемешку с пожухшими листьями.
Меня привезли в Друскеники в начале августа, я вышел из автобуса и увидел голую каштановую аллею, ведущую к хутору, — по-зимнему прозрачную, будто едва намеченную углем и сепией. Я услышал хруст, опустил глаза и увидел каштан, треснувший под моей ногой, и выпавшее из него белое ядрышко. Мать взяла меня за руку и повела к воротам, но я вырывался, норовил сесть на землю и подбирал недозрелых каштановых уродцев, похожих на шмелиные личинки. За четыре дачных дня я их всех собрал и похоронил — за баней, в особом, густо заросшем крапивой месте, где под землей журчала вода, а если поднять дощатую крышку, то в лицо дул сырой и соленый подземный ветер.
— Не убивайся ты так, — сказал мне дед, — это всего лишь деревья. Осенью мы их спилим и посадим здесь липы, а то еще елки из лесу привезем, на Рождество повесишь на них фонарики.
Но я убивался. Я чувствовал себя обманутым: здешний мир, состоявший из деревьев, пчел, красной глины и воды, лишился одного из своих элементов, представлявшихся мне неуязвимыми, практически бессмертными. Дом двоюродного деда был совершенен, как и сам двоюродный дед, его маленькие ульи, похожие на скворечники, и желтый скворечник, похожий на собачью конуру. Мне было лет пять, не больше, но мир уже дал трещину, и я ходил возле нее с опаской, испытывая сразу два желания: сделать все как было и получить объяснение.
Вот и теперь, Хани, я сижу над своими мыслями, как над горкой недозрелых каштанов, пытаясь сложить из них узор толкования или буквы, дающие надежду, но куда там, без компьютера я бессилен, без него я — никто, имярек, прежний Костас, подгнивший от вечного дождя, с мягким белым ядрышком в сердцевине.
Все, о чем я думал и писал в течение двух с лишним месяцев, вся эта груда неотправленных писем к тебе, остались дома, в Альфаме. Я успел спуститься по пожарной лестнице и спрятать лаптоп в надежное место, завернув его в пакет из супермаркета и заклеив по краю липкой лентой. У меня было двадцать минут на то, чтобы сделать это аккуратно, оставшись незамеченным. Возвращаясь, я услышал прерывистую сирену на набережной и увидел белую полицейскую машину, свернувшую в наш переулок.
Это письмо я пишу на оберточной бумаге из-под тюремной передачи, я получил ее от любезного Тьягу, соврав что-то невнятное о любовном письме. Хотя — что это, если не любовное письмо? Разница лишь в том, что отправлять его пока некуда.
Я смотрю на свою лиссабонскую эпоху, как музейный часовщик, которому дали часы старого мастера, и он привычным движением их распахнул, а там, под крышкой, вместо зубчатых колесиков — гибкие розовые трубки, наполненные кровью, журчание соков, слизь и всякая белиберда, которая не умеет отсчитывать время. Этого не может быть, восклицает он и швыряет страшную игрушку прочь — в точности так же, как моя сестра отшвырнула своего сына, когда полицейские позвонили в дверь.
Нет, не так — она отшвырнула его с видом Герцогини, бросающей ребенка на руки ошалевшей Алисе. Сын моей сестры ударился о дверной косяк и развалился на куски. Хорошо, что голова с кудельными косами откатилась в дальний угол, и на нее не наступили, когда обыскивали кухню. До сих пор там лежит, наверное, закатив зеленые эмалевые глаза в потолок. Покрылись мздою очеса, как говорила тетка, когда что-то вызывало у нее омерзение — до сих пор не знаю, что это значит, но вполне подходит к мизансцене.
Когда я выбрался из погреба, куда пришлось спуститься еще раз, чтобы закрыть Лютасу правый глаз — монетой в два евро с королевской печатью, — то увидел Агне с телефонной трубкой в руках, вид у нее был торжественный и осторожный, будто у кормилицы, выпрастывающей грудь из корсажа. Минут через двадцать приехала полиция, сестра провела их на кухню и рассказала, что драку затеял гость, которого она не видела, хотя узнала его голос, когда приоткрыла дверь своей спальни. Ей показалось, что именно гость начал угрожать первым, после чего хозяин дома сеньор Кайрис схватился за пистолет. Но она не уверена.
Потом она сказала, что сеньор Кайрис имел все основания ненавидеть своего друга, потому что тот ограбил семейный тайник, заполненный золотыми вещами ее матери и бабки, а потом проиграл эти деньги в какой-то противозаконной игре, вроде подпольных ставок на лошадей, толком она не знает. К тому же, когда-то давно, еще в Литве, покойный увел у Кайриса девушку и женился на ней, от этого хозяин дома впал в такое отчаяние, что перестал интересоваться женщинами, и даже в ее, сеньорины Агне Брага, искренние чувства не в состоянии был поверить.
Сестра встретила полицейских умытая и причесанная, она водила их по дому, непринужденно болтая, показывая им то сейф за зеркалом, то пистолет на кухонном столе — пистолет не выстрелил, сказала она, и тогда мальчики стали драться чем попало. Потом она повела их на крышу, где некошеная трава стояла по колено, и показала вид на реку, которым полицейские — два смуглых, стриженных под бобрик деревенских парня — честно восхитились и даже выкурили там по сигарете в ожидании вызванной по рации подмоги.
Она молодец, моя сестра.
Когда приехавший криминалист закончил свои дела, и тело Лютаса стали доставать из погреба, его голова глухо стукнулась о ступеньку. Я стоял в коридоре, не решаясь войти, и, услышав этот стук, понял, что Лютаса подняли наверх и сейчас, наверное, положили на кухонный пол. Я точно знал, что осталось на дне подвала: несколько черных потеков на атласе ковра, а рядом — как будто гранатовые зернышки, немного, несколько штук. Даже думать неохота, что это такое.
И вот еще что, Хани, сегодня у меня кончится бумага, и продолжать письмо будет не на чем, да и незачем. Даже будь у меня компьютер, я не смог бы его покормить — в туалет здесь водят слишком редко (о, это настоящий тюремный туалет, похожий на античный римский сортир с дырами), и охранник не стал бы ждать, пока зарядится батарея (это настоящий охранник, кобура у него не пустая, а в глазах стоит темная вода тюремного терпения).
Даже раздобудь я еще бумаги, мой адвокат (это настоящий адвокат, никаких бутербродов и похлопываний по плечу) не взялся бы ничего тебе передавать, он явно испытывает ко мне отвращение. Еще бы, вся тюрьма знает, что я убил своего приятеля погребальной урной, заполненной пеплом моей двоюродной тетки. Меня перевезли в тюрьму города Сетубал, и это забавно — я всегда хотел добраться до Сетубала и увидеть людей, которые выбрали Пипиту самой красивой женщиной в девяносто четвертом году.
Деньги у меня понемногу кончаются, но еще есть около сотни, я успел взять несколько бумажек из сестриной комнаты, пока она вертелась в коридоре, поджидая полицейских. Я знал, что им понадобится минут десять, чтобы поставить машину, к тому же на Терейро до Паго можно подняться только пешком, по четырнадцати выщербленным ступеням. Удивительное дело, на свободе я вечно мучился отсутствием денег, вытряхивал мелочь из карманов пальто, шарил между диванными подушками, одалживал и воровал, а как только я попадаю в тюрьму, богиня по имени Лаверна подбрасывает мне замшевый мешочек со звонкой монетой, прямо хоть вовсе не выходи из заключения.
Жаль, что эти деньги у меня отберут при переводе в другую тюрьму, там законы построже, непременно заставят раздвинуть ноги, наклониться и все такое. Впрочем, Редька прав: что бы я там на них купил? Ведь меня теперь интересует только время и электричество, а там времени будет навалом, а электричество будет бесполезным. Оставлю деньги парням в камере, пусть закажут себе гигантскую пиццу.
Сколько мне дадут за настоящее убийство? Лет пятнадцать, не меньше. К тому времени, как я выйду, на европейских купюрах будет нарисован кто-то другой, никакой единой Европы уже не будет, а может, и самих купюр не будет. Люди придумают способ получше — скажем, обмениваться отражениями или хлопать друг друга по плечам на каталонский манер.
На второй день мне разрешили сделать один звонок, и я позвонил Лилиенталю, больше было некому. Трубку сняла какая-то старуха, сообщившая мне, что alemn здесь больше не живет, а квартира сдается, и если я заинтересован, то могу прийти к ней на днях и обговорить условия. Лилиенталь не оставил мне записки, ни нового адреса, старуха осмотрела там все, в квартире, я ее с трудом уговорил. Слышно было, как она ходит по его студии, шаркая ногами, пока я стоял у телефона в тюремном коридоре, и переминался с ноги на ногу под взглядом охранника — меня увезли в домашних шлепанцах, а полы здесь просто ледяные. Вероятно, мой друг окончательно уехал на острова, кто-то же должен уехать на острова, в конце-то концов. То, что Ли не оставил мне нового адреса, на него очень похоже: он принадлежит к тем людям, которые вычеркивают тебя из памяти за малейший проступок, им и в голову не придет выяснять отношения или искать виноватых. Чик — и все.
Единственный, кто навестил меня в этой тюрьме, был длинный и печальный пан Грабарчик. Я чуть со стула не упал, когда он вошел в комнату для свиданий (это другая комната для свиданий, в ней есть стеклянная стена и телефон для переговоров), за день до этого мне передали теплое одеяло, и я всю ночь думал, что это сделала сестра, правда, утром сокамерники его отобрали и поделили на две приличные подушки (здесь нас трое, так что особенно не заскучаешь).
Грабарчик мрачно смотрел на меня через стекло, пальцы, сжимавшие телефонную трубку, побелели, и я подумал, что он, пожалуй, и впрямь за меня переживает. Такое же лицо у него было, когда в день теткиных похорон ему пришлось снести ее тело вниз на руках, потому что носилки похоронной фирмы не протиснулись в лестничный пролет. Он нес ее с таким удивленным видом, как будто только теперь, взяв ее на руки, осознал, что это уже не Зоя, а предположительная горстка пепла, дыхание Анубиса, ничто.
— Какого черта ты здесь делаешь? — спросил он сурово.
— Я здесь сижу в тюрьме, — сказал я, — спасибо вам за одеяло.
— Я пытался говорить с твоим адвокатом, но это общественный защитник, или что-то вроде того, и он, сдается мне, даже дела толком не читал. Я приехал два дня назад и сразу узнал новости, об этом даже в газетах пишут.
— Это вы прислали одеяло?
— Ты что, и вправду его убил? — он придвинул свое хрящеватое лицо к стеклу так близко, что я увидел его глаза, черные и сплошные, будто смолой залитые.
— Нет, но я причастен к его смерти. Как, впрочем, и моя сестра.
— Твоя сестра окончательно тронулась умом, — он постучал пальцем по стеклу, — не понимаю, как они могут принимать ее всерьез. Я не располагаю большими средствами, но способен нанять для тебя хорошего сыщика и попробовать выяснить, что там на самом деле произошло. У них есть ее слово против твоего, а результаты экспертизы весьма сомнительны.
— Это бесполезно, — сказал я, — на самом деле нет никакого самого дела.
— Да брось, — он поморщился. — Тоже мне, новоявленный суфий с бритой головой. Не будь ты племянником Зои Брага, я бы и полстолька времени на тебя не стал тратить. Она была хорошей женщиной, и думаю, попросила бы меня вмешаться, будь она жива.
— Но она мертва, — тупо сказал я, — и вообще, все умерли, все, кто меня интересовал. А волосы у меня отрастут.
Слава Богу, что на вранье-то пошлин нет.
Ведь куда какое всем нам было б разорение!
Во сне я видел Лютаса, но не лежащим на полу погреба, а сидящим за рулем: мы ехали куда-то в машине, полной людей, и мой друг решал, куда мы поедем, а все остальные молчали, даже когда он останавливался, шипел что-то, разворачивался и ехал обратно. Мы всю ночь катались по городу, останавливаясь возле каждой бабки с красными гвоздиками и покупая всю охапку целиком. Машина была завалена цветами, а по радио всю дорогу играли «Grndola, vila morena», потом люди стали выходить, и под утро мы с Лютасом остались одни, покрутились еще немного и выехали на мост Васко да Гамы.
— Ты ведь возьмешь мадьяра в игру, когда будет следующий тотализатор? — спросил я его. — Из него выйдет отличная лысая лошадка — ему тоже есть чего бояться, к тому же он не намного умнее меня. Обещаю ничего ему не рассказывать.
— Вылезай, — сказал Лютас, обернувшись. И тут я увидел, что один глаз у него вытек, а в глазницу вставлена красная гвоздика, будто в стакан.
Наверное, я закричал во сне, потому что сосед по камере разбудил меня пинком — спасибо, что не по ребрам, а по краю койки. Здесь, в Вал-де-Жудеуш, отирается много священников, поэтому народ не зверствует, боятся лишиться задушевных бесед с вином и свежим хлебом. Ко мне тоже подходил один падре, звал заходить в тюремную часовню, но я отговорился тем, что православный, хотя это и вранье. Я вообще не знаю, кто я. Особенно в последние дни.
Я читал — а где я это читал? — старинную историю о столяре Грассо, которого друзья разыграли, заставив поверить в то, что он больше не Грассо, да так ловко, что он чуть умом не тронулся, бедняга. Придумал эту шутку его друг Брунеллески, знавший его довольно хорошо. У него не было сомнений, что наивный столяр поверит, что превратился в другого человека, если все в одночасье станут называть его Маттео. Мало того что один из шутников заперся у Грассо в доме и оттуда отвечал, что столяр у себя дома и дверь не откроет, так еще и пристав поймал его, растерянного, на улице и отвел в тюрьму за долги, сделанные Маттео, а оттуда писец, участвовавший в розыгрыше, отправил его в каземат, где тот сидел тихо и не рыпался. Мой школьный друг тоже был уверен, что какое-то время — довольно долго! — я буду сидеть тихо, низко склонив голову, особенно, если вначале хорошо припугнуть. Это еще от актеров зависит, но с актерами им не слишком повезло. Херовый кастинг.
То ли из-за кошмаров, которые я вижу каждую ночь, то ли из-за астмы, но что-то определенно случилось с моей головой, в ней темно, словно в маяке с выкрученной лампочкой. По утрам я просыпаюсь, сажусь на койке и пытаюсь сосредоточиться, глядя в единственное окошко, где синеет рваный лоскут лиссабонского неба. Окошко маленькое, в две ладони, зато его можно открыть и подышать, если эти двое не возражают, они почему-то не любят сквозняков. Тавромаию я держу при себе, по примеру того капитана из «Pulp Fiction», только он хранил золотые часы в капитанском анусе, а я завернул свое сокровище в носовой платок и пристегнул булавкой к резинке трусов. Собственно, это все, что у меня осталось своего.
По утрам мне приходится засовывать в уши клочки серой ваты, выдранные из матраса, потому что мои соседи с самого утра режутся в трик-трак или рассказывают друг другу о женщинах, amantes, которые тоскуют по ним на воле. Один из них, Тьягу, пожалуй, даже не врет — ему то и дело носят передачи, в предварительной тюрьме это разрешено. Хамон, пармезан и персики.
Похоже, что по нему тоскует немало amantes, хотя посадили Тьягу за убийство любовницы, что ж, значит, их еще довольно осталось в живых. Наслушавшись сладострастных разговоров, я взялся было пересчитывать своих любовниц, но сбился и бросил. Я спал, наверное, с тремя десятками женщин, но кого из них я стал бы убивать из ревности? Никого не стал бы, а значит, они не в счет.
Удивительное дело, сам я совершенно ни по кому не тоскую, я даже не злюсь на сестру, гуляющую теперь по дому с новым пупсом вместо разбитого, хотя нет, зачем он ей теперь, когда некого больше мучить?
Самым странным остается то, что я совершенно не способен обвинить Лютаса в устройстве того, что в детективных сюжетах называется западня, или, как сказали бы мои соседи, подстава. Особенно теперь, когда ясно, что он не был знаком ни с Ласло, ни с метисом-кабокло, ни с прекраснозадой стюардессой португальских авиалиний. Я знаю, что эти люди играют в своей собственной пьесе, а Лютас просто вошел в мои тогдашние обстоятельства удачно и сочно, будто нож в апельсиновую мякоть. Мой друг сделал меня персонажем французского романа, железной маской, страдальцем наподобие бедного аббата, выцарапывающего дырку в стене — это казалось ему справедливым, ведь я был ему должен. Он продал меня в историю, но не приковывал цепями за голени и не запирал на замок, я сам согласился сидеть за этой дверью!
Что касается севильской куницы, то она упала на меня с моих собственных небес, или, как сказал бы Лилиенталь, из моей прохудившейся кармы. Разве я мог не увлечься женщиной, которая бежит загорать на крышу, стоит январскому солнцу показаться на полчаса, сбрасывает платье и лежит там в траве на виду у всего города. Однажды старая соседка, чьи окна выходят на мою крышу, принялась честить Додо за то, что та расхаживает в белье, а не в купальнике, как положено. Моя испанка спустилась в кабинет, взяла у Фабиу на столе синий фломастер, нарисовала себе на белом лифчике россыпь васильков, на трусах крупно написала «banador 2011», вернулась на крышу и завалилась в траву.
И это еще не все: в ней была медлительная, лакомая щедрость на грани блядства, меня это страшно заводит. Может быть потому, что сто тысяч лет назад я лишился невинности с такой же сонной блондинкой, ровно за минуту, даже вспоминать смешно. Хочешь, расскажу тебе?
Итак, я зашел в свою комнату в тот день, когда должен был уехать из Тарту навсегда. Когда я шел по Пяльсони, думая о том, где взять сумку, чтобы засунуть в нее все книги, которые не удастся всучить букинисту, я с трудом волочил ноги. Тело стало непослушным, каждый шаг давался мне с трудом, так, наверное, идут по джунглям, раздвигая набрякшие тропическим дождем лианы. Две ночи, проведенные с этой женщиной в отеле, сделали из меня ярмарочного уродца с деревянным фаллосом, на который можно вешать ключи. Лежа рядом с теткой на грубых эстонских простынях, я понял, что мое тело живет своей жизнью, совершенно не вникая в мои соображения и обстоятельства. Я понятия не имел, что страсть — не называть же это похотью? — может быть настолько мрачной и болезненной и так сильно похожа на ярость.
В комнате было темно, я поднял бамбуковые жалюзи, доставшиеся нам с Мяртом от прежнего жильца-вьетнамца, и увидел на своей кровати спящую девушку, свесившую голову так низко, что прямые белые волосы мели наш не слишком-то чистый пол. Сам Мярт куда-то делся, и я подумал с привычной дружеской завистью, что эти двое провели здесь ночь, и он отправился искать денег, чтобы покормить подружку завтраком в кафе «Рамбутан». Китаист считал это своим утренним долгом, он всегда говорил, что отправить девушку домой, не угостив ее чашкой кофе с пирожным, это верх неучтивости и вообще сиволапость.
Я поправил одеяло, свалившееся с голой длинной спины, спящая проснулась и оказалась Пией, улыбнувшейся мне хмуро, но с оттенком смущения. От ее кожи пахло табаком и еще чем-то похожим на прокисший творог. Она перевернулась на спину, кивнула, закрыла глаза и едва заметно подвинулась на узкой кровати. Мой ярмарочный уродец наполнился протяжной горячей болью, я даже слова произнести не мог, так крепко помутилось у меня в голове, через мгновение я сидел на ней верхом, обхватив ее ногами, все еще обутыми в ботинки китаиста. Да что ботинки, я вообще ничего с себя снять не успел, а разделявшее нас одеяло Пия отбросила сама.
Ты, наверное, смеешься теперь или просто качаешь головой, но поверь, я даже не помню тех нескольких мгновений, что провел в теле полузнакомой, неприятно пахнущей женщины, я помню только, что закрыл глаза и пытался представить себе тетку, но не успел. Я помню, что двигался взад и вперед, будто обезумевший Сабальос верхом на быке, но спроси меня, что я чувствовал, и я не смогу ответить. Я и теперь ничего не чувствую.
Вероятно, судьба поступает со мной таким же образом, только теперь я оказался в роли застигнутой врасплох эстонки — лежу на спине, больно вжимаясь в ржавые пружины, и смотрю в пылающее мокрое лицо своего ближайшего будущего. Адвокат говорит, что срок будет длинным, потому что здесь не любят иностранцев, убивающих других иностранцев на португальской земле, да и где их любят? Тебя вышлют в Литву, говорит он, я слышал — там отменили смертную казнь лет десять тому назад? Тогда тебе повезло. Он говорит это равнодушно, но я читаю в его глазах: а при маркизе Помбале мы бы тебя повесили, дружок, непременно повесили бы.
И словно вор — я не люблю огней,
Крадусь во тьме то ощупью, то бегом.
Габия пришла ко мне в тюрьму.
На этот раз она была настоящей Габией, а не фантомом, который мерещился мне за зеркалом в кабинете Пруэнсы. Она сидела очень прямо, лицом к окну, и барабанила по столу пальцами. Теми же восковыми, аккуратно вылепленными пальцами, которые я любил засовывать себе в рот. Я смотрел ей в спину, стоя в дверях комнаты для свиданий, перегороженной стеклянной стеной, но входить не входил. В тот день там было так много народу, целое цыганское семейство, бряцающее серьгами, оглушающее то смехом, то птичьими скорбными вскриками. Перед Габией лежал сверток в пергаменте, я подумал, что с нее станется принести мне горячих булок или кусок хамона. А здорово было бы.
Тело моего мужа привезут в Вильнюс, скажет она, я купила место на Бернардинском кладбище, если вернешься домой, сможешь его навестить. Это несчастный случай, скажет она, ты здесь надолго не задержишься. Поешь хамона вот.
Ты убийца, скажет она, я всегда знала, что ты его ненавидишь.
Чтоб ты сдох, скажет она.
Постояв там несколько минут, я повернулся к охраннику и попросил отвести меня обратно в камеру. Я не знал, о чем с ней говорить. В этой тюрьме меня не водили на опознание, вероятно, нашлось кому опознавать, так что я не видел мертвого Лютаса при дневном свете. Я помнил то, к чему прикоснулся рукой в темноте: неожиданно острый подбородок и ледяное адамово яблоко. Но я был уверен, что на этот раз он мертв. И не хотел говорить об этом с Габией.
В сущности, эта женщина — такая же шлюха, как и лирнесская царевна, отданная Ахиллу в качестве военной добычи. Доставшись потом микенскому царю, она с той же страстью мыла ему пыльные ноги, а вернувшись к Ахиллу после поражения греков, стала его верной рабыней, как ни в чем не бывало. Только вот война между нами с Лютасом была такой потаенной, что я ее даже не сразу заметил. Когда мы встретились с ним в Лиссабоне, я упомянул кукольницу только однажды, мельком, и сразу наткнулся на его улыбку, такую же студеную и чистую, как осколки льда в моем недавнем сне. К тому времени я напрочь забыл чулан на улице Пилес и даже не чувствовал себя виноватым. А вот он не забыл.
Он считал себя вправе наказывать меня, он придумал сценарий, острый и двойной, как минойский топорик, он мог вычислить все ходы, страхи и переживания, легко, как аккадский бог, мог предвидеть злодеяния, еще только задуманные.
Поднявшись на второй этаж, я вдруг остановился, расстегнул штаны на глазах у оторопевшего охранника, запустил руку в трусы и достал тавромахию, завернутую в носовой платок. Платок я оставил себе, а вещь попросил передать сеньоре с рыжими волосами, ожидающей свидания. Записку писать было не на чем, да и не слишком хотелось. Конвойный посмотрел на меня, как на психа, и даже от десятки отказался, хотя это обычная такса за мелкую услугу.