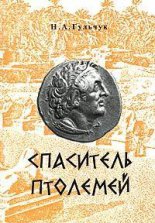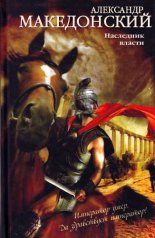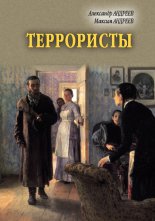Другие барабаны Элтанг Лена

Потом я снова заснул и увидел дубовый буфет в Друскениках, в доме двоюродного деда. За этим буфетом стояла моя кровать, я считал его своим и знал все содержимое наизусть: катушки суровых ниток, две балерины из мыльного камня, подставки для яиц и плоские рулоны яблоневых бинтов. Во сне я был подставкой для яиц. Во мне стояло яйцо тупым концом вверх. Оно было теплое, только что вынутое из-под куриной гузки, и я страстно ждал едока.
На соседней полке буфета лежал свежий хлеб с отпечатками дубовых листьев на корке, а рядом — помидоры и досуха отжатый сыр в марлевой косынке. Мы все готовы, думал я, осталось только дождаться едока. Я даже знал, что он делает там, во дворе: вставляет зубья в грабли или чинит сачок, порванный крупной щукой, я знал, как его зовут, но во сне не смог выговорить имя. Проснувшись, я сел на своей скамье, спустил ноги на холодный пол и понял, что счастлив.
Записывать сны приятно, Хани. Это успокаивает. Другое дело, записывать все остальное.
Скажем, записывать воспоминания — это как плыть против течения в потоке, полном ледяных осколков. Писать о прошлом противоестественно, каждый божий день, минута, мысль, чуть совершившись, должны проваливаться, как медная наковальня в тартар, и лететь туда девять дней без передышки, пока не стукнутся о тройной слой мрака.
Ты спросишь, какого же черта я только и делаю, что пишу о прошлом, и я отвечу: потому что я лечу обратно! Я так долго жил в этом самом тартаре, перепутав его с поверхностью земли, что понадобилось отрубить мне колено ледяным лезвием, чтобы я понял, куда меня занесло.
Ni marmol, ni musica, ni pintura, sino palabra en el tempo.
Итак, Ласло потребовал дом.
В кафе он не пришел, так что я не увидел его лица, зато увидел лицо человека, которого он прислал, — плоское, темное, как сигарный лист, лицо метиса, выходца из бывших колоний. В руках у человека был конторского вида листок, где я должен был поставить свою подпись, и простая шариковая ручка. Значит, их трое в команде, не считая стюардессы, подумал я, садясь напротив него за столик, отделанный в виде шахматной доски.
Я окинул посланника взглядом, пытаясь увидеть хоть что-то, напоминающее чистильщика, но тот показался мне коренастым, будто араукария, а метис был довольно высоким — таких здесь называют matulo, крупный человек, махина. Мы заказали воду с мятой и лимоном, хотя день был прохладным, и я бы лучше выпил коньяку, но человек Ласло явно не хотел отвлекаться от дела.
— Тебя подставили, ниньо, — сказал посланник. — Собственно, Ласло и сам подставился, девица позвонила ему в такой панике, что он толком слов не разобрал, но принял меры, хотя было ясно, что дело неприятное. Девица очень глупая, она влезла в дела большого политика, а чистильщик, которого Ласло отправил к тебе домой, оказался шустрым и решил воспользоваться случаем.
— Ты хочешь сказать, что чистильщик не из вашей команды?
— Ферро? Нет, он работает по найму, — метис молитвенно сложил ладони и завел глаза к потолку. — Божественная работа, я и сам хотел бы такую. Это совсем другие деньги, ниньо!
Глядя ему в лицо, я подумал, что метис похож на набоковскую свинку Чипи: те же блестящие бисерные глаза, гладкое темя и какая-то забавная вкрадчивость во всей фигуре, заметно расширяющейся книзу. Посланник поймал мой взгляд и, решив, что я думаю о его происхождении, сказал, что родился в семье португальца и гуарани, я тут же произнес слово кабокло, просто пришло на ум, но он вдруг разозлился, замахал руками, даже со стула привстал.
— Не зови меня ниньо, а я не буду звать тебя кабокло. Так что там с Ферро?
— Он сдаст тебя копам, если вы не придете к согласию. Надо платить, ниньо, сеньор, приходится платить, — он поцокал языком, звук был убедительный, будто подковой по камню постучали.
— Я и сам могу позонить копам, — сказал я. — У меня есть запись, на которой видно, что Хенриетту убиваю не я. Стоит эксперту посмотреть это кино, как станет ясно, что там человек другого роста, сложения и цвета кожи, другой человек, понимаешь?
— Звони, — весело сказал посланник. — В два счета уедешь домой, как подозрительный иммигрант, замешанный в деле об убийстве, это мы тебе устроим. Запись у него. Что толку от твоей записи, никакого толку нет от твоей записи. И от твоего дома толку нет, он заложен уже двум банкам и скоро пойдет с молотка. Подписывай, ниньо, и у тебя будут кое-какие деньги и квартирка попроще, где-нибудь в Помбалине.
— Терпеть не могу Помбалину, — сказал я, и он сочувственно покачал головой. — Если уж на то пошло, твой Ласло такой же подозрительный иммигрант, как и я. И у тебя, друг-кабокло, произношение хромает. Да вы просто парочка шантажистов, вернее, троечка. С какой стати я должен отдавать вам дом, как убийца какой-нибудь, когда я эту датчанку и пальцем не трогал.
— Трогал не трогал. Ты попал в неприятности, за это всегда платят деньги, а денег у тебя нет.
— У меня такое чувство, брат, что это вы с Ласло попали в неприятности, а я должен за это расквитаться. Я ведь не нанимал этого Ферро, или как его там, вот пусть он вас и мучает.
— Ты должен не расквитаться, а купить товар, это разные вещи.
— Какой еще товар?
— А вот этот, — он выложил на стол дядин пистолет. Оружие было завернуто в тряпку, но так отчетливо чиркнуло по столу, что я невольно оглянулся. — Товар вот такой, ниньо, на монограмме имя твоей семьи, а на стволе твои отпечатки. Две пули из этой игрушки до сих пор сидят в трупе.
Я протянул руку к пистолету, но смуглая рука оказалась быстрой, будто пружинистый язык хамелеона. Оружие сеньора Браги исчезло в одном из карманов камуфляжной куртки.
— Ты любишь этот дом, мне говорили, — посланник поднял палец с ярко-розовым ногтем и поводил им перед моим носом, — но я ничем не могу тебе помочь. Ты согласился участвовать в сделке, чтобы заработать денег, верно? А сделка провалилась, так что деньги причитаются с тебя. В следующий раз выбирай друзей понадежнее.
— Ты имеешь в виду Додо? — я вдруг подумал, что не видел ее с того дня, как получил ключи от коттеджа в Капарике, может, ее и в живых уже нет.
— Я сказал друзей, а не баб, — он двинул свой листок по столу с таким суровым лицом, как будто менял местами ладью и короля. — Ниньо, сеньор?
Это был эндшпиль, Хани. Я допил второй стакан мятной воды, взял ручку и подписал.
Сказать по чести, я мог подписать хоть сотню таких бумажек, сложить из них журавликов и кидаться в посетителей, все это ничего не значило. По правилам теткиного завещания я не мог ни продать, ни подарить дом на Терейро до Паго, я не мог его сдать или обменять, я даже не мог проиграть его в карты или шахматы.
Не далее как завтра они об этом узнают и явятся ко мне снова, думал я, зато теперь я сверну себе козью ножку, отправлюсь домой и лягу спать. Ласло придет в бешенство, когда сунется с моей дарственной к чиновнику в мэрии, но мне до этого нет никакого дела. Я все делаю по правилам, только не по правилам жадного паннонца, а по канонам индийского театра. Царь Душьянта въезжает на сцену на несуществующей колеснице, Шакунтала рвет несуществующие цветы, а я подарил рассказчику-судратхару несуществующий дом. В прологе на сцену выйдет хозяин труппы в полицейской форме, произнесет молитву высоким слогом и поволокет шута-видушаку в тюрьму. Но это потом. А пока можно вернуться домой, накрыться с головой одеялом и немного поспать.
Я любил этот дом, как любят женщину, Хани, с самой первой минуты. Я хотел его иметь, овладевать им, давать ему кусать меня, наваливаться на него всем телом и таскать за волосы. Я и теперь его люблю, хотя знаю, что потерял. Единственное, что я мог с ним сделать, это потерять. Разве это не доказывает, что мой дом был женщиной?
Когда я первый раз проснулся его владельцем, в январе две тысячи третьего, в комнате было темно, солнце пробивалось песочной струйкой через щель между шторами, я снова закрыл глаза и подумал, что сегодня же сниму эта тряпки с окон, в них же набивается вся городская дрянь, будто ряска в рыбацкую сеть. Что-то не так с этим домом, думал я, не открывая глаз, я давно не спал так мало и тревожно, как в этой кровати.
Я умею ночевать в странных местах, мне приходилось спать на трехэтажных нарах в убежище христианской молодежи, на чужой клумбе с ирисами в Сен-Тропе и в заснеженных пярнуских дюнах, без палатки и даже без пальто. Но спать в доме, под завязку набитом духами, это, скажу я вам, совсем другое дело. Рассохшиеся двери скрипели и хлопали, как будто по коридорам бегал кто-то насмерть перепуганный, к тому же ночью пошел град, и в окно стали биться ледяные горошины, так что терраса к утру покрылась толстым настом, я вышел покурить и с недосыпу чуть не слетел вниз, в объятия увядшей джакаранды.
Глядя вниз, в переулок, где под снегом поблекли все цвета, кроме цвета кирпичной пыли, так что он стал похож на рисунок сангиной, я стал вспоминать сон, который увидел под утро. В этом сне я сидел в заснеженном саду, похожем на тот, что мать безнадежно пытается выходить в своих Друскениках. Сад достался ей вместе с домом, за него даже денег не просили, такой он был заброшенный: старые яблони в лишайнике, смородина в ржавчине, крыжовник в мучнистой росе. Казалось, сад провинился в чем-то перед матерью деревьев, и на него наслали все возможные болезни, даже черный рак. Я сидел на скамейке, сделанной из двух оструганных досок, и смотрел телевизор, стоявший на пне. В телевизоре тоже шел снег, черно-белый, частый, мерцающий, во сне это казалось мне вполне естественным, я ужасно мерз, но не мог оторваться от экрана.
Выпив холодного кофе, я отправился искать аспирин, выдвинул один за другим ящики комода в теткиной спальне, раздвинул шторы, распахнул шкафы, закашлялся, вдохнув серой мягкой пыли, и почувствовал себя киношным жандармом, перетрясающим жилище курсистки в поисках гектографа и прокламаций. Аспирина я не нашел, зато нашел свою старую рукопись. На первой странице был только эпиграф:
«...Вы помните, публика почти то же, что застенчивая кошка, которая до тех пор, пока ее, взявши за уши, не натолчешь мордою в соус и покамест этот соус не вымазал ей носа и губ, она до тех пор не станет есть соуса, каких ни читай ей наставлений».
Поди теперь разбери, где я это вычитал, подписи под цитатой не было, названия у текста тоже не было, значит, это первая часть, которую я вручил тетке на автобусной остановке в Тарту. Эпиграфы — до сих пор моя слабость, жаль, что романист из меня не получился. Даже то, что я пишу сейчас, наполняя чертову ручку своей загустевшей от бетонного холода кровью, это не повесть временных лет и даже не плутовской роман.
Это признание, вот что это, Хани. Только не путай его с покаянием.
Я знаю, что страх и вина — неизменные постояльцы Терейро до Паго — уже проникли сюда, в мою камеру с заложенным кирпичами оконным просветом. Не знаю, что было в этом здании прежде — казарма? контора табачного торговца? — но совершенно ясно, что архитектор и думать не думал о тюрьме. Окно-люкарна было прорезано в западной части крыши, и тот, кто жил в этой комнате, мог любоваться закатом, рекой и, может быть, даже брызгами Fonte Luminosa. Теперь окно заложили, и в камере осталось только квадратное отверстие, света хватает, чтобы стучать по клавишам, но маловато, чтобы выгнать из камеры призраков. Страх и вина, они здесь, со мной, — но спроси, чего я боюсь и о чем сожалею, и я, скорее всего, не подберу нужных слов.
Человек думает: я сделал так, потом сделал иначе, и поэтому я теперь здесь или там, поэтому со мной случилось это, а не то. Человеку кажется, что события, произошедшие по его воле, потянули за собой другие события, которые он изменить не властен, то есть — он с грехом пополам написал первый акт, а второй ему прислали из небесной канцелярии, и его придется доигрывать в других сукнах, под другие барабаны.
Вселенную можно рассматривать как последствие большого взрыва, то есть наше время и наша причинность берут свое начало в какой-то день и час, полный космической темноты и сполохов. А можно думать иначе: на самом деле нет ни причины, ни следствия, нет связей, соединяющих события, есть только хаотическое движение листьев, лиц, сухих кленовых семян, радиоволн, птичьих перьев, ракушек и стекляшек в детском калейдоскопе. На самом деле нет никакого самого дела. Есть жажда мифа, есть стремление жить ради божественного заблуждения, есть осязание — haphe, — без которого по Аристотелю всякое животное умирает, но если честно, то я не удивлюсь, если нет ни осязания, ни стремления, ни Аристотеля.
Мне цель была от века незнакома,
Из двух путей годится мне любой.
— Мы поедем в морг, — сказал следователь Пруэнса. Когда меня завели в его кабинет, он стоял там веселый, свежий, в длинном песочного цвета плаще, и я понял, что наступила весна. То есть я, разумеется, знал об этом, у меня не пропало чувство времени, но в камере смена сезонов представляется чем-то апокрифическим, ненастоящим — будто хриплые вопли болельщиков на стадионе по соседству, если ты равнодушен к футболу.
— Сначала мы поедем к вам на квартиру, чтобы провести следственный эксперимент, о котором вы мечтаете. А потом нам придется поехать в necrotrio, на другой конец города, — сказал Пруэнса. — У нашего департамента нет своего холодильника для трупов, к сожалению. А то бы я водил вас туда каждый день и тыкал бы носом в обледенелое лицо вашей жертвы.
— Почему мы в прошлый раз туда не поехали? Почему вы целую неделю не вызывали меня на допрос? — я заговорил сердито, стараясь скрыть свою радость. От одной мысли, что я вдохну лиссабонскую смесь молодой листвы, креозота и жженого сахара, у меня голова пошла кругом. Если бы он это заметил, то непременно надел бы мне на голову бумажный мешок. Не знаю, почему Пруэнса так меня ненавидит, — может быть, я кажусь ему пресыщенным пижоном? А может, я и есть пресыщенный пижон.
— В прошлый раз? Обнаружились кое-какие обстоятельства, Кайрис, вот почему. Я отложил поездку в город до их полного выяснения. Мне пришлось отлучиться в Эшторил, полагаю, вы знаете зачем.
— Понятия не имею.
— Ну, да, разумеется. Кстати, ваша служанка была так любезна, что ответила на вопросы моего коллеги. — Пруэнса полез в портфель и вытащил свою картонную папку. — Могу зачитать вам несколько строк, это не возбраняется.
«Б.: Настоящим заявляю, что мой хозяин, сеньор Кайрис, уехал к морю в субботу, после полудня, а я осталась у себя в квартире, сеньор меня предупредил, что у гостей будут ключи и помогать им не надо. В девять часов в дом пришли люди, не знаю, сколько их было, они включили музыку, пили шампанское, потом стало тихо, и я решила, что они легли спать.
С.: Вы поднимались в дом после полуночи?
Б.: Я просто хотела взять выпивку. В такие дождливые ночи я плохо сплю. Стоя на своем крыльце, я увидела во дворе незнакомую машину, мужчина в балахоне запихивал какие-то тряпки в багажник, потом сел за руль, и они уехали, а я пошла в дом, чтобы налить себе стаканчик.
С.: Они?
Б.: Да, в машине был кто-то еще, я видела огонек сигареты за окном. На кухне я встретила хозяина и очень удивилась. Он ведь сказал, что вернется только вечером в воскресенье! Сеньор Кайрис был в непристойном виде и торопливо мыл руки под краном, я еще подумала, что он напился, потому что сеньор был со мною груб. Впрочем, это и понятно. Он ведь велел мне не появляться в доме до утра понедельника.
С.: Вы разглядели лицо водителя машины?
Б.: Какое там, во дворе только один фонарь, да и тот высоко, а мужчина был такой нелепый, как будто сбежал с карнавала в Сезимбре. Я, помнится, подумала, что этот дом еще почище того, где я работала раньше. Люди приходят и уходят среди ночи, какие-то иностранцы, то голые, то одетые Бог знает во что — все это никуда не годится, инспектор. Ничего удивительного, что хозяин дома сидит в тюрьме».
Следователь читал протокол таким сонным голосом, что я расслабился и прислонился головой к стене. От Байшиных слов явственно пахло едкой пенящейся жидкостью, которой чистильщик протирал полы. Античные врачи считали, что чувственность содержится в печени, а не в сердце, а я вот думаю, что память — она вся, целиком, в носу.
— Это не все, — сказал Пруэнса, глядя на меня с любопытством. — Запись сделана два дня назад, в конце разговора сеньора попросила передать, что больше у вас не работает. Это было ее формальное предупреждение.
— Какая чушь, Байше просто некуда идти. Куда она денется со своими подушками?
— Это личное дело сеньоры, я полагаю. Итак, свидетель утверждает, что вы были дома в тот вечер, который, как вы ранее утверждали, провели за городом. При этом у вас в гостях были подозрительные люди, и вы пили с ними шампанское. Теперь я готов выслушать вашу версию. А потом мы поедем к покойнику, чтобы вы могли поцеловать его в лоб.
— Моя версия вам известна. Я видел этого человека только на экране компьютера.
— Не заводите свою пластинку, Кайрис. Я покажу вам тело убитого. Вы его опознаете и подпишете протокол, — он шел впереди меня по широкой лестнице, заставленной старыми кроватными рамами, некоторые были с панцирной сеткой, на таких кроватях мы в школьном лагере прыгали до изнеможения. Этой лестницы я раньше не видел. На допросы меня приводили с другой стороны, сначала вниз, по узким ступенькам, потом — по зеленому, ярко освещенному коридору.
Мне покажут убитую голой? В покрытом изморозью платье сеньоры Брага? В мусорном пакете до самой шеи? Спина Пруэнсы, обтянутая новым плащом, качалась у меня перед глазами, я подумал, что могу броситься на него, свалить его на пол и колотить головой о кроватную раму, пока он не перестанет дышать. Два пролета я тешил себя этой мыслью, а потом перестал.
— И вот еще, Кайрис, — он внезапно остановился и уставился на меня с самой нижней ступеньки, — тот, кто так озабочен вашим делом, напрасно старается. Похоже, у ваших друзей денег куры не клюют, раз они наняли адвоката. Он уже являлся сюда и пытался сунуть свой клюв в мои дела.
— У моих друзей?
— Ну, не у врагов же, — усмехнулся он. — Говорят, парень берет полторы сотни в час, прямо как искусная девочка по вызову. Хотел бы я знать, что он такое умеет, чего не умею я.
Услышав это, я остановился и прислонился к кроватному остову, низко загудевшему железной пружиной. У ваших друзей. Додо все уши мне прожужжала об одном друге. Я попытался вспомнить, о чем говорилось за столиком в «Регенте», но в тот вечер я так надрался, что помню только одно — как вышел на припорошенное искусственным снегом крыльцо, ведя за руку смеющуюся девку, прижал ее к перилам, а она прокусила мне губу, да так крепко, что кровь закапала. На свитере осталось пятно цвета моченой брусники.
Последний раз я слышал голос Додо поздним вечером третьего февраля, когда она садилась в самолет в Портеле. И что ты думаешь? Она и впрямь улетела, эта севильская куница, и больше я ее не видел, хотя честно пытался искать, даже сеньоре Матиссен позвонил. Соня так всполошилась, когда услышала мой голос, так несвязно отрекалась от вечера в кафе, что я понял — она ничего мне не скажет. Боится.
Так кто же нанял мне адвоката? И кто посадил меня в тюрьму?
Я шел за Пруэнсой, не разбирая дороги, и очнулся только на улице, когда конвоир стал сажать меня в машину, прижимая мою макушку скрещенными ладонями. В прошлый раз, когда мы ездили в Капарику, я так волновался, что все время кашлял и не успел толком надышаться. Сегодня потребую открыть в машине окно. Может, адвоката нанял Лилиенталь, а посадил меня кто-то другой? В этой истории есть две константы, одна подлая переменная и одно неизвестное — мадьяр с его дребезжащим телефонным голосом. С константами мы на короткой ноге, потому как происходим от латинского constans, а вот с мадьяром все выглядит двусмысленно.
— Ласло тебе не враг, он просто делает дело, — сказал метис-кабкло, когда мы сидели в парке. — Если бы не осечка с Ферро, он бы тебя и вовсе мучить не стал. Может, взял бы немного денег и отпустил бы. Уж я-то в людях разбираюсь, у меня весь череп в шишках. Хочешь потрогать?
— Нет, спасибо.
— Ну и зря, — он явно получал удовольствие от разговора. — Говорю тебе, Ласло — человек с понятиями. Сделай, что велено, и он даже имя твое забудет. А вот твой приятель не стал за тебя заступаться, хотя деньги у него водятся. Да хрен с ним, ты и сам справишься, тебе ведь не у живого тореро четки отнимать, а у деревянного.
В парке мы были одни, несмотря на сухой и теплый день, в Эшториле вообще шаром покати с ноября по апрель, приезжий народ попадается только возле казино. Я сидел на каменном парапете и смотрел на метиса, прихлебывающего пиво из банки. Зачем вообще понадобился этот посредник с лицом цвета пеклеванного хлеба? Ласло хотел показать, что он в этом деле не один?
Не стоило трудов — я согласился бы делать что велят, даже если бы мадьяр самолично явился с ключом. Галерею так галерею, грабить так грабить. Похоже, я сделан из какой-то беспородной рыхлой глины, как те необожженные статуэтки, что попадаются в раскопках, — заденешь лопатой, хрясь, и пополам. И дело здесь не столько в страхе, сколько в тоске, понимаешь? Стоит мне наткнуться на чью-то жестокую уверенность в своей правоте, как я сникаю и начинаю тосковать, а если собеседник бесстыден и нагл, то во мне перещелкивается какой-то рычажок, и я становлюсь послушным, улыбаюсь и киваю, хотя слух мой практически отключен.
От этой своей особенности я изрядно натерпелся, между прочим. Правда, все мгновенно меняется, стоит мне как следует разозлиться. Я могу быстро стать твердым — как фарфоровое тесто, в которое добавили жженую кость. Почему же я, черт возьми, до сих пор не разозлился?
— Ниньо, сеньор? — метису надоело мое молчание. — В «Гондване» сегодня закрытие выставки, но тебе там делать нечего: наш человек сказал, что народу будет немного, и estrangeiro непременно запомнят. До восьми вечера гости разойдутся, в восемь «Спортинг» играет с шотландцами, а хозяин галереи большой поклонник Руи Патрисио.
— Ясно, значит, после девяти.
— Удачи тебе в делах, — посланник допил свое пиво, положил ключ возле меня, еле заметно поклонился и ушел, высоко держа кудрявую голову.
Все-таки в метисах есть что-то ломкое и умилительное, я их полюбил, еще когда читал Амаду, лет в четырнадцать, в «Иностранной литературе». Были бы мы в другом спектакле, я позвал бы его в бар, на стакан кай-пириньи, рассказал бы ему про книжную Байю моего детства. Но куда там, droga! Когда попадаешь в неприятности, начинаешь замечать нехватку слов, жестов и возможностей, которыми все вокруг было усыпано — вот только что — будто тополиным пухом в июньском городе. Стены вокруг тебя сдвигаются с той же скоростью, с какой сгущаются твои обстоятельства, и вот уже никто не зовет тебя на стакан чего угодно, а самое странное — и ты никого не зовешь, как будто боишься передать заразу.
Для того дело тянется, что виноватый нравится.
— Нет, пако, я такой мелочью не занимаюсь, — сказал Лилиенталь, поднимая красные, круто выгнутые брови. — Рад бы тебе помочь. Но не занимаюсь.
Зима дье тысячи восьмого оказалась мне не по зубам. Кое-кто верит Элиоту, писавшему, что зной точит кости, но я-то знаю, кто настоящие деймос и фобос — это ночной мороз и утренний голод. Зима была не просто холодной, она была ледащей, третьесортной версией осени. У меня, как назло, отключили отопление, я был должен газовой компании полторы тысячи и еще четыреста за свет и тепло. Я могу сидеть при свечах и бродить по дому в старой вытертой шубе Лидии Брага, но горячая вода — это мое идолище, telesma. У нас в доме было принято экономить газ и дрова, поэтому лет до десяти я принимал ванную вслед за матерью, с ненавистью избавляясь от длинных волос и хлопьев пены, плавающих в остывшей воде. В ту лиссабонскую зиму я начинал каждое утро с того, что поворачивал кран в виде лебединой головы, слушал послушный шум в трубах, пробовал воду пальцем и шел начинать свой день.
Когда в начале лета я принес Ли браслеты с альмандинами, все было по-другому. Я принес их в замшевом мешочке, как положено, и высыпал все прямо на стол, заставив его вздрогнуть и прищуриться. Мой друг взял свою фасонистую лупу с костяной рукояткой и повертел браслеты в пальцах. Его длинное лицо менялось, как моток пряжи, разматывающийся на глазах, наконец, он взглянул на меня и улыбнулся:
— Ладно уж. Придется мне встать, раз такое дело.
В те дни он плохо двигался, подолгу сидел дома и радовался любому развлечению. Мы вызвали такси, поехали к антиквару и сдали все скопом за четыре тысячи. По дороге домой я вынул тысячу из конверта, сложил и сунул Лилиенталю в карман — антиквар был его знакомый, сам бы я дольше провозился. Ли поморщился, но ничего не сказал. Он относился к деньгам самым диковинным для меня способом: когда они были, он их любил, а когда не было — даже не вспоминал. Деньги кружили вокруг него, будто осы вокруг разрезанной дыни, деньги любят сочетание скупости и небрежности, в этом Ли с моим бывшим шефом Душаном даже немного похожи.
Когда мы с ним обедали в городе, то счет всегда подавали мне, понятное дело — здоровый сероглазый англосакс и местный парень в коляске, с ногами, укрытыми пледом, ясно, что платит первый, даже если второй гоняет гарсона по мелочам или велит поменять это ваше клошардонне на приличную выпивку. Зато Ли держал в студии по меньшей мере четыре сорта травы и всегда давал мне с собой туго набитый спичечный коробок.
Не знаю, что на него нашло, когда осенью я принес несколько колец, надеясь получить хотя бы пару тысяч в долг, не знаю, но догадываюсь.
— Это не гешефт, — сказал он, отодвигая скудную горстку золота, — могу дать тебе три сотни, если ты на мели. Я же помню шкатулку твоей русской старухи, там было столетнее колье со шпинелью, куда ты его подевал?
— Колье я заложил, — мне вдруг стало душно. — Заложил алжирцу-дилеру и не смог выкупить. Что до русской старухи, то когда она умерла, ей было на два года больше, чем тебе теперь. Извинись.
Ли пожал плечами, развернул коляску от стола и поехал на кухню, там у него были деньги, наверное. Я не стал его дожидаться, собрал побрякушки в карман пальто и ушел.
Приходится перелистать половину жителей города, чтобы отыскался один стоящий персонаж для романа, говорил один забытый писатель. За восемь лет я перелистал здесь столько народу, а выбрал Лилиенталя, думал я по дороге домой. Он мог бы спросить меня, в чем дело, мог бы остановить меня, потрепать по плечу и оставить обедать или хотя бы — выпить чаю с ромом. Его запасы рома всегда были не хуже моих, только ром у меня давно кончился, и я перебивался местной водкой по четыре с половиной монеты за бутылку.
О таких, как мой друг Ли, писал Гай Плиний: «Вырезыватели на камнях приобретают алмазы, вправляют их в железо и весьма легко продалбливают твердейшие вещества». Лилиенталь сам огранил себя и вправил в железо — полагаю, что тридцать лет назад он был рыхлым гимназистом в очках с толстыми стеклами, причем одна дужка сломана и обмотана липкой лентой, у него списывали контрольные и никогда не приглашали на вечеринки. Не знаю, кто был его вырезывателем, и был ли такой вообще, но тот камень, что стал нынешним Лилиенталем, совершенен в своем темном блеске и равнодушии.
Я скучаю по нему, но восстановить движение воздуха между нами невозможно: там, где были парусящие от сквозняка занавески, теперь стоит ночная духота, усыпанная мертвыми мотыльками и мошками. Если бы мой друг собрался однажды на берега Балтийского моря, я дал бы ему адрес своей квартирной хозяйки Марты, эти двое нашли бы о чем поговорить, в моем сознании они пребывали в обнимку, как императорские соправители на античной арке, хотя узнав об этом, наверное, сочли бы себя оскорбленными. Ли любит рассуждать, что стареть нужно в одиночестве, в домике у моря, в котором нет ни телефона, ни Интернета, а есть только радиоточка, играющая вальсы, — как раз в таком доме я и снимал у Марты веранду без единой батареи.
Что до меня, мне совершенно все равно, где стареть, другое дело, каким ты окажешься, когда начнешь разваливаться на части. Лысый складчатый танцовщик жалок, бывший жиголо лоснится, музыканты спиваются, а спортсмены толстеют, про желчных военных в отставке я вообще не говорю. Стареть как писатель — вот предмет моей зависти, публика любит тебя любого, грузного, поддатого, обсыпанного перхотью, три года не брившего бороды. В каждом твоем хмыканье ищут суждение, а на дне твоего стакана переливаются смыслы. Разве не круто?
Марта боялась пожара и не разрешала мне топить свою печку с узкой изогнутой трубой, она называла ее буржуюс — печь была явно мужского рода, чугунная, на львиных лапах, с дымом, ползущим из всех щелей. Сама хозяйка тоже дымила не переставая — розовый немецкий особняк был прокурен, как блиндаж, а окон там никогда не открывали. К началу второй недели я промерз до костей и начал присматриваться к Марте, размышляя, как бы вымолить у нее вязанку дров.
Однажды я постучал в ее дверь, держа в руках купленный в комиссионке винил Беко — на конверте был нарисован мост в сиреневой мгле, точно такая же мгла стояла за окнами моей веранды, только ледяная. Хозяйка позволила послушать пластинку на своем «Аккорде» и пошла заваривать чай. В комнате было как следует натоплено и сухо, я согрелся и чуть не заснул, но тут Марта вернулась с подносом, ее плоские скулы светились малиновым светом. Я послушал пару песен, напился чаю пополам с водкой и собрался уже уходить, но вдруг закашлялся: комната поплыла у меня перед глазами, а ромашки на шторах завертелись, будто китайские огненные колеса. Я сел на кровать, чувствуя, что на лбу выступил пот, а колючий воздух застрял где-то в средостении.
— Это вроде астма у тебя, студент, — сказала Марта прямо над моим ухом, — хорошо бы меда, да год был не слишком медовый. Ботинки-то сымай.
Она собрала посуду со стола, вышла на кухню, погремела там каким-то ведром, вернулась, выключила проигрыватель, сняла платье и легла рядом со мной. Голая Марта была похожа на древнеиндийское слово pussts, что значит обильный, груди ее лежали, как две срединные s с точками, глядящими вниз, а третья s проходила по просторному животу, заканчиваясь рыжеватым завитком. Крепкие пальцы стянули с меня свитер и расстегнули джинсы, но тут я перестал кашлять и заснул, сбежав от хозяйки в единственное место, куда отступать не зазорно. Заснул, успев подумать, что совсем недавно лежал в других простынях, рядом с другой женщиной, мокрый как выдра, но не от кашля, а от желания, разносившего мой мозг на части.
Два месяца назад это было, и где я теперь?
В ту ночь я лежал в гостиничном номере, в четырехстах километрах севернее Паланги, и разглядывал линии теткиного тела под простыней: слишком узкие бедра, слишком широкие плечи, слишком длинные ступни, граненое ожерелье, перехватившее шею. Вылитая статуэтка Маат. Помню, что на верхней губе у Зои темнела язвочка (простуда, сказала бы няня), я наклонился и поцеловал ее. Нет ничего более противоречащего облику человека благородного, чем неопрятный рот, сказал один грек, но что он понимал, тетка была хороша и спала крепко. У ее сомкнутых губ был можжевеловый привкус, может, от температуры, а может — от табака, который она хранила в лакированном ящичке и везде таскала с собой. Я было заподозрил табак в приятной особости, но он оказался обыкновенным голландским «Драмом», крепким, будто боцманский кулак.
— Косточка! — сказала тетка, открыв глаза. — Зачем ты меня разбудил?
— Ты кричала во сне, — соврал я.
— Мне снилось, что я приехала в дом на склоне большой горы, — она приподнялась и оперлась на подушки, — и знаю, что мне нужно собрать чемоданы, все уложить и вернуться в долину, к людям. Чемоданы стоят наготове, рыжие, тревожные, ими заполнено все пространство прихожей, я с трудом протискиваюсь в свою комнату, распахиваю шкафы, вынимаю стопки белья, пожелтевшего, сырого, какие-то рукописи, фотоснимки, квитанции. Шкафы кажутся бездонными — мелкие вещи выползают из них, будто вереницы муравьев, я бросаю их в чемоданы, торопливо, без разбору, но по-прежнему вижу чемоданное дно, бумаги проваливаются куда-то еще, и тут я понимаю, что стоит наклониться чуть пониже, как я провалюсь туда и сама.
— Я тоже видел такой сон, — сказал я вслух, но тут натопленная тьма сгустилась, и мужицкая тяжкая рука похлопала меня по плечу:
— Согрелся, студент? Уходи, я люблю спать одна.
Наутро мы столкнулись лицом к лицу во дворе, вернее, сначала я увидел хозяйкину спину, обтянутую красным свитером, — Марта чистила крыльцо железным скребком, у меня сразу заныли зубы от размеренного скрежета. Свитер у Марты был грубой вязки, колючий даже с виду, я бы сам в таком ходил. Утро тоже было грубое и колкое, красный морозный рассвет не сулил передышки, ветер дул с моря и продувал сосновую рощу насквозь — самая холодная зима в Литве, просто каторжная. Как вести себя с женщиной в такое утро?
Я постоял там немного, думая о том, что вчера, прикоснувшись к ее телу, я удивился его объему, теплу и плотности: рыжая и ражая рысь морская рыскала, сказал бы варяжский принц, написавший «Висы радости», вот только радости я не испытывал.
— Давай помогу, — сказал я. — Доброе утро, пенкна пани.
Она подняла голову, убрала волосы с лица и поглядела на меня снизу вверх.
— Печку топить не дам, и не думай. Замерзнешь — приходи, а топить не дам.
Иди к муравью, о ленивец, и будь мудр.
Я аккуратно закрыл ребристую крышку блока, защелкнул замок и огляделся.
Вдоль стен галереи стояли складные стулья для гостей, под ногами у меня шуршали гирлянды, на одном обрывке я разглядел tourada, а на другом oba, в коридоре пахло подгоревшим хлебом. Я снял кеды и сунул их в карманы куртки, пол был розовым и теплым — португальские полы всегда напоминают о хорошем вине. Когда я вселился в альфамский дом, то так обрадовался пробковому полу, что всюду ходил босиком — Зоя тоже так ходила, ей дай волю, она бы вовсе туфель не надевала.
На входе в главный зал скрестились лазерные лучи, дорогое удовольствие, сразу видно неопытного хозяина. Блок, набитый электроникой, он повесил на первом этаже, я нашел его за несколько минут и поработал с ним в свое удовольствие. Парень, который монтировал здесь охранную систему, явно учился делу в какой-нибудь затхлой часовой мастерской.
Проходя мимо главного зала, я заметил, что в нем горели все лампы, как будто там ждали гостей, под стеклянными колпаками темнели подставки, похожие на перевернутые шахматные ладьи. Никакого деревянного тореро в зале не было, как я и думал, зато у самого входа висел плакат с рекламой будущей выставки — фотографией трех алтарных мадонн, стоявших в кружок. У одной из мадонн на руках лежал ребенок, спелые младенческие пятки слабо светились.
Я нащупал в кармане связку отмычек и вспомнил, как учился открывать замки в мастерской у Лютасова отчима на улице Святой Барбары. «Открываем любые двери. Круглосуточно». Прямо у входа там была прибита доска с развешанными на крючках образцами цветных ключей, бесцветные стоили вполовину дешевле. Лютас по утрам помогал отчиму в мастерской, его посылали открывать захлопнувшиеся двери или вставлять замки в почтовые ящики. Когда я уехал в Тарту, мастерская Раубы прогорела, я узнал об этом из материнского письма и сразу подумал — куда делись все эти ключики, не открывавшие ровным счетом ничего?
Пройдя вдоль завешанного акварелями коридора, я встал у двери охранника. Мне был виден профиль мужчины в униформе, край его стола с чайной чашкой и два экрана с мерцающими изображениями безлюдных комнат. Отлично. Эту картинку он будет видеть до утра, иллюзия покоя и безопасности, утешительный телевизор фирмы «Оптекс».
— У них в точности та же система, которую вы с Душаном всучили половине города, — сказал мадьяр (и был прав). — В ней можно мультфильмы показывать.
Оранник поставил чайник на маленькую плитку, потянулся, подошел к окну и выглянул на улицу. Он смотрел на дом напротив, откуда доносилась музыка, а я смотрел на него и ждал, когда он примется заваривать чай. Достать коробку с полки, поставить на стол, взять ложку, насыпать чай в чайник, налить воды и тогда только снова взглянуть на дверь. Половина минуты.
Пол в этом холле был плиточным и холодил босые ступни, из дверей сквозило, наверное, где-то оставили открытым еще одно окно. «Время тянулось так медленно, что десять чайников бы уже выкипело так, что днища бы у них отвалились...» — вспомнил я строчку из старой книги, но автора вспомнить не успел: охранник отошел от окна, выключил плитку, и мое время пошло.
Пробежав через зал — тридцать секунд! — я свернул за угол, достал отмычку, открыл замок кабинета — двадцать секунд! — и бесшумно прикрыл за собой дверь. Теперь следовало отдышаться. Я сел в высокое хозяйское кресло и стал разглядывать кабинет. Вот не думал, что я такой ловкий. Правду говорил мудрый змей Лилиенталь: человек хорошо делает то, что он считает нужным, главное — научиться считать. Как бы там ни было, я занялся делом, разве не этого хотели все те, кому я был не совсем безразличен?
— Тебе пора заняться делом, — сказала Зоя, когда я провожал ее в аэропорту, — не понимаю, чего ты ждешь. Три года прошло с тех пор, как тебя выставили из университета, а что изменилось? Ты валяешь дурака, ничего не пишешь, морочишь людям голову и живешь с матерью, которая спит и видит, как бы от тебя избавиться.
— Какой смысл писать, если ты не читаешь? — я ждал, что она возразит или хотя бы смутится.
— Надо меньше думать о том, что думают о тебе другие. Просто делай то, что у тебя хорошо получается, — невозмутимо ответила тетка. — Знаешь притчу про жонглера Богоматери? Представь: жонглер попадает в монастырь, чистит там гальюны и носит воду. Однажды настоятель натыкается на него в пустой церкви, где парень расстелил свой коврик и жонглирует перед образом Богородицы. Священник ругает его последними словами, а ночью видит во сне Богородицу, и та говорит: «Пусть жонглирует для меня, раз у него хорошо получается».
Похоже, у меня неплохо получается грабить галереи. Я подергал ящики стола, верхний ящик открылся, но кроме бутылки вина и бумажного свертка с едой там ничего не было. На столе стояла фигурка с посохом, копия сельского старосты из Саккары. Глаза его были заполнены белой эмалью и казались слепыми: бусины зрачков потерялись, выкатились на каком-нибудь рынке на заплеванную землю.
Осторожно отодвинув штору, я впустил в комнату свет супермаркета «Todo mundo» и принялся ходить вдоль стен, подсвечивая зажатым в кулаке фонариком: снял несколько картин, прошелся вдоль полки с брик-а-браком, подвинул вазу с фазанами и, наконец, увидел дверцу сейфа, узкую, как почтовая щель, прямо перед собой. Сейф был заперт, разумеется. Только не на ключ, а на цифровой замок. Merda, merda. Похоже, толку от выданного мне ключа не больше, чем от тех, что висели на рекламной доске у пана Раубы-старшего.
И потом, что это за сейф такой? Смешно даже думать, что в него могла поместиться низка увесистых кораллов в золоте в полтора метра длиной. То, что я увидел на плакате выставки, когда получал инструкции от метиса, напоминало лангетку, поддерживающую сломанное предплечье. Один конец коралловой цепи был обмотан вокруг шеи тореро, а второй обвивал запястье и завершался золотой фигой с алмазными ногтями. В сейфе могла оказаться только фига, но и она недостижима, я же не медвежатник. И с какой стати тореро расстался бы со своими четками? Выставка закончилась, гости выпили шампанское, съели суши и разошлись, а расписных истуканов погрузили в машину и увезли. Ласло не мог об этом не знать.
— Хозяин не дурак, он сам уберет все ценное в сейф, так что тебе не придется рыскать по галерее, — сказал он, когда позвонил мне за день до поездки в Эшторил. — Наш человек оставит окно в туалете открытым. Наш человек в «Гондване».
Он засмеялся. Я тоже засмеялся, и некоторое время мы смеялись вдвоем.
Удивительное дело, поговорив с этим типом по телефону всего несколько раз, я проникся к нему необъяснимым доверием. Так верят в водопад Эшера, бегущий вверх, или в колдуна, что толкует о прохладе, сидя под раскаленной рыночной крышей. На его помощнике-метисе алыми буквами написано, что он каналья, но ему я тоже верил! Ты будешь смеяться, но эта парочка напоминала мне благодушных аферистов из британских детективов начала века. Пруэнсе, меж тем, я верю гораздо меньше, несмотря на его катоновский вид и груды мышиных папок с делами.
Мне показалось, что кто-то прошел по коридору, и я быстро погасил фонарик, так что узкий луч с крыши «Todo mundo» остался единственным источником света. Потом я вернулся к столу и сел в глубокое хозяйское кресло. Кресло загудело, задвигалось и стало гладить мою спину какими-то потайными валиками. Так здороваются каталонцы — они ласково стучат тебя по спине и больно хлопают по плечам, никаких парижских поцелуев в воздух, никаких мокрых римских лобзаний.
Выставка закончилась, думал я, поэтому охраны нет, все нараспашку, а рассеянный сторож не в счет: разве я смог бы пробраться мимо настоящей охраны? В последний момент стало известно, что затея провалилась — тихо, как вертепный дьявол в дырку, прорезанную в полу. Приличный грабитель позвонил бы мне, наверное, и дал отбой, но Ласло на редкость неделикатен. Его посланник и того проще, несмотря на шишковатый череп. Китайцы сочли бы его чувствительным и мудрым, но я-то не китаец.
Кресло перестало жужжать, валики остановились, и мне пришлось открыть глаза. Я встал, подошел к окну, открыл его и посмотрел вниз, встав коленями на подоконник. Моя лестница из ящиков осталась с другой стороны здания, но жестяной карниз под окном кабинета был таким же широким, как под окном туалета, можно было надеяться, что он приведет меня к нужному месту. Реклама супермаркета вспыхнула снова и заискрилась голубым. Глобус повернулся ко мне своим океаном, в океане чернели несуществующие острова, вероятно, придуманные тем, кто расписывал эту сферу в четыре краски. Хотя, если подумать, мой воображаемый дом нарисован похожим способом, мой дом на острове Исабель, где я непременно начну писать книгу, может быть, роман, а может быть, «Новое происхождение видов».
Я придумывал этот дом все четыре года, даже гравюры на стенах развесил, на южной стороне — фукэй-га, пейзажи, а на северной — муся-э, самураи. Однажды я начал его рисовать, чтобы развлечь свою подружку — индианку по прозвищу Олуша, — изводившую меня рассказами о Галапагосах. Прикрепил к стене лист картона, оставшийся от ремонта, и рисовал на нем цветными мелками. Каждый день я дорисовывал что-нибудь новое — птицу на подоконнике, тень от ветки, чашку, забытую возле шезлонга. Сад я тоже нарисовал, правда, у меня кончились зеленые мелки и пришлось сделать траву сиреневой, поэтому вид у сада был немного марсианский.
Душан, Пепита и я работали в одной комнате, вторая была предназначена для клиентов, и кроме кожаного дивана, чашек и кофеварки там ничего не водилось. Кожаный диван индианке не нравился, она говорила, что он холоден, как змеиная чешуя, поэтому в том доме, который я придумывал, кожаной мебели не было, только плетеная, с подушками, набитыми птичьим пером. У дома была скользкая стеклянная крыша в форме луковки (это чтобы птицы не загадили), еще там были четыре стены из лавовых камней и веранда с гамаком. Когда я закончил рисунок и показал индианке, она помотала головой: красиво, но рыбаки будут над тобой смеяться, в Пуэрто-Вилламил живут одни рыбаки! И еще смотритель маяка, сумасшедший старый козел.
— Вот, — обрадовался я, — смотритель, это как раз то, что я хотел бы делать всю оставшуюся жизнь! Похлопочи за меня, если это место освободится.
Когда-то давно, в Паланге, один местный мальчишка сказал мне, что у каждого маяка есть своя частота мерцания, по которой можно определить, что это за маяк, и даже — как зовут смотрителя, помню, что я страшно удивился. Неужели есть на свете человек, подумал я, который разбирает все эти мерцания и способен отличить одну частоту от другой? От одной мысли, что он есть, становится немного спокойнее.
С тех пор прошло всего несколько лет, смотрителем быть я больше не хочу, а маяк на моих карманных Islas Galpagos давно зарос ежевикой, дурманом и слоновой травой до самого купола.
а любовь как медведь тяжела
в пляс пускалась где только случится
Без малого пять недель, тридцать четыре зарубки. Я так расклеился здесь, Хани, что не смог бы выцедить и капли той шляхетской удали, которая тащила меня зимой по карнизу галереи. Моя решимость, моя вспыльчивость, мой кураж уходят вереницей, как слуги из разорившегося замка, а я смотрю им вслед в зарешеченное окно. Вот я забираюсь по скользкой от измороси трубе, вот иду по заваленному гирляндами коридору, вот отключаю систему, вот прыгаю вниз — и стоп! ловлю себя на том, что не помню этого физически. То есть картинка высвечивается, и в ней есть запахи и звуки, но мое тело этого не помнит, оно двигалось, будто китайская кукла на тростях, грациозно, но бездумно. Если я не путаю, у гуандунских кукол было восемь характеров — сводница, ученый, красотка, какие-то мрачные мужики и клоун. Догадайся, какой куклой я себя чувствую.
Сегодня ночью я несколько раз стучал в стенку, надеясь вызвать соседа на разговор — меня который день преследует ощущение, что в камере слева кто-то сидит. Сначала я стучал осторожно, потом пару раз треснул по стене железным табуретом. Просто удивительно, что никто не примчался меня урезонить, похоже, охрана сидит в своей комнате с ящиком пива и включенным телевизором, где с утра до вечера показывают тренера Карлуша Кейруша. Или перед другим телевизором, где показывают меня.
Да нет, чушь собачья, никто на меня не смотрит, глазок остался от более важной птицы, прозябавшей в этой клетке. Они просто забыли убрать камеру, когда выпустили птичку на свободу. Лютас говорил, что такое устройство может работать годами, если его не обесточить, так и будет мигать подслеповатым глазком, пока здание не рухнет или не сгорит.
Дней через пять-шесть после Лютасова отъезда я решил опробовать его камеры, просто из любопытства, и оставил их включенными на целый день. Когда я вернулся из города, включил компьютер и прокрутил запись, то увидел Байшу, бродящую по комнатам с тряпкой, Байшу, мающуюся дурью, Байшу, читающую в моем кресле, и, наконец, Байшу, торопливо закрывшую книгу, когда за дверью раздались мои шаги. Она ловко поставила томик назад, заложив его медным ножом для писем, машинально взятым со стола, надела передник и отправилась на кухню.
Увидев это, я сразу пошел в кабинет и перетряхнул все книги, стоявшие на нижней полке.
Нож выпал из катехизиса, в остальных томах ничего не было, а жаль — я уже предвкушал, как утраченная тавромахия выпрыгнет мне прямо в руки из какого-нибудь In Nomine Dei. Явившись с кухни, Байша потупила глаза и сказала, что вещь сама найдется, если о ней забыть: мол, даже беличий тайник с лещиной рано или поздно покрывается молодой ореховой порослью.
Так оно и вышло, только тавромахий отыскалось две. Может статься, обе пряжки когда-то были половинами диптиха, просто их снесли антикварам по отдельности, разлучили, будто невольников на лагосском рынке. Вторую я увидел в «Гондване», прямо перед тем как выпрыгнуть из окна.
Вот идиот, почему я не протянул к витрине руку, когда завыла сирена, не разбил стекло вдребезги, не схватил тавромахию, не сунул в карман, не помчался прочь с добычей — была бы у меня теперь пара, два черненых быка и два золоченых заката.
Ладно, милая, не стану тебя запутывать, историю с галереей стоит рассказывать особо, будто повесть о капитане Копейкине в «Мертвых душах». Или нет, лучше как притчу о соблазненной вдове, спрятанную в тексте «Сатирикона», со вдовой у меня больше сюжетного сходства. Одним словом, я обещаю вернуться к галерее, а пока ограничусь пословицей, способной послужить эпиграфом к чему угодно: вор, который крадет у вора, имеет сто лет прощенья.
— Манера Лидии вести хозяйство всегда наводила на меня тоску, — сказала тетка, когда мы бродили по Вильнюсу за день до Рождества. — Спустя годы после ее смерти я находила запасы сахара, соли и спичечные коробки, замотанные в клеенку. А книжные шкафы! Боже, что творилось за рядами книг, туда складывались флаконы с лавандовым маслом, счета, клубки вязальной шерсти, засохшие бисквиты, носовые платки. За толстыми томами, которых никто не читал, шла особая жизнь, вечно что-то попискивало и побрякивало — там было довольно места, чтобы кошка прошла, и она ходила, не сомневайся. И охотилась на тамошних монстров.
— Я знаю. Агне мне показывала разные тайники, мы их все освоили понемногу.
— Еще одна кошка, — кивнула тетка. — Не хвастайся, тайники показывали не тебе одному. В доме вечно толпились мальчишки, а один даже возил ее в Порто, как взрослую, стащив у родителей сорок тысяч эскудо. Вернулась она в ужасном виде, ночевала в кемпинге и набралась там насекомых. Самое смешное, что соберись мы пожениться, моя дочь стала бы твоей падчерицей, enteada, а ты стал бы ее padrasto.
— Я не хочу на тебе жениться, — ответил я быстро, — давай лучше дойдем до Академии и выпьем тминной водки. К тому же, у меня есть жена.
— Я тебе и не предлагаю, — она пожала плечами. — Я, к твоему сведению, тоже замужем и по закону этой страны никогда не смогу развестись. Давай на мосту постоим, ладно?
— Ты уже пять лет как вдова, — я начинал мерзнуть и немного нервничал.
Наутро мне нужно было отправляться в «Янтарный берег», чтобы ехать с туристами на побережье в автобусе со сломанной печкой, от этого мне было заранее не по себе. В прошлый раз в салоне было так жарко, что дородные англичанки разделись почти до белья, и я едва не задохнулся от смеси одеколона, женского пота и керосина.
— Я вышла замуж в Литве, в деревенском костеле, при двух свидетелях, и покойный Фабиу здесь ни при чем, — тетка расчистила снег рукавом, села на перила и потянула меня за рукав. — Это было тайное венчание, уксусное, мрачное и совершенно бессмысленное, особенно, если подумать обо всем, что ему предшествовало.
— В деревенском костеле?
— В Швенчонеляй. Труднее всего далась мне исповедь — пришлось минут десять стоять на коленях на каменном полу, как в романе Дидро. Выслушать меня по-русски кунигас не захотел, а литовский я знала слабо, поэтому мы с грехом пополам объяснились на итальянском. После венчания муж угостил меня мороженым, и мы разошлись в разные стороны.
— Почему же ты уехала из страны, раз у тебя был муж-литовец?
— Да не было у меня никакого мужа. Это была шалость, жалость, мистификация, называй как хочешь. Я даже не была католичкой!
— Ты сказала об этом на исповеди? — я все еще думал, что она шутит.
— Нет. Я исповедовалась первый раз в жизни и сильно смущалась. Мне пришлось закутаться в шаль, на руках еще не зажили царапины и синяки, и я боялась, что кунигас их заметит и откажется венчать. В костеле горели не все свечи, было довольно темно и неуютно, служка в балахоне деловито ходил туда и сюда. Сестра кунигаса должна была стать вторым свидетелем и сидела на скамье со скучающим видом.
— Ты вышла замуж за насильника? — я старался не смотреть на нее, но краем глаза видел, что она вяжет узлы из бахромы на краю своей попонки.
— По крайней мере, за одного из них. Знаешь, я долго смотрела на Агне с подозрением, вглядывалась в мягкое личико, но она была похожа на обоих литовцев, как яйцо перепелки похоже на узор перепелиных крыльев. Тогда я решила, что она произошла от них обоих, их семя смешалось слишком быстро, не прошло и двух дней. Представь, это казалось мне вполне вероятным. Может быть, поэтому я ее не очень люблю.
— Об этом я догадывался.
— Знаешь, в итальянских монастырях бывает такое окно во внешней стене — с широкой полкой и механизмом на манер карусели? Это окно для подкидышей, а вовсе не дырка для подношений, как я раньше думала. Так вот, окажись в те времена поблизости такое окно, я пложила бы Агне на полку, крутанула бы колесо, повернулась и ушла бы, не сомневайся.
— Я сомневаюсь, что хочу все это слышать, — пробормотал я.
— Косточка, да ты злишься.
Я и сам не знал, что на меня нашло. Это была не ревность, я точно знал, ревность застилает мне разум, заливает глаза, от ревности я слепну и мотаю головой, будто лошадь, терзаемая оводами, а тут была детская злость, насупленная и безысходная. Эта женщина все принимала как должное — и помощь, и вражду. Где-то я читал о венгерской контессе, оставшейся жить со своей горничной, когда власть в стране перешла к пролетариям: старуха не понимала, что горничная держит ее из милости, не желая ее голодной смерти, и каждое утро начинала с того, что протягивала служанке руку для поцелуя.
— Сверни мне сигарету, — сказала Зоя, — и утешься тем, что об этом викторианском ужасе знают только четверо. Я, ты и двое литовских второкурсников. Один серый и совестливый, другой белый и бессовестный. Два веселых гуся.
Нет, с ней просто невозможно было иметь дело. Все равно, что рисовать граффити, не имея под рукой стены: капли краски с силой вылетают из флакона, обозначают в воздухе мгновенный контур и тут же оседают, оставляя на асфальте бесформенные пятна. Тетка рассказывала о своих обидчиках улыбаясь, с такой же улыбкой пять минут назад она говорила, что в больнице ей выдали войлочные шлепанцы и хлопковые носки, и она страшно обрадовалась, когда носки протерлись за неделю и можно было снова ходить на босу ногу. Ее улыбка ничего не означала, просто движение губ, не более того. Такую улыбку наш доцент Элиас называл архаической: когда греческую статую вырубали из камня, улыбка получалась сама собой, уголки рта поднимались, и мастер ничего не мог с этим поделать.
Ее смех тоже ничего не значил. А слез я вообще не видел ни разу.
Охотник — тот, кто хочет.
Блок говорил, что перестал что-то слышать в последний год своей жизни, а я начал что-то видеть на второй год своей жизни в Лиссабоне, своей новой жизни — с ранними завтраками второпях, обедами на руа ду Оро и тремя отличными костюмами в шкафу: оливковым, табачным и серым. Город перестал быть фортом, где для меня были только узкие бойницы, он приоткрыл свои ворота и опустил мост — или только начал опускать, по крайней мере, я слышал звук цепных блоков и видел проем под деревянной герсой. Я учился тратить деньги, как учатся плавать — покупая ненужные вещи и окунаясь в нищету недели на две, до следующего конверта, которые Душан с победной улыбкой вручал мне и Пипите в конце месяца. Я записался в теннисный клуб, заплатил банку за год вперед, начал бегать по набережной по утрам, завел себе любимое вино и покупал его ящиками в лавке возле собора Се.
Поначалу мне пришлось заниматься клиентами, вернее, учиться их уговаривать. Это было все же не так противно, как работать в литовском агентстве «Янтарный берег», куда приходили местные богачки с плоскими лицами жемайтийских крестьянок Я должен был петь им песни про полный романтики круиз по реке Замбези. Самое смешное, что они рвались туда поехать, а меня тошнило даже от списка экскурсий. Антилопа ситатунга! Трубкозубы и бородавочники!
Ладно, это еще не предел безобразия — Аполлинер, например, ходил в контору делать надписи на конвертах за четыре су в час, а его хозяйка раздавала заработок, окуриваясь ароматической бумажкой, чтобы не вдыхать конторский смрад. Из агентства меня уволили за то, что я пытался уговорить толстую пани в соболях на поездку в Патагонию и осмелился предложить себя в качестве гида. Она настучала хозяину, и тот выкинул меня за приставания к особо важным клиентам. За харрасмент, одним словом.
Начав работать у Душана, я поймал себя на том, что совершенно утерял искусство переписки: то у меня выходили плотно набитые письма с кивками и приседаниями, то виноватая мякоть с толченым стеклом недосказанностей. Ответить на деловое письмо как положено, то есть написать да! или увы, нет, представлялось делом до крайности сложным, я подбрасывал бумаги такого сорта секретарше и откупался сушеными финиками, у меня целый склад был в верхнем ящике стола. Как бы то ни было, каждую неделю я получал четыре сотенных, а будь это пару лет назад, получал бы целую груду банкнот — золотистых с Энрике Мореплавателем, зеленоватых с Васко да Гамой и еще мелочь с Бартоломеу Диашем.
Правда, времена Афинской республики кончились довольно быстро: в две тысячи пятом теткин нотариус напомнил мне о том, что дом заложен, и уведомил, что средства, оставленные теткой на выплату процентов, закончились. Курьер принес мне его письмо и папку с бумагами, в которых я мог разобрать только верхние надписи крупным тисненым шрифтом. В письме говорилось, что вместе с деньгами для банка на теткином счету закончились деньги и для сеньора Кордосу, так что, в ожидании того дня, когда мои дела поправятся и я снова смогу оплачивать услуги юриста, он с почтением возвращает мне документы и обязательства, хранившиеся ранее в его бюро.
Сегодня снова шел дождь, и я решил постирать, наконец, свой матрас и заодно выяснить, что за дрянь у него внутри. Распороть матрас было непросто, пришлось пустить в ход зубы и ногти, выдергивая нитки из шва, это заняло половину дня и своей бессмысленностью напомнило мне раскрашивание контурных карт на уроках географии. Впрочем, заняться все равно было нечем: компьютер разрядился, а книга валлийских мифов, перечитанная вдоль и поперек, наводила на меня тоску. Вытряхнув набивку, оказавшуюся не гречневой шелухой, как я предполагал, а сухими водорослями, я разложил ее на полу, на газетах, скопившихся за три недели. Это были самые дорогие газеты в мире, они обходились мне по десятке за выпуск, я подсчитал, что остатков моей пачки хватит еще на двадцать три газеты или на одиннадцать с половиной лимонов.
Заскорузлую от грязи оболочку я вывесил за окно и терпеливо простоял на железной табуретке минут двадцать, пока небесная вода полоскала полосатую холстину. Стоя на табуретке, я думал о том вечере, вернее — о той ночи, когда я приехал домой из Капарики. Тогда тоже шел дождь, только зимний, темный, сплошной, захлебывающийся от северного ветра. Наверное, в такую же ночь Лиссабон смыло в океан вместе с полсотней тысяч набожных жителей, церквями, домами и скарбом. Остались только плиты на кладбище да ангелы из серого ноздреватого известняка. Ангелы здесь не похожи на тех, что ты показала мне в Силламяе: у эстонских задницы тощие, ротик гузкой, а мраморные глаза заведены в небо. Лиссабонские путто ближе к земле — сплошь дородные, с младенческими перевязками, и стоят смешно, заплетя ногу за ногу.
Помнишь, ты взяла меня на могилу своего деда, когда сажала там цветы — молочай и цикорий? Ты сказала, что жалеешь деда, он умер один, в старом сутгофском доме с хлопающими ставнями и полами, в которые нога кое-где проваливается по щиколотку. Я стоял, облокотившись на ограду, и смотрел на чистую красную плиту с фамилией Паанема, вокруг плиты кто-то недавно взрыхлил землю, и она чернела сырыми вывороченными комьями. Ты посмотрела на это с сомнением:
— Может, здесь уже посадили цветы мои двоюродные сестры? Тогда те, что я принесла, надо посадить возле прапрабабушки.
Возле кого? Я поглядел вокруг и увидел в двух шагах такую же плиту с надписью «Паанема», за ней еще одну, розового гранита, дальше — две серые с чугунной оградкой, паанема, паанема, плиты распускались, будто гранитные лепестки, мы стояли на сердцевине каменного подсолнуха, набитого высохшими семечками твоей родни, вокруг нас сгустились их горячие тени, и сердце мое внезапно переполнилось горечью. Мне вот, окажись я на вильнюсском кладбище, некуда даже с молочаем прийти: бабушку Йоле сожгли и развеяли над речкой Вильняле, как она велела — написала на обороте карты «Повешенный», подвернувшейся ей под руку в последнюю ночь.
Никто не знает, в каком углу кладбища похоронен дед Иван, тот, что ушел из дома, разгоряченный безумием, да, честно говоря, никому и дела до этого нет. Что до Франтишека Конопки, то я предпочитаю думать, что он жив, отрастил себе окладистую бороду и сидит на своем краковском балконе или на вроцлавском. Моей сводной сестре, соберись она на кладбище, тоже негде посадить молочай, пепел ее матери хранится в жестянке, жестянка в глиняном маяке, маяк в погребе, а погреб — в доме, от которого у нее остались только ключи.
Стоя на табуретке, я думал о том, что над телом Зои Брага тоже нет гранитной плиты или ангела, да и тела Зои Брага уже нет, нет ее смуглой шеи с двумя незагорелыми полосками, ее хитрых крыжовенных глаз, ее смятой, будто клочок конопляной бумаги, кожи между грудями, ее светлых волос, собранных в косу с завитком, похожим на кисть для каллиграфии. Я хотел нарисовать ее еще тогда, в Вильнюсе, но так и не решился, боялся, что она поднимет меня на смех, тут я оказался бы на ее территории и был беззащитен.
Что сказала бы Зоя, увидев мое теперешнее лицо? Пару дней назад я попросил у охранника одноразовую бритву и зеркало, но он принес только зеркало, вынутое из пудреницы, я сразу представил себе юную арестантку с первого этажа, у которой он его отобрал. Весь вечер я размышлял об этой арестантке, придумал ей камеру с викторианским ночным горшком, взбитыми подушками и портретом Дилана Томаса на стене. Мой собственный горшок похож на продолговатый судок для рыбы, стоявший раньше у Фабиу в погребе, в те времена, когда он собирался открывать ресторан и ящиками закупал посуду из нержавеющей стали. Вечером я должен выносить его в отхожее место, представь себе этот коридор с зелеными стенами, по которому я иду со своим длинным, бряцающим железной крышкой судком на вытянутых руках — чисто официант в банкетном зале.
Я иду мимо девяти дверей, за которыми сидят на своих табуретках или лежат, вытянувшись на бетонных лавках, мои друзья по несчастью, онемевшие, словно девять валлийцев, сдуру приподнявших золотую чашу. И ни один из них не стукнет даже ногой в дверь, чтобы пожелать мне спокойной ночи. Зато радио они слушают с утра до вечера, и ладно бы Europa Lisboa FM, так нет — Canal Parlamento, от которого уши вянут.
Про зеркало Редька, похоже, забыл, и я сунул его в начинку матраса, надеясь, что моей утвари прибыло. Тем временем полосатая холстина сушится на перевернутой табуретке, вода капает на пол и, собираясь струйкой, стекает по направлению к двери — похоже, пол здесь сделан с уклоном, на манер римского винного погреба. В погребе Фабиу — черт, там осталось еще не меньше дюжины бутылок! — пол был неправильным, и сырость застаивалась по углам вонючими лужами. Фабиу сам показал на них, когда мы спустились в погреб вместе, это потому, сказал он, что раньше здесь был не погреб, а убежище с подземным ходом, прежде выходившим к реке, а теперь никуда не ведущим.
Я слушаю, как струи дождя бьют в жестяной козырек, будто молочные струи в подойник, и смотрю на дверь. Дверь моей камеры покрыта стальным листом с внутренней стороны, наверное, для того, чтобы арестант мог достучаться до охраны в приступе отчаяния. Лист был покрашен в зеленый цвет совсем недавно, краска еще липла к пальцам, когда я зашел сюда в первый раз. Я люблю смотреть на двери. Всего три с половиной недели назад я сидел в своем любимом кресле с полупустой бутылкой коньяка, думал о том, что такое стыд, и смотрел на дверь, когда зазвонил телефон. Я принялся было шарить по карманам, но тут понял, что звонит домашний, допотопный, и поплелся в прихожую, уже зная, с кем буду говорить.
— Привет, Константен, — сказал знакомый бестелесный голос, — это Ласло Тот.
— Слушаю тебя, Ласло.
— А ты тот еще пройдоха, Константен. Твоя дарственная на дом — это просто клочок сортирной бумаги. И ты об этом знал.
— Знал, — я сел в коридоре на полу и пожалел об оставленной возле кресла бутылке.
— Не думал же ты, что все само собой рассосется?
— Именно так я и подумал. Ты видел когда-нибудь игральный автомат с когтистой лапой, которая достает игрушку из ящика? Всяких там зайцев плюшевых. Так вот она тоже выглядит устрашающе, но на полпути всегда слабеет, разжимается и выпускает добычу.
— Это ты-то плюшевый заяц? — он хихикнул. — Не надейся, не выпустим. Тебе придется кое-что для нас сделать. Утром приходи в кафе «Ас Фарпас», позавтракаем. В одиннадцать часов.
Положив трубку, я снова уставился на дверь и вдруг понял, что мне все это напоминает: сцену из моего ненаписанного романа, начало первой главы. «Герой сидит в пустой комнате, качается в кресле и смотрит на дверь. Звонит телефон».
Ничего удивительного в этом нет, я давно знаю, что действительность полна знаков и ожиданий, всяческих coincidence mystique, оживающих, как только ты берешься за перо. Она строит рожи, передразнивая твою мысль, мучает тебя совпадениями, разбивает стекла порывом ветра, как только ты упоминаешь о шторме, да что там — даже книги, случайно открытые на чужой даче, насмешливо преподносят тебе города и пейзажи, которые ты хотел описать. Вот поэтому я и не пишу. Вернее, теперь пишу, но теперь мне уже все равно, как тому испанскому гранду, который, венчаясь с девицей за два часа до собственной казни, легко произнес: сеньора, поверьте, моя жизнь принадлежит вам — совершенно вся, без остатка.