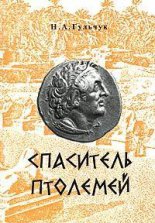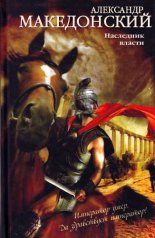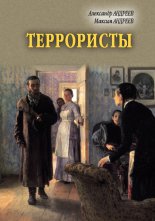Другие барабаны Элтанг Лена

— Я мог передумать, плюнуть на указание мадьяра и вернуться в Лиссабон. Но я послушно пошел в галерею и тем самым лишил себя алиби. Вы не поверите, но одной из причин было желание выложить коралловую цепь на стол перед Лютасом и похвастаться своим мастерством. Я ведь был уверен, что он приедет в «Ди Маре», чего бы ему не приехать, раз пообещал.
— А зачем затевать весь этот балаган с галереей, когда довольно оставить ваш пистолет возле трупа? — адвокат пожал плечами. — Во всем городе с трудом наскребется трое-четверо литовцев, и почти у всех криминальное прошлое. Очевидно, что это они палят друг в друга из допотопных «Дикарей». Рауба — ваш знакомый, оружие взято из вашего дома, экспертиза это доказала, оставалось только вытащить вас на это время в безлюдное место и лишить таким образом алиби.
— Я бы не поехал с ними в безлюдное место! В одном безлюдном месте я уже был и весь вечер любовался перемазанным вишней трансвеститом на экране. Если бы мне просто угрожали, я бы заупрямился. Поэтому мне показали приманку, вроде той, что Тор повесил на крючок, когда поймал Мирового змея.
— И что же было этой приманкой? — его сонные глазки немного расширились.
— Бычья голова с оторванными рогами.
— Я о вашей приманке говорю, сеньор Кайрис.
— Да кража же! Понюхайте, сколько чистого адреналина в этом плане: идти по карнизу зимней ночью, красться мимо охранника, отпиливать руку деревянному тореро, прыгать из окна. Приманкой могло быть что угодно — золотые фалары со сбруи сарматского вождя, помпейский сердолик, микенский перстень с печатью. Ласло просто посмотрел в газету и ткнул пальцем в первую попавшуюся галерею, где проходила выставка. И теперь я не могу объяснить полиции, где провел два с лишним часа. Если бы у меня хватило ума хоть что-нибудь украсть!
— Украсть? Вам мало трех статей, по которым предъявлено обвинение?
— Тогда я мог бы доказать, что не был в это время возле Кабо да Бока.
— Раубу застрелили в одиннадцатом часу ночи. Вы утверждаете, что в это время были в галерее и отключали систему слежения?
— Не совсем. В это время я сидел в темноте, в кабинете хозяина и смотрел на сейф, который нельзя было открыть ключом. А спину мне массировали кожаные валики.
— Допустим, — адвокат поднял палец. — А потом вы вдруг спохватились и выпрыгнули из окна? Трудно поверить в это, assim como трудно поверить в то, что вы остались незамеченным, ведь вы далеко не профессионал. Вы дилетант, сеньор Кайрис, даже врать как следует не научились.
— Что это значит?
— Давайте вернемся в начало истории, — он заглянул в свои исчерканные салфетки, — зачем вы позвонили из коттеджа своей любовнице, когда увидели на экране сцену убийства? Вы что, в самом деле надеялись, что она избавит вас от трупа?
— Да! Я был в шоке, если угодно. Я позвонил Додо в минуту слабости. Через час мне стало ясно, что это бред, поэтому я собрался и поехал на Терейро до Паго, полагая, что, обнаружив тело на самом деле, я смогу более правдоподобно объясниться с полицейскими.
— А я думаю, что вы позвонили ей потому, что догадались, — сказав это, он поджал губы и так широко раскрыл глаза, что я впервые разглядел их цвет.
— Я что сделал?
— Догадались. Вы не испугались, сеньор Кайрис, разве что в первые несколько минут. Вы никогда не боялись вашего опереточного гангстера и его ассистентки, вы не боялись неведомого чистильщика, хранящего ваш пистолет, вы не верили в смерть датчанки и даже в то, что она оказалась там по вызову таинственного политика. Вы сразу почувствовали ловушку, верно ведь? И решили с ними поиграть.
— Чушь собачья. Зачем я тогда помчался домой под проливным дождем, как умалишенный? Зачем я выполнял указания мадьяра, как покорный ишак?
— Ваш мадьяр просто делал свою работу, выполнял заказ того, кто хотел отобрать у вас дом. Трюк с истекающей кровью девушкой — это испытанный способ запугать хозяина. В отчаянии вы просите помощи, ее милостиво оказывают, — упс! — и вы попадаетесь на крючок.
— Я мог обратиться к полицейским, вызвать патруль!
— Если бы вы позвонили в полицию, дорогой сеньор, ваши друзья придумали бы что-нибудь еще. Это не так уж сложно, когда имеешь дело с трусом, к тому же одиноким иностранцем. Но вы ведь не позвонили, Кайрис? Вас не так-то просто провести.
— Вы слишком высокого мнения о моей проницательности. Я поверил во все, как румяное дитя, более того — увидев чистильщика в своем доме, я готов был от страха ползти по лестнице на четвереньках. Зато теперь я вижу все отчетливо, я вижу хорошо спланированное заказное убийство с минимальными расходами.
— Это всего лишь ваша версия, — он зевнул, мягко постучав себя по губам кулаком. — У Ласло Тота, разумеется, будет другая.
— В этой версии есть одна червоточина, — я почувствовал, что весь дрожу от сознания его правоты, мне нужно было собраться и подумать, но в голове было гулко, как на площади в холодный осенний день. — Почему Ласло был уверен, что я полезу в окно, если я сам об этом не знал, когда ночью подошел к галерее? Я сам сомневался и чуть было не уехал домой!
— Это не червоточина, а сладкий признак спелости, — адвокат тяжело поднялся и взял свой пиджак со спинки стула. — Будь вы немного менее самоуверенны, давно бы уже все поняли, но я, пожалуй, оставлю вас в неведении. Долгие размышления к лицу мужчине в вашем возрасте. До встречи на воле, сеньор Кайрис.
Он подошел к двери и нажал на кнопку, вызывая охранника.
— Отказываетесь меня защищать? — я просто ушам своим не верил. — Но вы не можете вот так все бросить и уйти. Я ведь сказал, что смогу заплатить!
— Мне заплатят, не беспокойтесь, — он даже не обернулся от двери, выходя из комнаты.
Нет, он положительно не годится, этот Трута. Разве так говорят с подзащитным? Он бы еще под ноги мне плюнул. Это же комедия какая-то, цирк на дроте, как говорила вильнюсская пани Ядвига. Разумеется, он придет снова, надо же ему на что-то покупать свои сайки с плесневелым сыром. Но что-то он знает, это я сегодня почувствовал. Что-то скользкое и трепещущее, будто смуглый окунь на кукане. Что-то бьющееся о доски мостков, разбрызгивающее чешую, но не дающееся. Что-то совершенно другое, понимаешь, Хани?
Выше них жили эфиопы негостеприимные,
по-звериному обитая в стране, пересеченной высокими горами,
с которых, говорят, течет Ликс.
Теперь я думаю: почему в ту ночь мы так много говорили о смерти? Мы лежали рядом, но одеяло сбилось между нами в плотный ком, и я не чувствовал теткиного тела. В мини-баре кончился запас выпивки, у меня страшно пересохло горло, и я то и дело ходил в ванную и наливал воду в стакан из-под зубных щеток. Зоя рассказывала мне о смерти своей матери: Лиза свалилась ей на руки, когда говорила по телефону в коридоре, собираясь выйти на прогулку. Тетка проходила мимо, услышала сдавленный вскрик, успела ее подхватить — тяжелую, в меховом пальто и сапогах, — но не удержалась и свалилась сама.
— Матери уже не было, а в трубке еще дребезжал чей-то голос, — говорила тетка. — Я подумала, что собеседница, наверное, слышала предсмертный вопль Лизы, но не хочет в это верить и продолжает говорить, надеясь заглушить нарастающее молчание.
— Налить тебе воды? — спросил я, но она отмахнулась.
— Молчание — это не вестник смерти, а само ее существо. Я не могла говорить с врачом, не могла плакать. После того, как маму забрали в морг, я молчала несколько дней. Наверное, потому что я невольно обнялась со смертью на коридорном полу и познала ее внезапную тяжесть и равнодушие.
— Ты не хотела говорить или не могла? — спросил я.
— У меня на самом деле отнялся язык, и когда я вышла в город, чтобы купить траурную косынку, мне пришлось объясняться жестами в магазине, где никто не сжалился и не принес мне листок бумаги и карандаш. В конце концов я купила ленту черного бархата и сразу повязала ее на голову. Лента была мне к лицу, я поглядела в зеркало и подумала, что куплю себе такую же красного цвета, когда траур закончится. И знаешь, Косточка, все, что со мной происходит теперь, — это плата за мысль о красной ленте.
— Глупости.
— Нет, не глупости, одна девочка попала в ад за новые красные башмаки.
— Девочка наступила на хлеб, — поправил я, — это же Андерсен!
— Ты читал в сокращении, — усмехнулась тетка. — Теперь многое печатают в сокращении.
В тот вечер, как только мы зашли в отель «Барклай» и расстегнули ее дорожную сумку, она показала мне последние наброски: лодки под мостом, кошки, голуби и мужчина с крепко сомкнутым ртом, стоящий у письменного стола.
— Это Фабиу, — сказала она неуверенно, и я понял, что она рисовала его по памяти.
— Вылитый Катон из римского музея, — сказал я. — Только его и помню с тех пор, как сдал зачет по поздней Республике. Твой муж выглядит ожесточенным и молчаливым.
— Теперь это не важно, — тетка взяла набросок из моих рук. — Он умер, поэтому и молчит.
Может, оно и так, но обратного хода у этого правила нет — я молчу уже без малого восемь недель и чувствую себя на редкость живым. Давно таким живым не был. Моя память стала резкой и быстрой, сны — цветными, а воображение тащит меня вперед, как мускулистый брабансон.
- Один студиозус из Кракова
- Все прятал всегда одинаково.
Я сунул руку под матрас и достал тавромахию, завернутую в служанкину перчатку. Я бываю на редкость ловким, когда мне на самом деле чего-то хочется. Успел же я сообразить и выгрести ее из тайника, несмотря на приступ астмы и полный дом полицейских. Все утро верчу свою игрушку в руках и думаю о том, что скажу адвокату, который явится после обеда. Он не слишком себя утруждает, этот boa-vida, высиживает ровно сорок минут, смотрит на часы и принимается запихивать бумаги в портфель. Я пытался спрашивать адвоката прямо — Лилиенталь тебе платит или другой кто? — но он только надувает губы и цокает языком, будто продавец на блошином рынке. Нечего цокать, все равно это Ли, больше некому.
Зачем ему трехэтажная халупа без лифта и без единого пандуса? Или он надеется, что служанка вернется и станет носить его на спине, будто фонарщик свою лестницу?
«Есть вещи, которые просто не происходят». © Лилиенталь.
Ты слишком быстро вырос, пако, сказал он однажды, разглядывая меня ранним утром. Я оставался ночевать в Шиаде и вышел к завтраку в его пижаме, на размер меньше, чем надо. Раньше мальчики росли медленнее, сказал он тогда, у тебя от быстрого роста сквозняк в груди, ты только тем и занят, что расцарапываешь свои детские ссадины. Это все гноится, подтекает непрощением и никогда не заживет, как никогда не заживут мои раздробленные колени. Есть вещи, которые просто не происходят! Завтрака в доме не оказалось, даже кофе не было, и мне пришлось отправляться за едой самому, накинув плащ поверх пижамы, — в этой части Шиады подобный вид никого не удивляет.
Бог знает чем душа засорена, услышал я, когда появился в дверях с горчичными сайками в мятом пакете. Ярость, вот что тебе нужно, ярость, а не шум, пусть эта рана станет смертельной, как пишут на желобке ножа сицилийские рыбаки.
— Ты это о чем?
— Я тут сидел и думал о твоей рукописи, — пояснил Лилиенталь, набивая рот горячим тестом, — ее же в руки страшно взять, вся на фасетки рассыпается стрекозиным глазом.
— Разве не такой должна быть литература? — спросил я, отбирая у него последнюю сайку.
— Не такой! Литература — это умение жить как человек, никогда не слыхавший о смерти. Умение отращивать себе сколько угодно рук и ног, способных в мгновение ока дотянуться до чужой жены или до бутылки, умение подтираться гусятами и смеяться густым карнавальным смехом. Память должна проступать медленно, как веснушки на солнце, это ты верно написал, только не веснушки, пако, какие еще, к черту, веснушки. Пиявки, пако! Если ты взялся за воспоминания, так спусти дурную кровь, не давай ей загустеть и отравить твое тело, тебе и так скоро умирать, осталось лет сорок, а то и меньше, а ты все играешься, и нечего морщиться, пойди свари лучше кофе.
Поверишь ли, Хани, услышав это, я чуть было не бросил писать вообще. До сих пор у меня перед глазами его обметанные белым губы, произносящие: все-то ты пальчиками, натужно, ан нет облегчения. Так и треснул бы по этим губам, не будь он беспомощной, ломкой вязанкой хвороста!
Сегодня в тюрьме тишина, даже музыка в соседней камере пропала, а до этого гремела без передышки двое суток, я уже привык развлекать себя угадыванием музыкальных отрывков.
Ты будешь смеяться, но с утра я лежал на своей скамье, обмотав поясницу одеялом и вытянувшись, как мертвый тореадор на картине Мане, потому что у меня ноют кости, и полно разболтавшихся железных болтов в крестце, похоже это самый настоящий тюремный sindrome.
Я смотрю на стену, вижу на ней контур неизвестного острова и думаю о том, как выглядит Исабель с птичьего полета. Бога ради, думаю я, наблюдая, как солнечный луч перемещается по острову с юга на север, зачем им было накручивать такой сложный сценарий? Для того, чтобы выкупить мой дом, не дав мне возможности вовремя заплатить долги? Я бы их и так не заплатил, но сценарист не хотел рисковать. Сунуть хозяина в тюрьму, сообщить властям, что он отказывается участвовать в аукционе, и тихо купить здание по цене козы или гиматия, а то и вовсе за пару медных оболов. Все сломать и построить гостиницу с видом на мост Васко да Гамы.
Грамотно придумано: ясно, что я растеряюсь и от великого своего ума поверю в то, что являюсь главным подозреваемым. Вот оно, неистребимое малодушие эмигранта, кротость и послушание человека в старой шинели, человека без друзей и без денег, да чего там, человека без лица. Ясно, что чувство вины за то, чего я не делал, смешается в моей голове с чувством вины за то, что я сделал, и затопит мой воспаленный мозг паникой, будто подкрашенным красной глиной ячменным пивом, которое боги выдали за кровь, заливая им поля и жилища египтян.
Судя по вспыхнувшей лампе, уже не меньше девяти, а про ужин они забыли, придется доедать киснущие в молоке хлопья, которыми я с утра побрезговал. День кончается, когда в камере включается свет. На лампочку я надел абажур из газеты, чуть шею не сломал, когда пытался дотянуться до нее, встав на скамью. Пожара бояться не стоит, кроме пары книг и моей тряпичной постели гореть здесь нечему.
Нечему гореть, нечему быть сломанным, нечему быть съеденным, нечему быть украденным.
Я живу как даосский монах из книги Пу Сунлина, только без тыквы-горлянки.
покроет факты лак
засахарится вещь слежится как табак
— Почему ты не женился на Елене? — спросил я однажды у Лилиенталя, — и почему ты вообще не женился? Ты ведь не педик, насколько я знаю.
— А насколько ты знаешь? — фыркнул он, растирая в пальцах стебель одуванчика. Траву я в то лето не косил, и крыша заросла крупными рыжими одуванчиками, занесенными откуда-то ветром. Мы сидели на крыше и смотрели на город в сумерках, я был рад тому, что Ли мог забраться наверх своим ходом, достал для него бутылку из погреба и принес колотого льда.
— Видишь ли, пако, когда-то в детстве я читал книжку одного англичанина, просто классную книжку, почище твоего Хамфри Клинкера. Там упоминался мальчик лет двенадцати, собиравшийся убежать из дому, он смастерил себе паспорт, а в графе «род занятий» написал: путешественник, сирота и холостяк. К тому времени я уже был сиротой, так что пообещал себе две оставшихся ипостаси. Не мог же я сам себя подвести!
— Елена не стоила того, чтобы смастерить себе другой паспорт? — спросил я, опасаясь, что он спросит, почему я сам-то не женился. Скажи я ему правду, Ли замучил бы меня насмешками. Я мог бы сказать, что был занят делами поважнее, но он видел меня и мои дела насквозь.
— Ладно, скажу. Она была как зеленое блестящее яблоко, ее все время страшно хотелось надкусить, а надкусив — сразу хотелось избавиться от нее как можно скорее. Кислый огрызок, облепленный муравьями, вот что было у нее внутри. Порывистые женщины часто носят в себе такое, этим они похожи на смерть. Вся разница в том, что от женщин можно избавиться.
Тебе, Хани, мой приятель, наверное, представляется этаким пустопорожним болтуном в халате с кистями, развалившимся в креслах и пропускающим время сквозь длинные наманикюренные пальцы. Но видишь ли, чтобы представить себе Лилиенталя целиком, нужно знать о нем некоторые вещи, совершенно не совпадающие с тем контуром, который я здесь набросал.
Не жди, что я стану живописать его биографию и рассказывать о торговле оружием, неудачной сделке с царем Менеликом и любовнице-эфиопке, хотя мог бы — в юности Ли был самым натуральным жиголо и жил за счет престарелой пианистки и еще нескольких почтенных старушек лет пятидесяти. Однажды он рассказал мне, что зимой девяносто первого, оставшись без жилья, поселился у одной богатой дамы в ее пустынном доме в Портимао, где ему было скучно и голодно, к тому же приходилось по пяти раз на дню ублажать хозяйку.
— Удивительно, как женщина меняется, стоит ей чуть-чуть привыкнуть, — сказал он тогда, — к началу второй недели дама перестала надевать жемчуг к обеду и вваливалась в мою спальню без чулок — на босу ногу, пако! — а иногда даже в банном халате. К тому же она стеснялась моего присутствия и прятала меня в гардеробной, когда к ней приходили подруги или какой-нибудь несчастный обойщик. Однажды я провел в душной комнатушке полтора часа, перечитал все дамские журналы, озверел и вышел в гостиную, где они играли в бридж, предварительно раздевшись догола и завернувшись в оперное боа из перьев. Представь себе, она взбесилась и выставила меня на улицу!
Сегодня Трута принес мне плохие новости и булку с кунжутом.
Глядя на адвоката, я вспоминаю портреты голландских торговцев кисти какого-нибудь Франса Хальса, — отекшие равнодушные глаза, сто лет не стриженные волосы, мягкие шея и рот, а с булкой в руке — так просто вылитый амстердамский пекарь! Я сказал ему, что рад его видеть. И что ни минуты не сомневался в том, что он вернется, хотя три дня назад он послал меня к такой-то матери. Еще я сказал ему, что скучаю по реке Тежу, мне было бы легче переносить заключение, если бы я мог слышать ее звуки, или хотя бы гудки пароходов.
Вода успокаивает, мне с детства казалось, что если близко вода, то можно удрать от неприятностей — в хороших книгах у причала всегда стоит брошенная лодка или хотя бы плот из разбухших бревен, перевязанных тростниковой веревкой. Не помню — где я читал о глупом англичанине, проводившем жизнь на корабле и причалившем к берегам Англии, будучи в полной уверенности, что открыл острова в Южных морях? Может быть, мои грезы об Исабели тоже закончатся у клайпедских берегов, сказал я адвокату, ведь меня непременно вышлют в Литву.
— С какой это стати, — он помотал головой и протянул руку к моей булке, этот парень не может и пяти минут провести, чтобы не пожевать какую-нибудь сдобу. — Никто вас не вышлет, сеньор Кайрис, как раз наоборот, я намерен вытащить вас отсюда. К тому же — в вашем деле появились новые занимательные обстоятельства.
Два вопроса мгновенно забили мне горло, будто сырой хлопок: кто заплатил и что, черт возьми, за обстоятельства. Но я уже научился не спрашивать попусту.
— Мы должны начать с перекройки ваших показаний, — адвокат встал и подошел к окну. — Завтра Пруэнса вызовет вас для очной ставки с мадьяром, он у них единственная игрушка в этом деле, так что использовать его будут totalmente, на всю катушку. Скажите, что в тот вечер, когда произошло убийство, вы вломились в галерею, отключили сигнализацию, вошли в кабинет хозяина, но не смогли открыть сейф. Резервная система сработала, вы испугались и выпрыгнули в окно. Одним словом — скажите им правду.
— И что с того? Я уже говорил про галерею на прошлом допросе, так мадьяр даже глазом не моргнул. Мое слово против его слова, а мое слово ценится здесь дешевле жареной сардинки.
— Вы ведь читаете классику, друг мой. Помните историю про Зигфрида и драконье сало, сделавшее его тело неуязвимым? Все тело, кроме одного местечка между лопатками.
— Вот не подумал бы, что вас интересует «Песнь о Нибелунгах».
— Отчего же? Я, правда, читал это в переводе, скрывать не стану. Нашейте, коли так, на пышную одежду ему условный знак, — произнес адвокат, отстукивая ритм пальцами по стеклу. — У вас тоже есть крестик, делающий вас беззащитным. Вы были в тот вечер в галерее, а значит, никак не могли оказаться на другом конце побережья, чтобы убить Раубу и сбросить его со скалы. Но вы ничего не украли и доказать свое алиби не можете. Неужели трудно было унести хотя бы мелочь?
— Я просто перетрусил, сирена завыла, и у меня отказали все чувства сразу, — я подумал, что это забавно, оправдываться перед адвокатом по уголовным делам за то, что не успел ничего украсть. Еще я вспомнил, как в тартуском кафе тетка рассказывала, как в Риме она украла краски в магазине писчебумажных товаров и чуть было не попалась.
— Я долго смотрела на эту коробку с тубами, — сказала она гордо, — ждала, пока меня заслонит кто-нибудь из серьезных покупателей, потом протянула руку и сунула ее под пальто. Это были «Artists», на маковом масле, двенадцать цветов и пробный тюбик с вермильоном!
— Значит, тебя не поймали?
— Нет! Меня могли забрать в участок, если бы застукали, и даже выслать из страны — с моими жалкими эмигрантскими бумажками, — но я совершенно не боялась, совсем была глупая.
— А было у тебя в жизни хоть что-нибудь, чего ты боялась? Ну, так, чтобы ноги леденели?
— Было дважды, — сказала она быстро и подняла два пальца. Подавальщик тут же принес еще два кофе, похоже, он глаз с нее не сводил.
— Однажды зимой я оставила Агне в булочной. Не забыла, а нарочно оставила, на полке с миндальным пирогом, уложенным в солому. В декабре мой бывший муж привез ее в Лиссабон, у него появилась женщина, и приемная дочь ее раздражала. Эзра позвонил мне из автомата, убедился, что я дома, посадил девочку перед дверью на плетеный коврик, дал ей в руки куклу и ушел. Детские вещи пришли посылкой, спустя две недели, обратного адреса на коробке не было, штемпель был не венский, и я поняла, что он переехал.
Агне плакала сутки напролет, как будто ей было не два года, а два месяца — я просидела дома несколько отчаянных дней, пока мне не позвонили с работы и не сказали, что собираются найти замену. Я бросилась к соседке, выгребла все деньги из карманов, уговорила ее остаться в квартире до вечера и поехала к хозяину просить прощения. Три недели я отдавала соседке все, что зарабатывала, потом у меня отключили отопление, на улице было десять градусов, а в комнате — восемь, уж не знаю почему. Единственным источником тепла была Агне, раскаленная от плача, и я сидела возле нее, будто возле очага, думая о том, что завтра не будет даже молока, если я не выйду утром на работу. Я просидела так до сумерек, потом вынула из шкафа аптечку, доставшуюся мне от прежних жильцов, нашла там микстуру с белладонной, накапала на кусок булки и дала дочери пососать мякиш. Дождавшись, пока она уснет, я завернула ее в одеяло и быстро пошла в сторону Кампо Гранде, не слишком хорошо сознавая, что я буду делать.
Из окон монастырской булочной потянуло горячей ванилью, я зашла туда, купила barriga de freiras на последние триста эскудо, положила дочь на полку, прямо в солому, и ушла. Через десять минут я вернулась, вся в холодной испарине от ужаса, за это время я успела дойти до угла, выкурить там сигарету и вернуться бегом. Пока я бежала вдоль монастырской стены, мне показалось, что Агне несет на руках проходившая по другой стороне улицы женщина, — я кинулась через дорогу, ворвалась в булочную и увидела свою дочь, тихо лежащую среди черствых ломтей миндального пирога. Она даже не проснулась. Представляешь себе этакое умопомрачение?
— А второй раз когда? — я допил остывший кофе и стал перебирать мелочь в кармане.
— Второй раз случился два года назад, когда Фабиу вызвали на допрос в Департамент полиции. По поводу той девочки с нашей улицы, Мириам. Когда он уходил, я дала ему зубную щетку, и он сунул ее в карман пиджака, будто шариковую ручку. Я была уверена, что он не вернется, я же знала, что он замешан, только не знала, куда он спрятал тело. Несколько часов я просидела на террасе, разглядывая реку и думая, что мужа скоро посадят в тюрьму, а меня выставят на улицу. Дом мне одной не потянуть, impossvel, impossvel. Придется идти на панель, думала я, глядя на воду, дочку отдам в приют, куплю красные лаковые туфли и пойду стоять на углу Руа до Арсенал. Меня станут раздевать в портовых гостиницах и валить на пружинную кровать, через пару лет придется перейти на Руа Леонилла, а там уж и за двадцатку стану соглашаться.
— То, что ты описываешь, не похоже на ужас, — я сказал это просто, чтобы ее перебить. — Это тоска.
— Тоска, ужас — один черт, — она достала пудреницу и принялась вытирать губы. — И то и другое только способы смещения, постепенного соскальзывания в хаос. Давай я лучше расскажу тебе, что было потом: Фабиу отпустили, он впал в депрессию, а через месяц дочь рассказала мне, что он к ней приставал. Я ворвалась к нему утром, кричала, что пойду в полицию, что не дам ему угробить вторую девочку, так же, как он угробил первую. Я выкрикнула имя Мириам. Он посмотрел на меня с отвращением, пошел в столовую, снял со стены пистолет, встал под дверью материнской спальни и выстрелил себе в голову.
— А ты что сделала?
— Я сожгла его в печи, купила себе деловой костюм и нашла работу в агентстве по продаже домов.
— Трудно продавать дома? — я так растерялся, что не знал, что еще спросить.
— Нет, работа пустяковая, если усвоить разные трюки. В пустом доме нужно говорить тихо, чтобы покупатель не испугался эха. Калитка сорвалась с петель и валяется в лопухах? Ничего, это говорит о том, что у дома есть прошлое. В камине скопилось полтонны сажи? Это говорит о хорошей тяге. Одним словом, нужно уметь делать безмятежный вид.
Господи, делать безмятежный вид. Тетка, tia, irm da me, Зоя. Она так умела делать безмятежный вид, что я не понял, что с ней происходит, пока она не умерла. А теперь поздно маяться, маятник загудел латунно, чиркнул по стенкам и остановился. Поздно даже писать об этом, есть вещи, которые не поменяешь, хоть тысячу раз их опиши. Это вообще всех вещей касается, между прочим.
В кровли вонзившись, торчат частоколом на хижинах стрелы,
И на воротах засов в прочность не верит свою.
Сегодня было прекрасное утро, лучшее за все тюремное время, я так разволновался, что бросился писать тебе, не дожидаясь прогулки. Обычно я откладываю это на вторую половину дня, чтобы было чего дожидаться. Солнце разбудило меня в шесть утра, небо казалось таким синим, хрустящим, будто крахмальное белье, что я забрался на стул, подтянулся, высунул голову в окно, и стоял так, пока руки не заболели. В последнее время мне наплевать на то, что кто-то посмеивается над моими прыжками, глядя на экран в комнате охранников.
Более того, я думаю, что никто за мной не наблюдает: камера слежения могла остаться от прежнего сидельца, серийного убийцы или врага какого-нибудь народа, есть же у Португалии враги, не может не быть. Во дворе все выглядело по-прежнему, правда, голый куст у забора за ночь расцвел и оказался не бузиной, а мимозой. У подъезда на скамейке сидел скучающий мальчик лет девяти, поднявший голову, как только я на него посмотрел.
— Эй, — сказал он, помахав мне рукой, — ты чего там делаешь? Воруешь?
Я слышал его так ясно, как можно услышать человека только апрельским утром в пустом и гулком дворе-колодце. Лицо мальчика казалось мне смутным пятном, а спускаться за очками не хотелось, я представил его курносым, похожим на Рамошку, и ответил честно:
— Уже своровал. Теперь сижу. А ты что делаешь?
— Ты иностранец? — спросил он, слез со скамейки и подошел под окно, теперь я различал что-то круглое в его руке, поначалу я принял это за каучуковый мяч.
— Иностранец, — сказал я неуверенно. — Русский. То есть литовец.
— Русский? Ваши классно играют в хоккей, побили канадцев прошлым летом. Я все игры смотрел.
— Ты живешь в этом доме? — мне не хотелось, чтобы он уходил.
— Нет, меня к бабушке привезли. Лови! — он размахнулся и бросил в меня своим мячом, я чуть с окна не свалился от неожиданности. Литыми мячами из каучука играли в племени майя, такая игрушка запросто сносит голову с плеч. Мяч угодил в стену в метре от моего окна, но не отскочил, а глухо шмякнулся, оставив пятно желтоватой яблочной мякоти.
— Черт, — сказал мальчик, — погоди, не уходи, я сейчас.
Он скрылся в подъезде на несколько минут и тут же вышел с оттопыренными карманами и принялся швырять в меня яблоками, приговаривая:
— Вот сейчас попаду. Нет! Тогда это. Эй, вытяни руку! Самое большое! Лови же, растяпа!
И я поймал. Поймал, отпустив подоконник, покачнулся на стуле и свалился на пол, странно, что на грохот никто не явился, чтобы отобрать у меня добычу. Хани, это было кислое зеленое яблоко, твердое, как кусок бирюзы! Хотел бы я увидеть сад, в котором растут эти яблони. Я сидел на койке, потирая ушибленное колено, грыз яблоко, чувствуя, как нёбо набухает оскоминой, и представлял, как пацан стоит в кладовке своей бабушки и торопливо набивает карманы, чтобы угостит незнакомца. Яблоки, наверное, лежали вроссыпь на какой-нибудь старой газете.
В моем собственном чулане они лежали на пожелтевшей «О Sculo», которая перестала выходить примерно в то же время, когда я родился. Я обнаружил их в тот день, когда хоронили тетку, искал приличную выпивку, а нашел груду ранеток.
— Хочешь, испеку для тебя шарлотку? — сказала тогда Агне. — Не выбрасывать же!
Я слышал, как она шуршит газетой, как глухо стучат яблоки, перекатываясь в фаянсовую миску. Яблоки, не успевшие стать вареньем для безумного чаепития, купленные, наверное, в один из последних теткиных дней. Это было в четыре часа, задолго до прихода нотариуса. Когда, спустя несколько часов, сестра сказала мне, что ждет ребенка и хочет остаться в доме, пока не вернется ее жених, признаюсь тебе, я испугался. Они с женихом собирались ехать в Агбаджу вдвоем, сказала Агне, но теперь мама умерла, все изменилось, и ей хотелось бы остаться здесь, в доме, на некоторое время, хотя бы до родов.
— Остаться здесь? А где ты раньше была? — спросил я, нарочно повышая голос.
Мне почему-то хотелось, чтобы меня услышали в другом конце гостиной, где гудели, собравшись у стола с угощением, родственники Брага. Сестра стояла передо мной молча, опустив лицо. Черное креповое платье, найденное в шкафу у Лидии, было ей велико и волочилось по полу.
— Где ты была, когда Зоя оставалась одна с бестолковой марокканкой? Где тебя носило, когда ей нужна была терпеливая дочь, а не шалава-проповедница?
Сам не знаю, зачем я это сказал, но траурные цикады перестали хрустеть печеньем и уставились на меня с отвращением. Я позволил себе кричать на сироту!
Ладно, я испугался, ты и сама это видишь. Я подумал, что Агне застрянет в моем только что обретенном доме, родит свое никому не нужное дитя, передумает выходить замуж и повиснет у меня на шее. Тетка писала мне о своем разладе с дочерью, там было что-то смутное, келейное, топкое, не похожее на семейную ссору. Еще тетка писала мне, что стрелки стали крутиться вдвое быстрее, и торопила меня с приездом, и если кого-то здесь можно было спросить: Где ты был? — так это меня самого. Агне отступила на шаг и посмотрела на меня снизу вверх.
— Ты не пустишь меня? — спросила она тихо. — Но мне же некуда ехать, пока не начнется новый контракт в миссии. Боюсь даже думать, что скажет мой жених, когда узнает наши новости, особенно новость о потерянном наследстве.
— На пару дней, не больше.
— Ну спасибо, братец, — она повернулась и пошла прочь, необычно прямая, пышная и мрачная, как черный гладиолус.
Завещание застало меня врасплох, да и сеньора Кордосу тоже — он сказал, что Зоя приняла это решение за два дня до смерти, она не хотела ждать ни минуты, и ему пришлось ехать в Альфаму из загородного дома, пробиваясь через воскресные пробки.
Когда тетка приезжала в Литву в последний раз, я с ней почти не разговаривал, когда она звала меня, я не приехал. Я старался не встречаться с ней взглядом. Я был зол на нее как черт. Я не мог поверить, что был влюблен в эту хворую старуху, целовал ее ноги и запирался в ванной, чтобы понюхать ее махровый халат. Как она могла так со мной поступить, думал я, в таком виде ей следовало остаться дома и не показываться мне на глаза. Одним словом, будь я на месте Зои, оставил бы такому племяннику два сентаво, плетку и мышеловку с дохлой крысой.
Помню, как я стоял за дверью вильнюсской кухни, где мать разговаривала с теткой, устроившись за столом с немытыми бокалами, это было утро первого января. Мне только что позвонил Лютас, и я собирался уходить, но задержался в коридоре, услышав незнакомое слово билирубин, произнесенное матерью так ласково, будто это было человеческое имя.
— Лидия умерла, оставив ему полуразрушенный дом-лабиринт, груду канделябров и свои облезлые меховые боа. Сорок миллионов эскудо достались сестре, которая тут же уволилась из муниципальной школы и уехала в Макао искать увеселений, — сказала тетка. В ее голосе не было горечи, что до моей матери, то она чуть было не разрыдалась.
— Боже мой, Зоя, теперь ты вдова со средствами, а я никто, медсестра с незаконным сыном, — сказала мать, сморкаясь в салфетку. — Помнишь, когда ты уезжала из города с ребенком, улетала в Вену с этим курчавым муженьком, невесть откуда взявшимся, я не пришла тебя провожать. Это не потому, что ты мне сводная, а не родная, это потому, что я трусила. Ты была такой жалкой, поруганной, и я тебя стыдилась.
— Хорошо, что ты мне не родная, — весело сказала тетка, — а то бы я ни за что тебя не простила. Но теперь-то уж завидовать нечему, ты же знаешь, что все кончится довольно быстро.
Я вошел в кухню, и обе посмотрели на меня, как на чужого.
Всю дорогу до проспекта, где ждал меня вернувшийся из Германии Лютас, я катал этот билирубин за щекой, но увидел друга возле колокольни и тут же все забыл. Зимнее солнце билось в стеклянной авоське оперной крыши. Мы стояли на площади — молодые, голодные самцы коноплянки, держащие клюв по ветру, у нас была фляжка с черным ромом и новая, свежераспечатанная тысяча лет, которую нам вот-вот обещали сдать, словно покерную колоду.
— И на хера ты три с лишним года растранжирил у эстонцев, — сказал Лютас, — надеюсь, хоть повеселился. Как поживает голубой доцент? Ну, тот, которому мы устроили сцену из Дерека Джармена: ревнивый любовник протыкает юношу гусиным пером.
— За эту сцену они меня и выгнали, — сказал я, — так что все вышло по-твоему. Что до меня, я бы еще годик поучился, чтобы до бакалавра дотянуть. А что твоя невеста?
Я брякнул это и тут же пожалел, что заговорил о Габии. На языке у меня сразу появился ментоловый привкус, я помнил его с той школьной вечеринки, где ближе к полуночи выключили свет и стали вертеть бутылочку из-под наливки. Поцеловать Габию мне выпало под самый конец, зато она сделала все честно, губы ее отдавали мятой, будто таблетки от кашля. Хотя не уверен — я так часто видел их с Лютасом поцелуи, что, вполне вероятно, почувствовал вкус своей собственной зависти.
— Лепит своих пупсов, что ей сделается? — мы остановились напротив билетной кассы, где грелась на солнышке городская сумасшедшая в лисьей шапке с двумя хвостами. Люди, покупавшие билеты в оперу, часто отдавали ей мелочь, мы тоже выгребли серебро из карманов и высыпали в пятнистую руку, похожую на хвост аквариумной рыбки гурами.
— Габия не пропадет, это точно.
— Вернусь из Германии и женюсь на ней, наверное. А что твоя эстонка?
— Я на ней женился.
Он насмешливо покачал головой. Представь себе, Хани, он не поверил.
Вернувшись с прогулки, я решил проверить эту новость на домашних и сразу зашел в кухню, где тетка и мать все еще сидели за столом — в сумерках, у остывающей печки. Столетний клен за окном качался от ветра, и по стенам кухни бежали лиловые разлапистые тени.
— Мама, я не говорил тебе, что женился в Эстонии?
— На ком? — спросила мать, даже не взглянув в мою сторону.
— На эстонке.
— Вот ведь дурак, — сказала мать, обращаясь к тетке, на меня она даже не смотрела.
— А по-моему, молодец, — ответила та, встала, щелкнула выключателем и подошла ко мне, протягивая руки, чтобы обнять. Я возмущенно увернулся. Из угла, где сидела мать, донеслось хмыканье, похожее на тихий звук, с которым раскрывается стручок акации или, скажем, взрывается орех гамамелиса.
В ботаническом саду в Кайренай, где мы с одноклассниками работали после занятий, была теплица с тремя кустами гамамелиса, в коробочках было полно прошлогодних семян. Я от них оторваться не мог, все ходил вокруг да около, пока не изловчился и не завладел двумя орехами. Помню, что показал их Лютасу, и он усмехнулся — у них в классе трудовым воспитанием называли наматывание медной проволоки на катушки для электромоторов.
Руки у него всегда были ловкие, и сам он был как черт ухватистый. Помню, что кино, которое Лютас намеревался снимать у меня в доме, занимало меня гораздо меньше, чем приготовления к нему. Я ходил за другом, будто за фокусником, пытаясь подстеречь появление белого кролика, наблюдая, как домобрастает картофельными глазками камер в самых неожиданных местах. Подай молоток. А сейчас кабель. Раз, раз, и готово.
Пацаном я любил забираться в соседский сарай, где в дальнем углу матово блестел разобранный станок, а над ним с потолка спускался шнур, перебинтованный синей изолентой, — без лампочки он выглядел как веревка спелеолога, брошенная в пустоту. Пахнущие канифолью или дегтем приметы мужской жизни погружали меня в забытье, я мог торчать там часами, бездумно перекладывая вещи с места на место. Я даже знаю почему. Все тиски, долота и плоскогубцы в мире представлялись мне вещами Франтишека Конопки, за которыми он однажды вернется.
How Much Wood Would a Woodchuck Chuck
if a Woodchuck Could Chuck Wood ?
В бабушкиной квартире была детская с высоким окном, а внизу, в сарае, стоял велосипед, смазанный, со скрипучим седлом, мне обещали подарить его, как только дорасту до взрослой рамы, и за это я многое готов был терпеть. Зато няне через неделю пришлось искать другую работу — они с Йоле не поладили. Не помню, с чего там началось, кажется, с песенки, которую няня пела мне на ночь, приходя в детскую из своей комнаты, где помещалась только раскладушка.
- У богатых деток елка.
- Что за сладости, игрушки!
- А у нас с тобой, Николка,
- Лишь мороз один в избушке.
Услышав этот куплет, бабушка вызвала няню к себе и сказала, что я уже вырос, считаю до ста и бегло читаю на двух языках, одним словом — я повзрослел, и няня мне больше не нужна. Теперь она, Йоле, справится сама, пусть это и будет стоить ей времени и беспокойства, она, мол, в долгу перед семьей и намерена все искупить. Представляю себе, с каким лицом она произносила эту речь. Прямо-таки вижу это длинное, напудренное, жертвенное лицо с шевелящимся, как розовая актиния, размазанным ртом.
Когда я уехал в Тарту и поступил в университет, Йоле присылала мне деньги в конвертах с неизменной припиской, где указывалась сумма потраченного на меня к этому дню капитала и напоминание о том, что все придется вернуть, когда я встану на ноги. Я видел, как рос этот чудовищный счет, и внутри меня что-то дрожало, будто вольфрамовая нить.
Я боялся, что однажды зайду к бабушке в спальню, возьму бронзовую лампу с медведем и разобью ей голову. Однако, возвращаясь домой, я первым делом бежал к ней здороваться и долго еще сидел на жестком курульном креслице, выслушивая ее обиды на мать, на покойного мужа, на продавцов в обувном магазине, на весь белый свет. Любовь к ней уживалась во мне со стыдом и жалостью, а это чертовски крепкая смесь, цемент на яичных желтках.
Любовь к тетке имела вкус внезапной свободы и pasties de Belem. Однажды тетка прислала их с оказией, в шляпной коробке, мы с Лютасом поделили добычу пополам на заднем дворе, усевшись с ногами на скамейке, и быстро уплели черствые корзиночки, запивая водой из колонки. Но не стоит об этом, во рту и так голодный привкус ацетона. Сегодня мне не досталось адвокатовых бутербродов, чем чаще он приходит, тем прохладнее держится. Я уже начал скучать по его фырканью и похлопываниям по спине, от которых гудит позвоночник.
— Вы легкая добыча, сеньор Кайрис. На таких, как вы, раньше охотились простым и забавным способом, — сказал он, входя в комнату, и кивнул охраннику, чтобы тот запер дверь. Что меня удивляет в этой тюрьме, так это ключи — лязгающие, старомодные связки, похожие на трубки, из которых мы с Лютасом стреляли по прохожим горохом, забравшись к Раубам на чердак.
— Вот как?
— Нужно было положить зеркало в высокую траву, тигрица принимала свое отражение за тигренка и принималась его кормить, так и кормила, пока охотники не окружали ее на поляне с хохотом и воплями, — он принялся расстегивать пиджак, обдавая меня анисовым духом. Я с трудом узнавал своего Труту. Его шея пестрела мелкими порезами, иссиня-черная грива была смазана воском, и весь адвокатов вид выдавал готовность к вечеринке.
— У меня есть полчаса, не больше, — сказал он, выдержав паузу и усаживаясь за стол. — Соберитесь и расскажите мне все сначала, без жалоб и приступов ненависти. Итак, ваш поход в галерею был идеей мошенника. Идеей, пришедшей ему в голову после неудачи с первым делом — то есть присвоением вашего наследного дома в Альфаме. Этот венгр Ласло свалился на вас с небес, с Раубой они даже не знакомы, и ваша прежняя версия о причастности покойного режиссера к истории с галереей развалилась. Я правильно понял?
— Разумеется! Поймите же вы, это две разные истории, они слиплись случайно, как две бабочки под дождем, но они высохнут, разъединятся, и все станет ясно. Тот, кто придумал трюк с ограблением, хотел заставить меня сделать чужую работу — украсть вещи, за которые ему предлагали хорошие деньги. Я все равно был у них на крючке, надо же было меня использовать. Я прилично разбираюсь в охранных системах и сумел зайти внутрь, но дальше все пошло наперекосяк. Мне дали ключ вместо кода, и я не смог открыть сейф с кораллами.
— Сейф, в котором ничего не было? Кораллы, которые еще не выросли на дне морском? Сеньор Кайрис, откройте же глаза. Это стыдно, в конце концов. Впрочем, кто я такой, чтобы открывать вам глаза? Вы не оплачиваете моих счетов, а мой наниматель сделает это не раньше мая, после того, как ваше дело будет передано в суд, — он зевнул и потянулся, зажмурившись.
— Послушайте, я готов заплатить вам сколько нужно, когда выйду отсюда, у меня есть тайник с золотыми вещами, я продавал их понемногу, но там еще осталось приличное колье, его можно выставить на аукцион. Сколько вы хотите? Пять тысяч, шесть, семь?
— Господь с вами, amigo meu, — Трута поставил свой портфель на колени и принялся его застегивать. — Брать с людей деньги за такую работу это все равно, что присылать счета за свет в конце тоннеля. Я согласен на семь, разумеется. Тем более что это всего лишь умозаключения, а они немногого стоят.
— Говорите.
— Не уверен, что моя версия вам понравится. Это был обычный fraude, мошенничество со страховкой. Никаких мифических четок от вас не требовалось, нужно было всего лишь взломать систему и как следует нашуметь в галерее в последний день выставки. Под это дело компания списала груду экспонатов и рано или поздно получит страховку по меньшей мере тысяч на двести. Вас никогда не поймают, потому что вы дилетант и к вам не ведет ни один след.
— Так уж и не ведет?
— Это же натурально, сеньор Кайрис, вы — пустышка, человек ниоткуда.
— Вы хотите сказать, что я исполнял роль троянского коня без воинов внутри. Но если это так, почему сейф был заперт, а ключ мне не принесли? Ведь они могли получить мои отпечатки на внутренней стороне сейфа и сделать картину еще более правдоподобной.
— Роль коня? Нет, скорее роль голубя, — он ласково усмехнулся. — Местные целители считают, что при укусе гадюки нужно приложить к укушенному месту анус живого голубя и держать, пока птица не перетянет в себя весь яд. Именно так вас и приложили. Вы должны были стать дерзким и опытным грабителем, не оставившим пальчиков. Под это дело они списали бы целую выставку, а если бы вас поймали, вы бы отрицали все так горячо, что сели бы лет на двенадцать, не меньше.
— Слишком сложно!
— Нет, вы, пожалуй, не голубь, — сказал адвокат, переминаясь у двери, в которую он постучал уже несколько раз, — для голубя вы слишком неотесанны. Почему таким, как вы, кажется, что человек, не читавший Ролана Барта, не в состоянии выставить вас идиотом?
— Трута, вы стали обращаться со мной как с больным. А раньше мы говорили как друзья, — я вдруг страшно захотел, чтобы он вернулся к столу и сел. Еще одна подделка? Но что-то же должно оказаться настоящим. Не было того, не было этого, а что тогда вообще было?
— Что ж, до завтра, — весело сказал адвокат, дождавшись охранника.
Мне показалось, что, если он выйдет за дверь, стены комнаты начнут сходиться, как небеса с землею в шумерском зиккурате. Да нет, какой там зиккурат, к этой тюрьме больше подходит библейское слово авадон — место исчезновения, или дума — место неподвижности. Я исчез и неподвижен, вот что со мной случилось. Но был ли я подвижен, пока не исчез?
— Нет, не до завтра. Сядьте и записывайте. Я украл тавромахию.
— Вы украли что? — адвокат прикрыл дверь и посмотрел на меня, наморщив рот.
— Античную жанровую сцену, нарисованную на пластинке слоновой кости. Она лежала в витрине, я разбил стекло, и сигнализация сработала. Это прямая улика, не так ли?
— Это улика, — он сокрушенно вздохнул. — Можете представить ее следствию?
— Разумеется. Это подтверждает, что я был в тот вечер в галерее и не мог совершить убийство. Я же не мог оказаться в двух местах одновременно.
— Значит, так, — адвокат заговорил быстро, как будто не хотел дальше слушать. — Потребуйте встречи со следователем для предоставления новой улики по вашему делу. Я не хочу в это вникать, пока Пруэнса не увидит ее собственными глазами.
Когда он это сказал, я вспомнил старую северную сказку (коми? саамы?) про невидимую корову, которую видела только ее хозяйка, корову приводил добрый дух, если в доме не было молока. Что, если бычок на слоновой кости окажется виден только мне?
— Да откройте же, — адвокат постучал по двери кулаком, — почему у вас кнопка вызова вечно сломана? Я опаздываю на спектакль, черт бы вас побрал.
Странно, он как будто бы пропустил мои слова мимо ушей. Мне же все больше начинала нравиться эта идея. Сам не знаю, почему я раньше не додумался. Страховка, значит. Ай да Ласло, ай да сукин сын. Мне такое даже в голову не пришло, а вот Трута давно догадался и молчал.
Я покажу им тавромахию, лежащую у меня под матрасом, думаю, что хозяин галереи ее опознает, несмотря на внезапно оживших греков. Непременно опознает, ведь мое признание подтверждает его затею и придает ей ясность и плотность раскрытого преступления. При этом ему нечего бояться, потому что он знает, что вернуть украденное я не в состоянии. Меня посадят за злостное ограбление, и лет через пять я выйду на волю почтенным вором — вором, а не убийцей.
Правда, мне здорово достанется, пока они будут выбивать из меня место, где спрятано все остальное. Я подумал о трех потрескавшихся мысках ботинок и одном, подбитом стальной подковкой, этот принадлежал охраннику Редьке.
- Там можете подвергнуть нас допросу,
- И мы ответим честно вам на все.
Я смотрел на дверь, у которой стоял адвокат — в этой тюрьме охрана похожа на небрежных слуг из «Венецианского купца», никого не дозовешься, — и думал, что, если повезет, тавромахия переведет меня из четвертого акта в пятый, заключительный. Черта с два мы ответим. Королева успела отравиться, Гамлет и Лаэрт уничтожают друг друга подозрениями, Офелию похоронили в африканской глубинке — еще в первом акте, а Розенкранц и Гильденстерн обнялись и слились своими пружинистыми л и н в другую фамилию (впрочем, тоже мертвую, так или иначе).
Кто же в замке-то остался? Английский посол с рыжим портфелем под мышкой, который топчется у железной двери, неуверенно озираясь: кому бы здесь вручить верительные грамоты.
Как там было у Стоппарда?
Этот вид зловещ, и английские вести опоздали.
Маленькая рыбка,
Маленький карась,
Где ж ваша улыбка,
Что была вчерась?