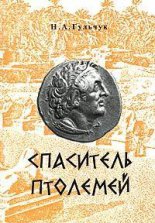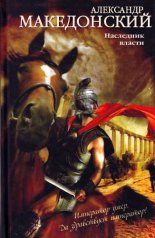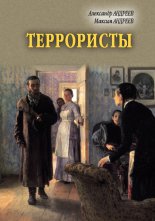Другие барабаны Элтанг Лена

Мярт завел себе подружку в университетском архиве и таскал оттуда книги — под рубашкой или открыто, с книгами он обращался примерно так же, как с девицами: если с первых двух страниц у них ничего необычного не начиналось, китаист расставался с трофеем без сожаления. Букинист Вольмар, которому перепадали Мяртовы приобретения, любил нас как родных и всегда держал под прилавком фляжку с коньяком.
Разжившись необычной книжкой, китаист влюблялся в нее на несколько дней, повсюду таскал с собой и подсовывал мне листочки с выписанными оттуда фразами вроде: мастер игры со ставкой в черепицу станет волноваться при игре на серебряную застежку и потеряет рассудок при игре на золото. Или еще круче: перед тем, как двигаться дальше, нужно посидеть, это и есть жизнь; перед тем, как умереть, мы посидим. Я бросал их в корзину для мусора, но Мярт писал другие, и мне оставалось только терпеть и ждать, когда он насытится новой возлюбленной и отнесет ее назад, в библиотеку. Такие книги Вольмару не доставались, библиотекарша получала их обратно, и в благодарность ее наскоро прижимали к полкам в узком проходе между стеллажами.
Где-то я читал, что в Средние века книги приковывали к полкам длинными цепями, позволяющими ходить, будто кот ученый, а в некоторых библиотеках читателя сажали в клетку, где стояли скамья и свечка, и запирали на замок, прямо как меня теперь. Самое время нацарапать на стене рядом с дыркой и бананом: Kostas Kairis Chained Library.
Благодушный Мярт был мне другом, из тех, что хороши при хорошей погоде, но тогда я этого не понимал, мне казалось, что дружба должна быть раскаленной, ревнивой и подробной, будто перечень конунгов. Одним словом, как наша с Лютасом.
Первое апреля. Подходящий день, чтобы перечитывать протокол допроса, оставленный следователем на столе. Читал его и глазам не верил, чистой воды история о жрице на телеге, нам ее профессор Нильде рассказывал на семинаре по археологии. История такая. Реставраторы, работавшие с рельефом из венецианского музея, увидели там двух мальчиков рядом с сидящей женщиной и решили, что это иллюстрация к рассказу Геродота о немощной жрице, которую привезли к храму ее сыновья. Поразмыслив, реставраторы добавили к изображению повозку на колесах (со спицами), ярмо, ошейники и даже дышло. Прошла пара сотен лет, и рассказ Геродота был исправлен — из-за этого рельефа. Историки поверили картинке и не поверили тексту!
— Это вы с матерью были вчера в кафе, Кайрис? — спросил меня неприступный Нильде в мое последнее тартуское утро. Это был единственный преподаватель, который всегда говорил со мной по-русски, как будто мой эстонский оскорблял его слух.
— С такой-то матерью, — сказал я резко, и он поднял брови и, кажется, впервые посмотрел мне прямо в лицо. Я сказал ему head aega! и пошел в деканат за своими бумагами, а потом отправился к букинисту Вольмару с целой сумкой учебников и словарей. Вечером у меня был автобус домой, а в полдень я должен был снова зайти в отель — я обещал тетке допить с ней подарочный порто, не везти же его было назад, в самом деле.
Ты, наверное, удивлена тем, что я думаю о каких-то археологических казусах, вместо того, чтобы готовиться к встрече с адвокатом. Видишь ли, в этой истории с Геродотом мне чудится знакомый контур удачной имитации. Имитации — это то, что сделало мое зрение двойным, а мои яйца легкими, понимаешь? Нужно было сесть в тюрьму, чтобы размотать половину своей жизни, как найденный в соседском сарае клубок проволоки, и увидеть там резиновую груду заминок, запинок, промедлений и проволочек. И да, еще железных крючков.
Ты спросишь, как я мог попасться на такой простой крючок, как Додо?
Да видел я этот крючок. Так же ясно, как его видит окунь за мгновение до того, как повиснет на кукане над темной водой. Мы лежали поперек постели, белые волосы Додо лезли мне в глаза, низкий голос щекотал мне щеку, так что я мог прищуриться и думать, что это вовсе не Додо, а кто-то другой. Этот кто-то другой в девяносто девятом взял у меня рукопись, обещал прочесть еще в самолете, и я целый месяц ждал, что этот другой напишет: «Ты гений, Косточка. Мой любовник-испанец не годится тебе даже в рабы». Этот кто-то другой оставлял мне дурацкие записки в банках с вареньем, а потом взял да и умер, не дождавшись на них ответа.
С тех пор в моей жизни ничего не происходило. Ни петь, ни рисовать, как говорила моя кукольница, когда у нее пропадало вдохновение, она от этого прямо на стену лезла, а мне хоть бы что. Уже лет восемь хоть бы что. Эпическое спокойствие. Щебень и солончак. Не будь в мире травы, я бы вообще забыл, что такое pathos.
Не будь в мире мадьяра, я бы не познакомился со своей paranoia.
Теперь я понимаю, что Лютаса грызла похожая тварь, и он спасался от нее как умел. Но умел он плохо — скажем, его затея с фильмом показалась мне безнадежно унылой. Какое зрителю дело до того, чем занимаются в своей каждодневной тюрьме такие же, как он, будь они лилипуты, йеху или гуингмы? Нет, покажите мне драму, которая раздавит меня, будто переспелый персик, выжмите из меня сок и слезы, остановите мое дыхание, смутите мою совесть, в конце концов!
Ладно, я и сам хорош, нагородил тут сорок бочек арестантов и еще ни разу не перечитывал. Боюсь испытать катарсис или — не дай Бог — раскаяние. Костас К., поражающий себя в бедро по примеру сэра Персиваля. Костас К., посыпающий себя пеплом в одиночной камере.
Знаешь что, Хани? Сдается мне, с этой тюрьмой не все обстоит, как должно обстоять с тюрьмой. Поначалу меня водили на допросы с мешком на голове, уж не знаю, от кого они меня прятали, я ведь не свидетель в деле фальшивомонетчиков, которого непременно застрелят до суда. Потом мешок отменили, я увидел облупленные здешние коридоры, но так и не встретил в них ни одного сидельца — так стоило ли огород городить?
Радио здесь только в общих камерах — у моих соседей оно не замолкает даже ночью. Зато мне разрешают держать в камере лаптоп и книги выдают без ограничений — да еще штучные, недюжинные, у Мярта руки зачесались бы вынести пару-тройку за пазухой.
Одним словом, арестный дом больше смахивает на башню, в которой сидел ди Риенцо, римский трибун: его комната мирно соседствовала с тюремной кухней, у него были камин и библиотека, и еще тяжелая цепь на ноге, которую приходилось волочить за собой. Узилище тихое и благородное, писал трибун, даже изысканное, carcer honestus et curialis.
Надо же, еще один уцелевший осколок латыни. Хотел бы я увидеть этот закоулок в собственной памяти, где прячутся ни разу не пригодившиеся слова. Какой смысл в языке, которого кроме тебя никто не понимает? Такой язык нужно отбрасывать, как геккон отбрасывает хвост, когда спасается бегством. Оставлять его врагу и быстро отращивать себе свежий язык, полный яблочного хруста, шипения и голубиного плеска.
— Вот уеду отсюда, — сказал я тетке в тот вечер в отеле «Барклай», — и первым делом забуду эстонский насовсем. Все эти четырнадцать падежей, груды дифтонгов, стоячие воды просодии, забуду, потеряю, как мир потерял галиндов и ятвягов: trencke trencke! Kellewefze perioth!
Мы снова стояли на балконе, но гостиничный фонарь погас, и холод в свете занимающегося утра стал еще невыносимей. Парковые вязы, сгрудившиеся перед гостиницей, казались покрытыми синим тополиным пухом и уже не давали тени.
— И русский забудешь? — спросила Зоя, кутаясь в одеяло.
— На русском я пишу, а значит — говорю сам с собой. Я ведь хорошо пишу на русском?
— Как никто другой, — сказала тетка, лицо ее осунулось за ночь, я хотел его погладить, но она поймала мою руку и поцеловала ладонь.
Такая уж была у нее манера: делать вид, что не расслышала вопроса, или отделываться пустотелой фразой, ускользающим жестом. Я вот, например, до сих пор не знаю, читала ли Зоя мои «Барабаны»? Я мог спросить ее об этом, когда она приехала в Вильнюс в последний раз, за два года до смерти. Но не спросил. Я вообще не мог с ней разговаривать и слонялся по городу до вечера, чтобы не видеть ее такую — медленно бредущую по коридору в халате, который стал ей велик, и его приходилось подпоясывать на манер римской столы. Так читала или нет?
Какое, однако, негодование, какая студеная досада заполоняет голову, когда кто-то пренебрег твоим текстом, не прочел, отмахнулся, оставил в кармане самолетного кресла. Пожалуй, я не обиделся бы так, если бы этот кто-то выгнал меня из своей постели. Выходит, что пренебрежение текстом болезненней, чем пренебрежение телом?
Поганый у меня сегодня день, Хани, причитаю, как наемный плакальщик.
Был такой старик в римской мифологии, Окнос его звали, если я не путаю. Так вот, он никак не желал умирать и страшно надоел своим богам, за это в Аиде он плел бесконечную веревку, которую тут же поедала специально приставленная упорная ослица. Кажется, я заработаю себе нечто подобное после смерти, если не перестану ныть и цепляться за ежевичные, жаропонижающие смыслы. Ладно, все, уже перестал.
О que este catso?
— Бадага? Наврал тебе твой дружок, — сказала однажды Додо, разглядывая железные колокольчики в моей прихожей, — я видела такие в турецких лавках, когда еще летала в Стамбул. Моя подруга сторговала их за пятерку, ей сказали, что зороастрийцы вешают эти бубенцы на шею старику, одетому в козлиную шкуру, и он ползает на четвереньках и блеет, чтобы отогнать дьявола.
— Индуисты, езиды, какая разница, — я снял тяжелую связку с гвоздя, надел Додо на шею и повел ее в спальню. — Пошли, изгоним из тебя дьявола прямо сейчас.
Додо. Да, да. Вот кто мог скакать без устали, сверкая розовым языком, тряся волосами, будто дервиш, и понукая себя ругательствами, достойными ломового извозчика. Сюда бы ее теперь.
Сегодня я видел стюардессу во сне и вспомнил целую груду площадной брани, даже смешно. А вот простые глаголы начинаю уже забывать, все утро думал, как сказать Редьке: «Mas que porra tu ests fazendo aqui?». А теперь вот вспомнил, но его смена закончилась.
Почему адвокат не говорит со мной на португальском? Его бутерброды на этот раз оказались с сыром, он протянул мне один, сразу, как только вошел в комнату для свиданий. Сыр был с плесенью, такой вонючий, что у меня скулы свело, я жевал его из вежливости и чувствовал себя тем индейским вождем, что поедал горчицу ложкой под взглядом конкистадора.
Почему я не в состоянии выплюнуть эту дрянь, почему я покорно катаю ее во рту, сожалея о том, что в комнате для свиданий нет даже завалящего горшка с фикусом или корзины для бумаг. Я думал о том, чего никогда не умел: торговаться на базаре, выплевывать угощение, отказывать в глаза (за глаза-то запросто), надменно поднимать бровь, ставить на место, строить козни, казаться неприступным, жалеть, особенно — последнее. Каждый раз, испытывая жалость, я чувствую, как где-то внутри меня, на самом дне, сгущается нарочитость, и все теряет смысл.
— Почему вы не сказали мне, что я арестован за убийство Раубы? — спросил я, с трудом проглотив комок зловонного сыра. — Разве вас наняли не для того, чтобы мне помогать?
— Я должен был оценить вашу версию, — адвокат промокнул рот концом салфетки. — Потом меня не было в городе больше двух недель. Теперь я вернулся и готов работать.
— Работать? Дело передают в суд, меня признают виновным и отправят на оловянные рудники, а вы спокойно возьмете гонорар у изменника Мордреда?
— У кого? Любите же вы сравнения, прямо болезнь какая-то. Послушайте, давайте приступим к делу: вы утверждали, что некий убийца застрелил в вашем доме человека, а некий чистильщик помог вам избавиться от тела. А теперь вы от всего отрекаетесь. Я верно понимаю?
— Когда я давал показания, то был уверен, что Лютаса убили в тот вечер, когда я бегал по Капарике в поисках алиби. То есть я вообще не знал, что убили Лютаса! Я бегал из-за другого трупа, но потом, когда выяснилось, что убит Лютас, я все локти искусал, что не вытащил ту глупую китаянку из ее дачного сарая и не заставил посмотреть мне в лицо. А еще позже выяснилось, что речь идет о другом дне, о другой среде! То есть китаянка все равно бы не помогла.
— Да погодите вы со своей китаянкой, — отмахнулся он. — Повторная экспертиза показала, что труп Раубы был найден через полчаса после того, как в него вошли две пули калибра 7,65 мм. Вас на месте преступления никто не видел. На вашем пистолете были найдены свежие пороховые следы, гильзы не обнаружены. Это все, что у них есть, и если бы вы не бросились давать показания, то давно были бы дома — под залог тысяч в двадцать.
— А мой ингалятор?
— Вы не единственный аллергик в столице, особенно теперь, когда начал цвести жасмин.
— А то, что я был в Эшториле в этот вечер?
— Об этом известно только с ваших слов. Поменяйте показания.
— И что, все так просто? — не знаю почему, но меня стала разбирать злость.
— Ну, не все, — он потянулся и стал делать пассы руками, как будто у него затекли запястья. — Но многое. Похоже, вы слишком долго тут находитесь и потеряли чувство реальности. Я уверен, что вы не убивали своего приятеля, нам просто нужно объяснить, как вы оказались неподалеку от места преступления. Либо заявить, что вы себя оговорили.
— Не понимаю. Если у полиции есть только косвенные улики, то как они получили ордер на мой арест? И почему не предъявили мне ни одной бумаги, где упоминалось бы имя убитого? Если бы я знал, что речь идет о Лютасе, то все с самого начала пошло бы по-другому!
— Может, и пошло бы. Но вы ведь не потребовали никаких бумаг. Более того, вы сразу заговорили об убийстве, признали оружие своим, признали, что видели жертву, и даже — что собирались заплатить человеку, отмывшему ваш пол от крови. Потом вы назвали адрес коттеджа в пригороде, вас туда отвезли, но оказалось, что дом принадлежит почтенному торговцу, и там идет ремонт.
— Я же говорил, что могу отыскать свидетеля, соседку, которая не открыла мне ворота!
— И что это меняет? — адвокат перестал жевать и потянулся за салфеткой. — Поймите, здесь никого не интересуют ваши запутанные обстоятельства. Чем больше вы запутываетесь, тем меньше им хочется вникать, довольно того, что вы — подозрительный иностранец, безработный, к тому же стучите сами на себя, как осенний дятел.
Надо же. Ленивый molusco полюбил сравнения. Я и есть осенний дятел, чему тут удивляться. Мать родилась летом, бабушка — весной, а я — осенью. Когда родился отец, я не знаю, так что можно считать, что у нас в семье нет зимних людей, поэтому в доме всегда было жарко, особенно, если обе женщины встречались за кухонным столом. Мать любила ссориться на кухне, это была ее Гревская площадь, даром, что ли, там стояла гильотина для сыра с острой зубчатой проволокой.
— Если следователь знал, что я не убивал датчанку, зачем он вообще повез меня в коттедж?
— Поскольку вы утверждали, что находились там в четверг, в день убийства, то никому и в голову не пришло, что вы имеет в виду другой четверг и другое убийство.
— Чушь собачья! Они нарочно не называли мне ни дат, ни имен, чтобы я увяз поглубже и наболтал лишнего. А потом, когда я устал и отчаялся, они показали мне жертву. Это психологическое давление, дешевая манипуляция, и вы это знаете не хуже меня.
— Положим, не таая уж дешевая. Ваше содержание здесь стоит немалых денег, поверьте мне, — адвокат сложил остатки ланча в коробку и, заметив мой взгляд, протянул ее мне. — Возьмите это в камеру, сеньор Кайрис, там остались еще пончики.
— Да пошел ты со своими пончиками.
— Как хотите. Ваш темперамент вас подводит, нужно смотреть на вещи холодно, принимая во внимание только факты. Факты говорят, что вы не смогли заплатить шантажистам, продав дом — потому что дом заложен. Очевидно, что вся затея с имитацией убийства придумана для того, чтобы дом перешел к заказчику за минимальную цену. Почему же они оставили вас в покое? Совершенно ясно — раз они не смогли добиться своего простым путем, то используют сложный. Следовательно, нужно либо отдать дом, либо уехать из страны. Даже школьник догадался бы, сеньор Кайрис, даже школьник.
— Дело не в закладе, а в том, что сказано в завещании: я могу только жить в этом доме, а продавать или менять не имею права. Но вы правы, я знаю одного человека, который тоже хотел бы жить в этом доме. Похоже, он и есть сметливый мельник Он мельник, а я — бестолковый Ганс.
— Какой такой Ганс? — адвокат насторожился.
— Вы что, не читали в детстве книжек с картинками? Сметливый мельник погубил дурака поддельной дружбой. Заставил работать на себя и довел до хворобы. Сначала я грешил на покойного Раубу и стыжусь этого. Теперь я подозреваю Лилиенталя. И стыжусь еще больше.
— Кто бы ни был этот человек, он своего добился. Ваш дом сейчас продается с аукциона, я навел справки, и стартовая цена довольно приемлемая. Даже я мог бы поучаствовать, не будь у меня четверых детей и растяпы-жены.
— Хорошенькое дело. Ли сажает меня в тюрьму, въезжает в мой дом и нанимает адвоката, чтобы тот закопал меня поглубже?
— Закопать? Это слишком экстравагантно, если учесть, что полиция закопает вас и без моей помощи, — он утомленно покачал головой. — Не думаю, что почтенный сеньор, о котором вы говорите, стал бы тратить время на всю эту bufonada. В наше время все делается значительно проще и прозаичнее.
Нет, Хани, закопать, закопать! Пока я верил в пьесу, разыгранную мадьяром и двумя его блядями (вот кретин, как я мог не различить в них персонажей комедии дель арте, ведь белые нитки торчали отовсюду!), я постоянно думал о том, куда они подевали тело. Закопали или утопили?
— Ладно, я знаю, что это устроил Лилиенталь. Передайте ему, что он...
— Я не стану обсуждать с вами личность моего клиента, это входит в условия договора, — перебил меня адвокат, отняв бутылку от губ. — И перестаньте разыгрывать жертву. Вы согласились помогать шантажистам и сами стали объектом шантажа — нормальный ход событий.
— Труп моего друга детства, болтающийся в авоське для мусора на высоте сто сорок метров, это, по-вашему, нормальный ход событий?
— Ну нет, — он махнул рукой, — это вы бросьте. К факту смерти следует относиться с уважением.
Факты смерти. С этим у меня всегда были проблемы. Как и с другом детства.
Моя бабушка Йоле умерла в середине июля, ночью, в грозу — я тогда подумал, что ее сухая, невыносимая духота разрядилась громом и молнией и она наконец обрела прохладу. Я был последним, кто ее видел: в ту ночь мне почудилось, что кто-то ходит по коридору мимо моей комнаты — я не спал, никогда не сплю в грозу, мне нужно непременно дождаться дождя.
Постояв в нерешительности под бабушкиной дверью, я приоткрыл ее и заглянул в спальню. Йоле сидела на письменном столе с книгой в руках, босые ноги не доставали до пола. Мне показалось, что она ужасно мерзнет. Я подошел поближе, снял свой свитер и накинул ей на плечи, бабушка передернула плечами, но глаз от книги не подняла. Утром мы нашли ее в постели, она лежала ничком поперек кровати, окно спальни было открыто настежь и пол вокруг него залит водой — там до сих пор остался покоробившийся от сырости паркет, я только ковер немного подвинул.
— Шестьдесят девять, — сказала мать, когда доктор уехал, оставив на кухонном столе бумагу для муниципальной службы. — То-то она все повторяла китайскую пословицу: обидно образумиться в семьдесят лет и умереть на семьдесят первом.
— Так и не образумилась, — брякнул я сдуру, но мать ничего не ответила, встала, взяла замшевый лоскут и принялась чистить столовое серебро, она всегда хваталась за домашние дела, когда не хотела разговаривать. Серебром в нашем доме считались шесть чайных ложек с эмалевыми рыбками, подаренные мне на зубок. Одноглазая пани Ядвига, которая принесла подарок, пережила бабушку всего на пару месяцев.
Такой уж это был год, в нем умерли Рихтер, мать Тереза и Уильям Берроуз, а Богумил Грабал выпал из окна, пытаясь покормить голубей. Удивительно, как мало занимала меня смерть в те прозрачные времена, помню, как, сидя за столом на поминках по Йоле и глядя на вытянутое лицо матери, я вдруг засмеялся, поперхнулся рисовой кутьей и выбежал из-за стола, чтобы смеяться в ванной еще несколько минут. Еще помню, как, узнав о гибели Фабиу, я сказал тетке по телефону, что дядя всегда казался мне малахольным и что теперь они с дочерью заживут безмятежно и просторно. Будь я на месте тетки, повесил бы трубку и больше никогда бы с таким мудаком не разговаривал. А она знаешь что сказала?
«Было времечко, целовали нас в темечко; а ныне в уста, да и то ради Христа!»
умру поеду поживать
где
тетка все еще жива
где
после дождичка в четверг
пускают фейерверк.
— Косточка, на кой черт здесь эти ковры?
В погребе раздался металлический грохот и тихие проклятия Агне. Она задела полку с ресторанной утварью, оставшейся от одной из затей покойного хозяина. Года за три до своей загадочной смерти он собирался открыть в Альфаме забегаловку с испанской кухней и даже название придумал. «La tia у el escribidor». Как в воду глядел.
Когда тетка умерла, Агне уехала в Агбаджу. Я тогда подумал, что если бы ее звали Мария, то она уехала бы в Малагу, а если бы Рита, то в Ригу — у моей сводной сестры была страсть к совпадениям, если они долго не случались, она их немного подталкивала. Ходили слухи, что она нашла себе кого-то в тамошней миссии, но когда весной две тысячи седьмого Агне явилась в Лиссабон с крохотным байковым сыном, спящим днем и ночью, будто король жемайтов в горе, я не стал ее расспрашивать. Целыми днями сестра пропадала в своей комнате, спускалась только, чтобы наскоро приготовить еду, она тщательно мне улыбалась, пахла молоком и не вспоминала о нашей ссоре. Хотя поссорились мы крепко: в день теткиных похорон Агне сказала, что напрасно надеялась на мать и что та поступила, как влюбленная старая кошка. Я просто обязан предложить ей и стол и кров, подумал я тогда, но услышал последние слова, поднял глаза на темное набухшее лицо сестры и передумал.
— Мне так обидно, что хочется сесть на пол и зареветь, — сказала она. — Ненавижу тебя.
Я не знал, что ответить, похоже, теткина последняя воля сделала всех моими ненавистниками, даже мою собственную мать. Когда нотариус Кордосу прочитал завещание, уложил свои бумаги в папку и поднялся, чтобы уходить, в комнате было так тихо, как будто он сообщил, что завтра начнется война или, прости господи, чума.
— Так пожилые помещицы завещали имение смазливым лакеям или конюшим, оставляя родных детей без гроша в кармане, — сказала Агне в тот день, и тогда я ее ударил.
Поверишь ли, дорогая, это была первая женщина, которую я ударил, и не могу обещать, что последняя, ведь я не испытал угрызений совести. Более того, мне приятно было видеть ее побелевшие от злости скулы и чувствовать, как горит и ноет моя ладонь. Теперь, спустя три года, этот эпизод кажется древним и бессмысленным, словно арамейская надпись, перечисляющая богов и полагающиеся им жертвы.
В две тысячи девятом она приехала снова и прогостила меньше недели — ребенок ничуть не вырос, и Агне ничуть не изменилась. Уезжая из Лиссабона, она сказала мне, что больше никогда не вернется. Мы стояли у входа в музей фадо, из окон первого этажа доносилось «Esta ilha que h em mim...», дорожные рабоие долбили асфальт в сорока шагах, у крыльца русской церкви, и я, вероятно, не все как следует расслышал.
— Что ты сказала?
— Больше не приеду сюда. Разве что ты умрешь.
— Что?
— Ничего! — ей не хотелось повторять такое, перекрикивая отбойный молоток.
— Не так уж мы плохо жили. Даже ребенок спал по ночам, хотя ты говорила, что он беспокойный.
— Я давала ему ликеру на сахаре, — сказала Агне, помахав проезжающему таксисту, — чтобы он не кричал. Иначе ты бы выставил нас на улицу, братец.
Она засмеялась, и я вздрогнул. У нее такой же смех, как у Зои, рассеянный, полный холодных пузырьков — смех, только и всего, остальное сестра умудрилась растворить в себе без остатка. Лютое ratio глядело на меня из ее глаз, сырое, неистребимое виленское чванство. Я часто представлял себе двух ее отцов — проворных белобрысых гадов, до сих пор, наверное, живущих на берегах Нерис. Отцы слились в моей сестре, как шестеро детей Шивы в теле победителя демонов.
— Ликеру? — я взялся за край коляски и стал ее покачивать. — Хорошо, что не Conium maculatum. Мог бы и вовсе не проснуться.
Агне кивнула водителю, заехавшему одним колесом на тротуар, подождала, пока я открою ей дверь, устроилась на заднем сиденье, положив сына рядом с собой, опустила оконное стекло и хмуро посмотрела на меня снизу вверх:
— А ты, Костас, тот еще rabo. Хорошо, что я тебе не сестра и могу послать тебя к такой-то матери.
Написал это и сразу вспомнил, что я уже слышал это не сестра. В мой первый лиссабонский вечер, под персидским ковром. Помню, что, осмотрев дом сверху донизу, я зашел в столовую и запустил руки под ковер, вслепую приподняв тяжелую крышку «Безендорфера», мне казалось, что там, в темноте, притаились тесно сдвинутые зубы горячего, шумного, но дружелюбного животного. Вечером мы с Агне завели себе шалаш между двумя рояльными копытцами, притащив туда печенье и рюмки с винными опивками, втихомолку взятые на кухне, Когда она поцеловала меня в первый раз, я отшатнулся и со всего маху навалился на педаль, послышался хриплый собачий вздох, потом щелчок, в глубине рояля что-то укоризненно загудело.
— Не бойся, я тебе не настоящая сестра, — утешила меня Агне. — Я тебе седьмая вода на киселе, нам все что угодно можно делать.
Делать с Агне все что угодно я не хотел, хотя она чудесно пахла гелиотропом, наверное, втихомолку душилась у матери в спальне. Меня пугали ее широкие ладони, достойные жены викинга, и медленный пасмурный взгляд. Как бы то ни было, сестра была продолжением и условием этого дома, я принимал ее ласки, закрыв глаза и думая о ящичках комодов, похожих на пчелиные соты, и потайных дверцах секретеров в кабинете хозяина.
Полагаю, что не я один так поступал. Молодая жена Фабиу наверняка думала о том же самом, когда закрывала глаза и позволяла мужу делать с собой все, что он хотел с ней делать. Она думала о ленивых завтраках на залитой солнцем террасе, о золотистом столбе пыли на чердаке, о стрекозах, сжимающих лапками сизые виноградные ягоды. Она думала о дюжинах Quinta do Noval в винном погребе и рассохшихся шкафах, набитых столовым серебром. И еще она думала о Зеппо, похоже, она только и делала, что думала о Зеппо.
— Ты когда-нибудь видел зеленую квакву? — внезапно сказала тетка у меня за спиной.
— Кого? — я присел на край кровати со стаканом в руке. К утру меня стала мучить жажда, и я принялся таскать из гостиничного бара ликеры, которыми поначалу побрезговал.
— Кваква сидит на корнях мангрового дерева и ждет рыбу, просто сидит и ждет, — Зоя говорила медленно, как во сне, но я видел, что глаза ее открыты. — Я так всю жизнь прожила. Приличные цапли взбалтывают воду, растопыривают крылья, чтобы привлечь рыбу тенью, а я просто сидела на корнях дерева. И этим деревом был Фабиу Брага.
— Никогда не думал о нем как о дереве.
— А зря. Он был большим раскидистым деревом, полным странностей и всяческой кривизны, — тетка приподнялась на локтях и кивнула на стакан. — Дай и мне глотнуть. Я прожила с Фабиу столько лет, но не знала даже, откуда в доме берутся деньги. Однажды я попросила у него пару сотен, чтобы заплатить настройщику, а у него не оказалось наличных. Подожди немного, сказал Фабиу, надел белую рубашку и вышел из дому. Через час он вернулся и высыпал на стол целую гору медных монет, мне пришлось сгрести их в хозяйственную сумку и целый день менять на банкноты в мелких лавочках.
— Судя по всему, он был самым заурядным игроком.
— Он был чем угодно, только не заурядным чем-то там, — сердито сказала тетка и отвернулась.
— Однажды, когда вас с Фабиу не было дома, — сказал я, чтобы прервать молчание, — я зашел к тебе в спальню, забрался под твое одеяло и лежал там минут десять, глядя в потолок. На одеяле были разбросаны вещи, приготовленные для стирки, я запомнил, как они лежали, и потом аккуратно разложил в таком же порядке. В этом было больше смысла, чем во всех свиданиях с Агне под роялем, вернее, под лысым персидским ковром.
— Ковров в доме всегда было слишком много, особенно на стенах, а те, что лежали на полу, были испорчены старой собакой, — задумчиво сказала тетка.
— Собакой, молью и сыростью, — засмеялся я. — От них воняло, как от клетки с опоссумом.
— Этого не могло быть, — воскликнула она горестно. — Я бы почуяла. Скажи, что ты врешь!
И я сказал, что мне стоило. Хотя опоссумами в доме пахнет до сих пор.
У меня был свой дом, Хани, странный, недружелюбный, забитый черный резной мебелью, задыхающийся от пыли, протекающий от дождей. Но — мой, понимаешь, мой, от подвала с прокисшим вином до засиженной чайками черепичной крыши. А теперь в нем будет жить Лилиенталь! Который посадил меня в тюрьму!
Нет, здесь что-то не то, не стал бы он пачкаться. Он слишком озабочен чистотой своего пространства, мой друг Ли. У него бы терпения не хватило рассчитывать обстоятельства такой длинной лентой, со всеми изгибами и поворотами. Он даже кожуру с апельсина не может срезать серпантином, обдирает пальцами как попало. И куража в нем такого нет.
Достаточно вспомнить, как он перепугался, когда в его камин упала сова, он чуть в окно не выбросился, таким плохим знаком это ему показалось. Пришлось мне вынести ее вон, взявшись двумя пальцами за серую встопорщенную шею. Сова там, наверное, сто лет жила, в каминной трубе, просто мы в первый раз решили его затопить, разобрали завалы барахла в очаге и развели огонь на старых углях. Будь у меня такой камин, я бы топил его зимой и летом, а Ли держал в нем старые кисти и скипидар.
Нет, это не Лилиенталь, он бы поленился. Уж очень пестро для него, чересчур практично, слишком много серпантина. Тот, кто это сделал, хорошо знал мои обстоятельства, и я узнаю, кто это, дайте срок. Узнаю и убью.
Нянин ладан нюхать нянин ландыш
няня — меду! опухают гланды
холод голод ото-ла-рин-го-лог
Желтый утренний трамвай, пустой и гулкий, как жестянка из-под маслин, долго поднимал нас к парку Эштрела. В тот день у Агне было свидание с учителем музыки, отчим был с ней строг и сам выслушивал гаммы после занятий. Спросили бы меня — я бы сразу сказал, что ничего не выйдет. На лбу у сестры было вытиснено клеймо бесталанности, словно крылатая змейка на картинах Лукаса Кранаха Старшего, я это даже тогда понимал, в девяносто первом.
Мама осталась дома, а мы с теткой взяли фляжку с зеленым вином и поехали в парк на electrico, я хотел увидеть базилику Марии Первой, о которой прочел в путеводителе, а она, наверное, хотела помолчать, потому что молчала всю дорогу. Один раз только, когда я заметил, что купол часовни похож на кошачью голову, она наклонилась к моему уху и сказала шепотом:
— Замечать такое и сравнивать предметы с животными, это женственная привычка. Это у тебя от деда-еврея. У меня один любовник был такой: входил во все детали, сразу мог сказать, какого оттенка скорлупа у гнилого каштана. А про спинки лягушек говорил, что они отражают серую осоку и небесную синеву.
— А русского любовника у тебя не было? — я немного обиделся, сам не знаю почему.
— Были, — она зевнула, прикрыв рот ладонью.
— Много?
— У меня было примерно столько мужчин, сколько шпилек в волосах, — сказала она, немного помолчав, и сделала страшные глаза. Я с сомнением покосился на увесистый узел из двух пшеничных кос, заметно тянущий голову назад.
Слышала бы это моя мать, подумал я, уткнувшись в оконное стекло, за которым плавно проезжали почтовые открытки и марки Correio Portugal из моей коллекции. Мне четырнадцать лет, почему она говорит со мной, как с равным, и перечисляет своих любовников — она, что, сумасшедшая?
Вино тетка выпила сама, охладив его в питьевом фонтанчике, и, когда я вернулся из собора, насмотревшись на фрески, она лежала на газоне, возле памятника Жункейру, засиженного голубями, и улыбалась сама себе.
— Садись рядом, Косточка. Что ты скажешь, если я выкрашу волосы в красный цвет? — она смотрела на меня из травы, заложив руки за голову. Я молча покрутил пальцем у виска.
— Красный — это цвет узнавания. Я читала, что в одном племени люди помечали красным своих покойников, чтобы не перепутать с чужими на том свете. Ты меня не перепутаешь? Садись же.
Я помотал головой. Мне нравилось стоять там и смотреть на нее сверху.
— Может быть, когда мы встретимся в другой жизни, я буду муравьем или коноплянкой, — продолжала она. — И ты меня не узнаешь. Ты когда-нибудь видел коноплянку?
— Видел, на дедовом хуторе, в кусте крыжовника. Мальчишки их ловили на птичий клей.
— Вон одна сидит, с красным темечком, — тетка показала пальцем куда-то в куст, но я ничего не увидел. — Темечко бывает только у самца, он не строит гнезда, а если его посадить в клетку — весь изобьется о прутья. Зато поет хорошо.
— Ну и что? — я никак не мог взять в толк, к чему она ведет.
— А у самок все наоборот. Они только и делают, что вьют гнезда, а петь совсем не умеют. Мир переполнен серыми, молчаливыми самками коноплянки, такими же, как я, прямо хоть беги отсюда. И все мы с детства знаем, как нужно волочить крыло, чтобы отвести любопытную кошку от гнезда. Столько любопытных кошек не наберется во всей Поднебесной.
Видишь, Ханна, я исписал всю страницу диалогами в парке Эштрела и не могу остановиться. Мне совершенно не с кем поговорить о ней, тридцатидвухлетней, о ее пацанской привычке закладывать за ухо сигарету, о чистом и крепком лице, всегда как будто чересчур, до скрипа, отмытом, о том, что уши у нее просвечивали розовым на солнце, будто лепестки исландского шпата, я их тогда в первый раз разглядел, потому что волосы она завязала узлом.
— Не слушай ты меня, — сказала тетка, внезапно помрачнев. — Женственность, евреи, конопляное темечко, наговорила ребенку чепухи и рада. Скорее всего ты будешь писателем, в этом все дело.
— У тебя был любовник-писатель?
— А то как же, — она легко поднялась с газона. — Ты будешь писателем потому, что умеешь делать себя несчастным. Это первая стадия обучения, вторая гораздо проще: научиться записывать то, чего не видишь. Отряхни-ка мне платье, Косточка, по мне ходит целое полчище муравьев.
Ладно, довольно о ней, я обещал не голосить здесь по покойникам, но то и дело сбиваюсь, особенно по вечерам, когда в камере сгущаются синие тени. В феврале я ложился спать, едва дождавшись темноты, но апрельские сумерки держатся долго, а от здешней лампочки толку мало, только желтый круг на потолке.
Я так и не рассказал тебе, чем кончился тот вечер в «Гондване», а это важно. Важно не потерять нить, потому что именно это отличает писателя от обычного блоггера, не способного отличить шум в ушах от внутреннего голоса. Я не рассказал тебе, что так и не нашел скважину для своего ключа, облазив хозяйский кабинет вдоль и поперек. Зато обнаружил стеклянную горку, она стояла у самой двери, и свет «Todo mundo» туда не доходил. В горке стояли коробки из черного лака, наполненные белыми шариками, каждая — под проволочной решеткой для пущей сохранности.
Я присел перед витриной на корточки, чтобы разглядеть коробку на нижней полке, в которой светилось что-то маленькое, голубое с золотом, и на мгновение перестал дышать. Утопая в снежных шариках, там лежала моя тавромахия. Даже под стеклом она казалась горячей, как будто античная жара раскалила латунные перегородки и расплавила позолоту. Посветив на коробку фонариком из кулака, я понял, что рисунок на пластинке другой: юноши там лежали ничком, их тела были небесного цвета, наверное, у художника кончилась красная эмаль, и он решил судьбу побежденных, растворив их тела в полуденном зное. Ослепительный микенский день с двумя быками и двумя мертвецами.
Мне вдруг страшно захотелось есть, живот свела такая длинная пронзительная судорога, что я бегом вернулся к столу, достал из ящика сверток и развернул коричневую бумагу. Точно в такую бумагу заворачивали горячий хлеб в тракайской пекарне, мы ездили с мамой на озеро, покупали две свежие булки напротив замка и съедали их, стоя на мосту и глядя на уток. Крошить хлеб в воду было нельзя, за этим следил с башни замковый сторож, заметив нарушителей, он с грохотом сбегал по винтовой лестнице и принимался ругаться: ах вы, лягушки проклятые, ах вы, змеи, неужто читать не умеете?
В бумаге оказался подсохший бисквит и яблоко, я набил себе рот и тем, и другим, отхлебнул из початой бутылки, вернулся к витрине и снова опустился на корточки. Сколько же в городе должно быть тавромахий, если на них натыкаешься в первой же галерее, которую собрался ограбить? Может, это любимая здешняя фальшивка? На манер часов Breguet без номера и подписи, давно заполонивших лиссабонские лавки. Я вспомнил про ключ и потыкал им в замочную скважину, надеясь, что дверца распахнется и заиграет музыка, будто в шляпной коробке, сделанной Сэмюэлем Джунодом. Но вместо клайдермановской прохладной «Fr Elise» раздался вой такой умопомрачительной силы, что я упал на пол и откатился от горки, будто неумелый пехотинец на учениях, больно стукнувшись локтем о ножку стола.
Теперь ясно, почему внизу мигает беспомощный «Оптекс», подумал я, поднимаясь с пола, галерейщик поставил серьезную систему только здесь, устроил ловушку возле самой приманки. Истошный вой раздирал мне уши, но я все же услышал торопливые шаги охранника и хлопанье дверей. Тавромахия равнодушно глядела на меня через граненое стекло, а староста смотрел в сторону, скривив подкрашенный рот, мы с ним оба знали, что ад происходит от слова «прыгать». Вряд ли, Хани, тебе известно слово pragarm, то есть пропасть, но литовский ад произошел именно от него. Сейчас сюда приедет полицейский патруль и бросит тебя в кипящую смолу, сказал я себе, забираясь на подоконник и на удивление ловко вылезая в окно.
Карниз был мокрым, но дождь уже кончился. Я посмотрел налево и прикинул, что до моей водосточной трубы шагов девять, не больше, встал на карниз и медленно пошел мимо зашторенных окон, с сожалением вспоминая каменных птиц у тебя в Нарве, у них были удобные клювы, которые я перебирал руками. Даже стена крепости, по которой мы с Лютасом лазили на спор в заросшем лопухами Бельмонтасе, и та была безопаснее, к тому же Лютас научил меня ставить ногу, правильно дышать и скучать — думай о том, как это ску-у-у-у-у-учно, говорил он, ни за что не упадешь.
Здание галереи было скромной, послевоенной постройки, и мне приходилось довольствоваться выступами фасада, едва прочерченными пилястрами. Ветер с моря крепко подул вдоль улицы, жестяной козырек крыши над моей головой загудел и мелко затрясся, из отверстия водостока пролились остатки дождя, прямо мне за шиворот. Я прижался к стене, стараясь выровнять дыхание, представляя поселок Пуэрто-Вилламил, где живут мелкие, как бисер, пингвины, и всегда тепло и безветренно. Потом я прошел до угла, свернул и посмотрел вниз: апельсиновых ящиков там не было. Либо я ошибся и пришел на другой угол, либо кто-то их разобрал.
Прыгать? Какой там здесь Родос — подо мной колыхалось черное, беспросветное течение Эль-Ниньо, убийца пингвинов.
Я спрыгнул неудачно, левая нога подвернулась, какой-то железный обломок с лязганьем приземллся вслед за мной, на первом этаже сразу загорелся свет, распахнулось окно, мелькнула всклокоченная женская голова. Сирена в галерее замолчала, но окна вспыхивали одно за другим, а за углом магазина уже слышались голоса и визг тормозов, хорошо, что меня прикрывала чья-то затянутая брезентом лодка и дружелюбный куст джакаранды.
Я лег ничком на грязную землю и замер.
You like potato and I like potahto, you like tomato and I like tomahto,
Potato, potahto, tomato, tomahto, let’s call the whole thing off.
В начале осени Байша, усмиренная Лилиенталем, затеяла уборку и развезла в доме ужасающую разноцветную грязь, из которой можно было налепить целое поселение шумерских перволюдей. Разноцветной грязь была из-за моющих средств, которые она с горя накупила в индийской лавке возле Аполлонии. Флаконы были огромными, а их содержимое шипело и пенилось голубыми и пурпурными пузырями, не способными ничего отмыть и подсыхающими липкой коркой.
Все началось с того, что Лилиенталь взял ее однажды за руку и, неожиданно быстро передвигаясь, протащил по комнатам первого этажа, проводя ее собственным пальцем по всем поверхностям, от книжных полок до подоконников. Голос бывшего хозяина сердито опускался и взлетал — я не разбирал слов, — костыли тяжело стучали в пробковый пол, а каблуки Байши вторили покорной торопливой чечеткой. К концу этой прогулки палец у Байши был черным, как сажа, а тонко выщипанные брови страдальчески заломились.
— У ацтеков была богиня нечистот Тласольтеотль, — сказал Лилиенталь, отпуская ее руку, — у нее было желтое лицо и перья перепелки в голове, мало того, она была еще богиней сексуальных излишеств или что-то вроде того! Думаю, что ваши ногти вполне сгодились бы для ее ритуалов, так же, как эта старая драная метла, которая давно ничего не метет. Когда вы, querida, работали в моем доме, у вас была, по крайней мере, достойная метла, не говоря уже о рабочей совести.
Через пару дней я пожалел об этом его поучительном монологе, но было поздно: Байша разошлась не на шутку, единственным убежищем, куда не проникли голубые пузыри, оставалась спальня покойного хозяина, так что пришлось мне туда переехать с компьютером и книгами. В те дни я часами сидел над переводом для одного русского парня, подвернувшегося мне в кафе — это был текст страничек на сто двадцать, описывающий оборудование сыроварни, которую парень собирался открывать в Эстарнадосе.
Четыре обещанные сотни были нужны мне так сильно, что я даже завтракал с брошюрой в руке, жуя этот самый sanduche de queijo и проклиная схемы сепараторов, засыпанные стрелками, будто подсолнечной шелухой. Я уже два месяца не платил служанке, не говоря уже о стопке счетов, лежавших в ящике стола, как неуправляемая донная мина.
Я так глубоко погрузился в мир сычуга и посолки, что не сразу услышал протяжный Байшин вопль, доносящийся из коридора, где она разбирала вещи в дубовом гардеробе. Ей пришло в голову подняться в коридор мансарды с пылесосом и разобрать завалы старых чемоданов и сумок, затянутые многолетней паутиной. На дне гардероба она наткнулась на шляпную коробку с надписью зеленым фломастером: Зоя.
Я бегом поднялся на второй этаж и застал служанку с открытым кубком в руках, лицо ее побледнело и перестало быть похожим на лицо Тласольтеотль, а урна в руках мелко тряслась, будто набитая роем обезумевших пчел. Небольшая часть содержимого просыпалась на пол, я посмотрел вниз и увидел, что наступил на горстку тусклого серого порошка. Часть пепла Байша уже собрала пылесосом, наверное, до нее не сразу дошло, что именно она уронила. Пепел смешался с бумажками, пылью и синими лепестками средства от моли, которое давно потеряло свою силу, но еще слабо отдавало лавандой.
— Пепел? Я три с половиной года жила в доме с покойником? — Байша говорила шепотом, но я понял, что она вот-вот закричит, подошел и вынул кубок у нее из ладоней.
— С покойницей. Ничего страшного, вы же не держали ее под подушкой. Сеньора была прекрасной женщиной, она бы вам понравилась.
— Вы... anormalidade! — Байша стряхнула воображаемый пепел со своих рук, повернулась и пошла по коридору с высоко поднятой головой. Пылесос остался в коридоре, заполненный теткой, паутиной и домашней грязью. Я понял, что служанка отправилась собирать вещи, и сказал ей вслед, что намерен немедленно отвезти урну туда, где ее полагается держать.
Пепел мудреца Солона, того, что запретил женщинам царапать себе лицо на похоронах, рассыпали по всему острову Саламину, а пепел Джима Моррисона, говорят, развеял над городом торговец, снабжавший его героином. Свою любимую женщину я вытряхнул из бумажного нутра пылесоса на полотенце, голыми руками переложил обратно в урну и завинтил крышку покрепче.
На следующее утро, дождавшись, когда Байша отправится в лавку зеленщика на площади Коммерсиу, я завернул урну в теткину шаль и спустился с ней в подвал. Найти потайное место оказалось не так-то просто: сначала я хотел спрятать ее между бутылками, в глубине винного стеллажа, но шпиль на крышке урны не давал уложить ее плашмя. К тому же, рано или поздно Байша добралась бы до этой полки. Потом я пытался засунуть кубок под корзину, заваленную подшивками «Pblico» и «Viso», но оттуда выскочила наглая бурая мышь, и я передумал.
В конце концов я пристроил тетку в полую глиняную модель маяка, у которой обнаружилась съемная крыша с окном для путеводного света. Острый шпиль так ловко поместился внутри этой крыши, совпадая с пустым верхом, скрученным не слишком туго, как будто ее нарочно подгоняли — впрочем, от моего дяди можно было ожидать чего угодно. Правда, пришлось вынуть лампочку и всякую электрическую требуху, но это заняло у меня не больше десяти минут.
Я прикрутил крышу на место, задвинул маяк подальше в угол и вылез из погреба, чтобы соврать вернувшейся со связками лука и петрушки Байше, что курьер из cemiterio только что увез священный сосуд и даже дал мне расписку. Служанка посмотрела мне в лицо, чинно поджав татуированные губы, и медленно кивнула.
Сегодня я подготовился к приходу адвоката. Трута обещал появиться в тюрьме до ужина, он теперь часто приходит. Ужин здесь вечно холодный, зато приносят его в ресторанной супнице и даже салфетку дают. Мне всегда казалось, что в тюрьме развозят вонючую похлебку в канистрах на тележке, стуча колесами по длинному коридору. Похоже, эта тюрьма не слишком переполнена.
В ожидании Труты я сидел под окном и вертел в руках тавромахию, отражавшую солнечный свет, будто карманное зеркальце. В какой-то момент мне показалось, что микенский юноша, летящий через быка, махнул мне рукой, я вздрогнул и поднес пластинку к глазам — гимнаст был недвижим, черненые быки застыли в голубой эмали, но что-то неуловимо изменилось. Я встал, прошелся по камере, пытаясь поймать ускользающее слово или картинку, и вдруг увидел все как будто с птичьего полета и засмеялся. Эмалевые осколки прошедшей зимы сошлись, хрустнули и совпали зазубренными краями.
Тавромахия, чистой воды тавромахия!
Все началось с того, что Додо уговорила меня записать фильм о встрече политика со шлюхой неясного пола. На это у нее ушло чуть меньше двух недель. В тавромахии это называется cita — здесь нужно соблазнить быка, чтобы он атаковал лошадь, то есть белокурую кобылку со сливовым трепетным задом. Политик не пришел, зато пришел мужик в хламиде, сделал вид, что стреляет, потом вырубил сервер, плеснул на датчанку вишневым соком, включил камеры, дал ей полежать, а потом выключил снова, зная, что я приму серое мерцание как должное — мертвое тело неподвижно, значит, датчики не работают.
Дальше идет encuentro: пикадор втыкает острие, здесь важно, чтобы рана дала крови выйти в районе загривка. Не важно, кровь это или варенье, главное — страшная взрезанная плотская мякоть. Удар острием позволяет распознать степень ярости быка. Если бык кроткий, то обычно убегает, прячется и на все соглашается. Когда я поверил в разыгранную перед камерами пьесу и попросил у них помощи, они потребовали дом, но — упс! — обломались и-за причудливых условий завещания.
Значит, напоследок была salida. Когда бык получил удар острием, ему обязательно нужно дать побегать на воле. Озадачить, заставить занервничать и выплеснуть оставшуюся силу. Когда они поняли, что я нищ, как церковная крыса, и не гожусь на роль богатого болвана, то решили выжать сок и пустить в дело цедру до последней крошки. Смутно помню еще пару названий: испытание плаща и recibiendo, терция смерти, но это, похоже, у меня еще впереди.
Так ясно представил их сейчас сидящими за столом с освещенными снизу лицами, как на рембрандтовской картине «Заговор Цивилиса». В красноволосом вожде батавов (Цивилис по обету выкрасил их в красный цвет до победы над римлянами) я с легкостью узнаю Лилиенталя, моего друга, вечно пахнущего льняным маслом, хотя я видел всего одну картину, написанную им, да и та была практически белым холстом. Нет, вру, я видел еще одну — на дверях лифта, больше похожую на граффити: две половинки песочных часов, сходящиеся и расходящиеся вместе с дверцами. Каждый раз, поднимаясь к Лилиенталю на шестой этаж, я смотрел на них, вспоминая один наш разговор трехлетней давности, один из первых, я его наизусть помню.
Любовь и смерть соединяются как песочные часы, сказал он тогда, те, кто понимают про любовь, понимают и про смерть, и никто не знает, для чего и как быстро пересыпается этот песок. Книги бесполезны, это попытка исправить прошлое ненастоящим, или, если угодно, попытка заставить прошлое поработать еще разок — как если бы оперный картон, оставшийся от «Орфея», закрасили поверху для представления «Порги и Бесс».
— Хорошо что ты не произнес слова палимпсест. У меня от него оскомина.
— Вот это слово ты вспомнил очень кстати, пако. Возьми хотя бы лейденский пергамент, где соскоблили Софокла и накорябали сверху какое-то воззвание. В чужих словах все равно нет никакого смысла, так почему бы не сберечь сотню листов хорошего пергамента?
— А в своих собственных словах смысл есть?
— В своих, в твоих, ты просто не хочешь думать, bobo. Люди используют слова, как песок, они прячутся в него, будто муравьиные львы, подстерегая добычу, заполняя пустые лунки письмами и воспоминаниями, им кажется, что слова помогают не замечать реальности, опротивевшей, как больничная овсянка паралитику. Им кажется, что там, в этих текстах — найденных в памяти, или в сети, или просто высосанных из пальца — кроется объяснение и сладость, а сегодняшнего дня можно не замечать, задернув шторы и усевшись у компьютера с сигаретой и чашкой кофе. Но закрывать глаза на реальность — это значит признать, что она существует!
— Некоторые просто боятся смерти, потому что видели, как умирали любимые люди, — я перебил его, не успев собраться с мыслями, и немедленно поплатился.
— Видишь ли, пако, ты думаешь, что боишься смерти, а сам боишься любви, усыпленный шуршанием своих песчинок, ты думаешь, что любишь тех, кто умер, любишь их в своем прошлом, но стоит перевернуть часы, как песок посыплется обратно, и ты окажешься в их прошлом, и тебе придется увидеть, любят ли они тебя. И что, если — нет?
Дорогой, дорога до города дороговата
Раньше я спал с двумя вещами под матрасом — ингалятором и компьютером, сам не знаю, откуда взялась эта паранойя, ведь украсть их здесь некому. Теперь к ним добавилась тавромахия, я чудом успел ее прихватить, когда был на Терейро до Паго с Пруэнсой и сержантами. Отпросился в туалет, оставил там льющуюся воду, быстро вышел в коридор, встал на стул и снял бокал с верхней полки посудного шкафа. Тавромахия лежала там, куда я сам ее положил, и пахла болиголовом. Я бы ее до самой смерти искал, если бы не теткин неуклюжий лимерик. Откуда взялся сам лимерик, я вообще предпочитаю не думать.
Странно жить на свете, владея всего тремя единицами собственности, не считая одежды. Но это что, некоторые спят с ножом под подушкой или с розами между ног. Вот Зоя, например.
— Когда у Фабиу было хорошее stato d'animo, — сказала она однажды, — он обрывал цветы и засыпал мою подушку лепестками, когда оно было не слишком хорошее, я спала с перочинным ножом под подушкой. Однажды утром я проснулась от того, что розовые шипы впились мне во внутреннюю сторону бедер, я сбросила одеяло и увидела между ног три длинных колючих стебля — одни только стебли, цветы были просто отломаны. Фабиу сидел напротив и улыбался, увидев, что я открыла глаза, он быстро разделся и скользнул под мое одеяло. В нем была жестокость особого рода, нарочитая, refinado, она растворяла его понемногу, как соляная кислота в желудке гиены растворяет шкуру и кости. Иногда мне хотелось спросить его, что же такое вытворяла с ним мать, когда он был ребенком, но я понимала, что ответа не будет. Гладкая обсидиановая головка Лидии мерещилась мне повсюду, будто сумрачный плод в листве незнакомого дерева.
— Ты испугалась, когда нашла его мертвым?
— Когда я наткнулась на Фабиу, лежащего под дверью спальни, он еще не умер, но это был уже не совсем Фабиу. Его белая льняная одежда была грязной и стала ему велика, лицо осунулось и почернело от щетины, волосы свалялись, будто гусиные перья. Смерть — неумелая прачка, в ее руках все становится неопрятным, растягивается или напрочь садится. Первым делом смерть отнимает все красивое и знакомое, чтобы нам стало больнее, чтобы своим узнаванием мы не тревожили того, кого обступает тьма. Я опустилась перед ним на колени, чтобы заглянуть в глаза, но он уже погружался во тьму и видел мир через прозрачный черный платок, или вуаль с мушками, или — засиженное мухами стекло.
Сейчас я понимаю, что Зоя имела в виду. Скажу тебе больше, я понимаю, чего испугался, когда не пошел на ее похороны. То есть я пошел было, сел на «двадцать пятый» автобус, доехал до Rua Santana A Lapa, но тут же свернул в какую-то забегаловку, понимая, что этим выведу мать из терпения, тем более что бумаги, которые нужно показать тамошнему смотрителю, остались у меня. Я сидел в полутемном баре, пахнущем клейстером, потому что над ним была лавка венков и искусственных букетов, пил портвейн и думал о силе огня.
В литовском обычае было сжигать своих мертвецов, особенно мертвецов из хорошего рода, вот князя Кястутиса, например, нарядили в парчовое облачение, положили с ним рядом живого слугу, живого коня в сбруе, живых гончих собак и соколов, а сверху — рысьи когти и охотничий рог. Все это сожгли, воспевая подвиги князя, а пепел и кости положили в гроб. Уж тело на костре: льют молоко, медовые выдавливают соты.
Еще я думал о том дне, когда видел Зою в последний раз, это было зимой две тысячи первого. Я получил телеграмму из Лиссабона: «приезжаю завтра, встречай», мать прочла эти три слова и насупилась, теткин визит представлялся ей покушением на наше entrevista, полное недомолвок и тревожного молчания. Зима была слишком теплой, дороги развезло, и Рамошка, который обещал подвезти меня в аэропорт, опоздал минут на сорок. Когда мы подошли к воротам франкфуртского рейса, тетка уже стояла там, разглядывая карту города, на скамейке я заметил саквояж, тот самый, тартуский, из саквояжа торчала толстая «Publico», не дававшая ему закрыться. Голова тетки была непривычно черной, в тусклом свете зала для прибывающих пассажиров ее белое пальто в мелких пестринах казалось птичьим оперением. На нее оглядывались, литовцы не носят белое, в этой стране оно означает либо свадьбу, либо одежду августинца.
Я попросил Рамошку подождать, подошел к тетке со спины и сказал на ухо страшным голосом:
— Знаешь ли ты, что похожа на полярную сову? Охотишься ли ты на леммингов и строишь ли гнездо на голой земле?
— Я давно уже не охочусь, дуралей, — сказала она, не оборачиваясь. — Просто приглядываюсь к мелкой дичи. Какая уж теперь охота.
Она протянула руку к саквояжу, продолжая стоять ко мне спиной, достала оттуда черные очки, надела их и только тогда подняла ко мне лицо. Мне показалось, что она сделала это с опаской, как будто ожидала, что я вскрикну от удивления. Ничего особенного с ее лицом не произошло, только морщин стало больше, в мелких марсианских канальцах залегла сладковатая пыль, — похоже, она слишком густо пудрилась.
— Извини, что задержался. Я вечно опаздываю, хотя выхожу с запасом.
— Ты похож на своего отца, — она усмехнулась, — только он не опаздывал, а вообще не появлялся.
— А где же твой отец? — спросил я, когда мы медленно ехали по шоссе, занесенному сажей и снегом. — Может, надо было ему позвонить. У него дом в Новой Вильне, говорят.