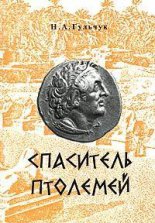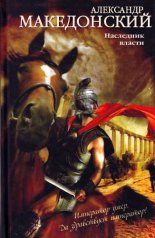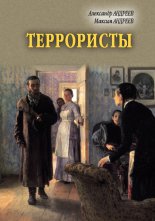Другие барабаны Элтанг Лена

— Ты что, ни разу там не был? — она посмотрела на меня поверх очков, и я заметил красные прожилки в белках, такие бывают от недосыпа или от того, что долго сидишь под водой.
— Он меня не звал. Я его на бабкиных похоронах в последний раз видел. Я ведь ему не родной внук, он нам даже не звонит никогда.
— Ну и семейка у нас, Косточка, — она вздохнула и взяла меня за руку. — Ни одного просветленного лица. По нашей фамильной истории можно снимать бесконечный душещипательный сериал о нелюбви. Остановите здесь на минутку, ладно?
— Какая женщина, — тихо сказал Рамошка, когда мы стояли под университетской аркой, наблюдая, как она покупает сигареты, — красивая и совсем больная. Ты бы присмотрел за ней получше.
— Ладно, сам знаю.
Но я уже не хотел на нее смотреть. Она медленно отплывала прочь, будто японская кукла нагаси-бина, которую положили в лодку и спустили на воду, чтобы она достигла моря и унесла с собой семейные грехи и несчастья. Что-то в ее лице внушало мне страх, нет, даже не страх, а обиду: она не имела права так поступать со мной. Мне хотелось различить в этой женщине прежнюю — стоящую против солнца на террасе, в зеленом платье до полу, с целым роем сияющих солнечных ос над волосами, с полной мокрых, лопнувших вишен миской в руках. Но эта тридцатилетняя тетка — холст, темпера! — едва просвечивала в нынешней, контур ее был смазан, зелень выцвела, а багрянец поблек. Оставаться с ней в комнате, отводить глаза от нейлоновой пряди надо лбом было неловко, даже мучительно, хотя я ругал себя последними словами и старался поддерживать беседу — a grand-peine, с грехом пополам.
Нечто похожее я испытал в десятом классе, когда хорошенькая Ванда, с которой я танцевал летом на деревенской дискотеке, приехала в город и позвонила мне из автомата на Калварийском рынке.
— Отец привез в город индеек и копчености, — сказала она, — я могу отлучиться часа на два, если ты подойдешь к мясному павильону. Покажешь мне город, как обещал.
Выбор места слегка настораживал, но я отогнал эту мысль и быстро собрался, прихватив цветы из вазы в гостиной, денег у меня было только на троллейбус и мороженое. Ванда стояла у рыночных ворот, напряженно вглядываясь в прохожих, я ее сразу узнал, несмотря на несуразную шапку с помпоном. Я долго прятался за телефонной будкой, пытаясь отыскать в ее лице то, что вдохновляло меня в августе. Пальто на ней было явно с материнского плеча, а на шее виднелось крупное ожерелье из каких-то не то лапок, не то сердечек, аккурат как у богини ацтеков. Она была первой девочкой, которая поцеловала меня в рот, без дураков. Но я постоял там немного, повернулся и пошел домой, мне даже думать не хотелось, что кто-то из наших увидит меня рядом с этим лыжным помпоном. И с этими лапками.
Ванда звонила мне еще раз, ближе к вечеру, но я попросил маму подойти и соврать, что меня нет дома. Несколько ночей меня мучил вкус ее губ, хруст свекольной ботвы под ногами и звуки музыки, глухо доносящиеся до сарая, куда мы уходили целоваться. А потом прошло.
Воспоминания, как чужие векселя, прочел я в одном из романов, купленных на распродаже в разорившемся русском книжном. В горькие дни можешь ими рассчитываться, выкручиваться надменным Растиньяком, сжимающим в кулаке стремительно убывающую жизнь, но пока тебе есть чем платить, пока прошлое подкидывает тебя, словно послушный батут, ты в силе, у тебя полный рукав козырей. В один из горьких дней, когда действительность дышит тебе в лицо горячим и затхлым, как забегавшийся пес, свешивает на сторону лиловый язык, и тебе душно, ох, как тебе тошно, ты нашариваешь в кармане раскрошившиеся галеты и кидаешь по одной, прямо в жаркую непотребную пасть, чтобы просто глотнуть воздуха, чтобы отвлечь, обмануть.
Этот парень, герой романа, жил в чужом городе, как я, и так же мнил себя писателем, только он был чокнутым и писал свои письма бог знает кому и зачем, сидя в палате барселонской психушки, а я пишу тебе, Ханна, своей жене, и при этом я свеж и нормален до отвращения. Трудно поверить, что я читал это в сентябре, а теперь апрель, и я уже седьмую неделю сижу в тюрьме и сам написал двести двадцать страниц, это по четыре с половиной страницы в день!
Соседи за стеной слушают песню, от которой становится еще холоднее. Зато русское слово, которое я различаю в тексте, неизменно меня смешит. Это единственное русское слово, которое я слышал за два года. С тех пор, как уехала Агне. Скоро у меня атрофируются лицевые мышцы, округляющие рот на русский манер, мои взрывные и сонорные отомрут, и останутся только шипящие и свистящие.
- Un shish, un shish, un shish en tu corazon,
- Una equis dicha en portugues
- Para que donde estes.
Итак, представим мизансцену:
Мое окно выходит в стену.
Стена. Веревка для белья.
Окно. Стена. Веревка. Я.
Когда меня взяли в Друскеники в первый раз, мне было лет пять, не больше, и я страшно боялся своего двоюродного деда. Он владел пчелиными человечками и казался мне грозным богом, наподобие Бубиласа, особенно, когда возвращался с пасеки в холщовых перчатках, с густой серой сеткой на голове, сетку он то и дело норовил на меня примерить, а я отбивался и вопил. Ульи были сделаны в виде круглоголовых мужичков с широко разинутыми ртами, и это тоже было страшно, потому что пчелы влетали им в рот и вылетали изо рта, мне казалось — подойди я поближе, и тотчас окутаюсь пчелиным роем, одеревенею, перестану дышать.
Сосед деда — запьянцовский капитан запаса — умер в начале лета, и однажды дед взял меня на соседскую пасеку, которую собирался купить у наследника. Он надел на нас сетки, велел мне стоять в отдалении и принялся ходить между ульев, стуча по ним палкой и приговаривая: Пчелы, ваш хозяин умер. Пойдете ли жить ко мне?
День был пасмурным, пчелы сидели тихо, но я слышал их, как слышат явственный звук грозового ливня, то нарастающего, то стихающего где-то вдалеке. Шляпа с сеткой была мне велика, и ее приходилось поддерживать рукой, дед тащил меня вдоль живой изгороди из желтой акации и произносил непонятные кусачие слова, почему-то все на букву р: роение, рамка, расплод. С тех пор пчелы стали одним из страшных снов, а их у меня целая коллекция, все узнаваемые, повторяющиеся, но от этого не менее страшные, по ним я узнаю, что за дрянь лежит на дне моего колодца, так один император опознал свою мертвую жену по родинке на шее, да только что ему с этого был за толк?
Жаль, что я не могу поговорить с Агне, она просто ходячий сонник, однажды я спросил, к чему мне приснилась барабанная дробь, так она и на это ответила — к тому, что мой друг попал в беду. Тогда я сказал, что у меня нет друзей, и она понимающе кивнула, хотя это, Хани, было самое что ни на есть бессовестное вранье. У меня в то время было целых два друга, это теперь — ни одного, зато теперь я понимаю, что дружба заключает в себе сообщение только отчасти, в остальном это открытие. Вообще-то это Голдинг сказал об искусстве, но ведь подходит, ко всему подходит!
В ту ночь, когда мы говорили о снах, Агне пришла ко мне в комнату и сказала, что хочет спать со мной. Сказав это, она встала перед моей постелью, расстегнула рубашку и показала мне свои груди, похожие на плоды хлебного дерева. Минуты две я молчал, глядя на смутно белевшие в темноте плоды — просто не знал, что сказать. Я мог бы процитировать ей Ригведу:
- К другому, чем я, иди скорее, сладострастная!
- С ним катайся туда-сюда, как колеса колесницы!
Я мог промолчать и подвинуться на своей кровати, но не сделал этого. В отличие от первочеловека Ямы, меня не пугает тело моей сестры, оно мне безразлично, однако я помню, кто показал мне, как надо шевелить языком при поцелуе. У меня несколько лет ушло, чтобы отучить себя от этой глупой привычки.
Агне постояла немного, застегнула рубашку и ушла, оставив мою дверь открытой. В ее комнате, вернее, бывшей комнате Лидии — с приземистой мебелью и кроватью под балдахином — раздался звук, похожий на плач ребенка, и почти сразу погас свет. Заснуть я не смог и стал думать о женщинах. Прямо как теперь. Ты не поверишь, если я скажу тебе, сколько я думаю о женщинах, обо всех женщинах — хотя пишу тебе только о нескольких. Но я не скучаю ни по одной живой женщине, Хани, вот что паршиво.
Я мог бы сказать, что скучаю по тебе, но ты не поверишь, ведь если бы я скучал, то нашел бы тебя задолго до того, как это сделал чиновник из Департамента эмиграции. По ночам, чтобы не думать о предстоящей каторге и потерянном, семь недель не топленном доме на Терейро до Паго, я перебираю имена своих женщин. Так ирокезский посол теребил свой пояс, расшитый иглами дикобраза и речным жемчугом: все эти бусины что-то значат, но я забыл язык пояса и не помню, с войной явился сюда или с миром.
Выходит, что я спал с тремя десятками meninas lindas, и ни одну не хотел бы увидеть теперь в этой камере, даже Габию, которую стоило бы увидеть, чтобы влепить ей хорошую затрещину.
Если бы у меня был маркер или хотя бы мелок, я нарисовал бы на своей стене то же, что средневековый монах нарисовал в маргиналии на полях рукописи — «женское срамное место с зубами». Не помню, где прочел про монаха, но мне нравится ход его мыслей.
Если у кого-то есть зубы между ног, так это у Агне, боюсь, что она отрастила их специально для меня. Кукла в мокрых от водопроводной воды пеленках, которую она везде с собой таскает, это горестный фетиш, и виноват в ее горе не кто иной, как я, canalla. Я не разрешил ей остаться в доме, я выгнал ее из своей постели, я не схватился за ее груди, висящие над моим лицом! Такой человек может быть только врагом. Боги мои, чему она там учит бедных нигерийцев? Пишет с ними сочинения, как тот парень у Марека Хласко? «Добрый Боженька, а ну как Ты умрешь, что тогда будет? Никто не хочет мне этого сказать. Твой друг Майкл».
Ладно, я вроде не об этом хотел написать. Я хотел рассказать тебе свой сегодняшний сон. Не забыть внести его в список тюремных снов, ставлю тут галочку.
Во сне я видел рыбный рынок, тот самый, возле вокзала Ориенте, только это было утром, часов в шесть, так что кроме уборщиц и грузчиков в зале никого не было. Я шел вдоль чисто отмытого мраморного прилавка, ведя пальцем по его краю, пока не остановился перед ранним продавцом, разгружающим корзину с креветками. Сначала я оценил их сиреневую влажную свежесть, потом услышал литовскую речь и только тогда поднял глаза на Лютаса — тот стоял за прилавком, сложив руки поверх брезентового фартука.
— Помоги-ка, — сказал Лютас и сунул мне в руки железный ящик с колотым льдом. Я перевернул ящик, высыпав осколки на мрамор, и принялся выкладывать из них холмик, руки сразу же посинели и заныли. Лютас молча наблюдал за мной, наморщив лоб.
— Финал — это самое трудное, — сказал он наконец, вытряхивая на лед всех креветок разом. — Сюжет в таком фильме — только помеха чуду монтажа. Тут главное не потерять динамику, в финале режиссер остается один на один с персонажем, а оператор появляется, как бог из машины.
— Финал? — я переспросил, хотя слышал его так отчетливо, как будто невидимый тонмейстер прикрутил колесико, отвечавшее за рыночные шумы. Железное лязганье тачек и поддонов, постукивание ракушек, ссыпаемых в лоток, гудение латунных раковин, где мыли крупную рыбу, гул холодной воды, бьющей из почерневших львиных голов, шарканье метел и грабель для сгребания чешуи — все это отступило и затихло, стоило Лютасу открыть рот. Вещи слушаются мертвых охотнее, чем живых, и я, кажется, понимаю почему.
— Когда снимаешь скрытой камерой, а ты ведь знаешь, что это — мой конек, зритель привыкает к осколкам реальности, ограниченной радиусом видения. Но в финале я обязан вытащить тебя на свет божий. Обернись! — закричал он мне в лицо, страшно округлив глаза и растопырив мокрые пальцы.
Я вздрогнул и обернулся.
По проходу между прилавками медленно шла девочка с овощной тележкой, за ней по каменному полу стелился след из луковой шелухи. Я поклонился, и девочка важно кивнула, остановившись. На ней была прозрачная школьная форма, сшитая как будто из нейлоновой занавески.
— Ты ведь Мириам? — я хотел погладить ее по голове, но она перехватила и отвела мою руку.
— Снято! — сказал Лютас. — Последняя часть, последняя сцена. Поздравляю, это единственная вещь, которую ты довел до конца. А то вечно у тебя на половине дороги кураж пропадает.
Я оглянулся на девочку, но она уже продолжила путь к овощным прилавкам, которых на Рибейре всего несколько, овощи и зелень здесь не в чести.
— Ну, ты сам посуди, — продолжал Лютас, подправляя рукой креветочный холмик. — Марки — где твои марки? Рыбки — где твои рыбки? Тетка — где твоя тетка? Ничего у тебя нет, ничего своего.
— А у тебя что есть? Ты умер, и твой жестяной балаганчик закрыт. Камеры забрала полиция, а лилипуты разбежались. Где твое беспощадное кино, которое ты столько лет собирался снимать? — я произнес это на одном дыхании, но, посмотрев ему в лицо, устыдился и замолчал.
В детстве меня всегда удивляло, что от ярости он заливается румянцем до корней волос. Все люди, которых я знал, бледнели от злости, а краснели от стыда, и только Лютас все делал наоборот.
— Я хотел снять кино про человека, который сделал из своей жизни антракт между двумя актами чужой пьесы. Я мог бы нанять актера, но мне показалось, что я окажу тебе услугу.
Я набрал воздуху, чтобы ответить, даже руку к нему протянул, но тут сон оборвался, плеснув тяжелым рыбьим хвостом, и ушел на глубину.
— Кайрис, выходите на допрос, — услышал я. Редька стоял надо мной, поигрывая бильбоке, красный шарик на нитке мерно качался над моим лицом, будто стрелка перевернутого метронома.
— Испекли меня, так ешьте мое тело! — сказал я, неохотно поднимаясь с лежанки, а он фыркнул и покрутил пальцем у виска. Еще бы, откуда ему, крепколобому, знать про муки святого Лаврентия.
Мы-то с Лютасом знали про мучеников все, потому что его бабка торговала литографиями у дверей Кафедрального собора, в ее корзине были бичевания и пытки раскаленным железом, простоволосая девица с отрезанной грудью и пророк, попирающий львов во рву.
Рядом с бабкой иногда садился слепой Ремигиюс, расстилавший на ступеньках бумажки с яблочной пастилой. Нужно было положить Ремигиюсу в шапку денег сколько не жалко и взять конфету, стараясь, чтобы он не успел поймать тебя за руку. Однажды я замешкался, доставая мелочь, слепой крепко ухватил меня за запястье и заставил отвести его на противоположный угол площади, к дощатому сараю реставраторов. Мы зашли за сарай, где студенты с археологического курили, сидя на корточках, на краю глубокой ямы, обнесенной синими лентами на колышках. Помню, что я подумал: как это они умудряются, сидят вот так часами, будто кочевники. Еще я подумал: сейчас Лютас заметит, что я пропал, порыскает по площади и явится меня выручать.
Слепец тоже сел на корточки, продолжая держать меня за руку, протянул к студентам другую руку со сложенной в лодочку ладонью и сказал, что привел мальчика на продажу. От страха у меня пропали все силы разом, я представил себе усыпанное мальчиками дно этой ямы, где, как говорили в городе, нашли кости шестисотлетней давности, времен Ягайлы и вырубки заповедных дубов. Студенты засмеялись, а тот, кто казался у них главным, сказал, что, мол, покупает и вложил в ладонь слепца железный рубль и смятую сигарету.
Я пытался вырваться, но Ремигиюс все крепче впивался в мое запястье худыми синеватыми пальцами, студенты поглядывали на меня с жалостью, а Лютас все не появлялся. Коварный слепец вернулся на паперть, у меня тут же отобрали куртку и портфель, и пришлось хорошенько побегать — то за пивом, то за сыром, — пока не сгустились сумерки, принялся накрапывать дождь и бригадир не сделал знак собирать инструменты. Добравшись до дома, я нашел своего друга на заднем дворе, в нашем шалаше, где от дождя прятались нахохленные соседские куры. Лютас сидел там с фонариком и читал «Ogniem i mieczem» в рваной обложке, который мы вместе нашли на помойке возле библиотеки. Он поднял на меня заплаканные глаза и сказал:
— Иеремию отравили, сволочи, князя Вишневецкого. Огурцами и медом.
Остров Исабель
Я вообще люблю острова. Там легче царить.
Альбер Камю
Не могу спать. Уже шесть часов и сорок две минуты не могу спать.
Сначала я считал овец, потом повторял испанские глаголы, теперь пересчитываю уклеек. Года два назад Лилиенталь обронил в разговоре, что прочел о способе подделки жемчуга: стекло прокрашивают изнутри, вдувая жемчужную эссенцию, сделанную из уклеечьей чешуи. Так вот, сказал он удивленно, на сто грамм этой белесой дряни идет четыре тысячи уклеек Ты представляешь себе, что такое четыре тысячи ободранных уклеек?
Нет, уклеек считать скучно, попробуем снова глаголы. Испанское слово corrida происходит от correr, что означает «бежать», а также — продаваться, грабить, преследовать, струиться, задвигать засов и стыдить, это я еще по тартуским лекциям помню. Был бы здесь Ли, так он до утра говорил бы о текучести смыслов, на эту тему он заводится с треском, как старые часы с кукушкой. Был бы здесь Ли, я бы его прямо спросил: бежать мне или струиться? стыдиться ли? задвигать ли мне засов? До полуночи я ходил по камере и разговаривал вслух, в двенадцать охранник принес мне аспирин и велел утихнуть, теперь я просто лежу и смотрю на дверь.
Я вижу круглую ручку и внушительную замочную скважину — такой замок мог быть на сундуке с казной или на воротах зверинца. Здешние засовы выглядят и лязгают как положено — иногда мне кажется, что охранник нарочно возится так долго, чтобы испытывать мое терпение. Странное дело, лунный свет почти не проникает в мое окно, хотя солнца в полдень бывает хоть залейся, на восточной стене даже есть место, где солнечная лиса в полдень гоняется за солнечным зайцем.
Выйду на волю — первым делом узнаю, что здесь раньше было, на месте этой тюрьмы. Что-нибудь вроде склада военной амуниции времен короля Карлоса Первого, которого убили в Альфаме, прямо под моими окнами, когда он возвращался с охоты. Прошло всего пятьдесят два дня с тех пор, как меня сюда привели — я сосчитал все зарубки, пятьдесят два завтрака, пятьдесят два вечерних ужина и сто четыре стакана яблочной кислятины. Вряд ли тетка назвала бы меня красавчиком, bonito, если бы увидела такого — в грязном свитере на голое тело, с армейской щетиной на черепе и розовой сыпью на лбу. Вот она-то была bonita, еще какая bonita, пока не осыпалась в одночасье, подобно изразцовому фасаду, треснувшему от подземного толчка.
Я говорю — осыпалась в одночасье, Хани, но это вранье. Я говорю так, потому что хочу выкинуть кое-что из головы. Но мы тут не в бирюльки играем, поэтому придется писать правду, тем более, что за последние недели все молекулы во мне заменились, как говорил Стивен Дедал, и я теперь совсем другой человек, а не тот, что занимал у вас фунт.
В то зимнее утро, о котором я не хотел говорить, мать уехала в клинику, у нее было праздничное дежурство, за которое давали два свободных дня. Гокас заехал за ней на своей горбатой машинке, вид у него был смущенный, потому что вечером они с теткой читали русские стихи, и ему пришлось признаться, что он кое-что помнит наизусть. Со мной он ни разу не говорил по-русски, и я был поражен, услышав, как чисто он произносит; «смолкает зарей отрез-з-звленная птица», старательно просовывая кончик языка меж зубов. Просто удивительно, с какой радостью все в этой стране забыли русский язык. Не будь у меня няни, я бы тоже забыл, пробавлялся бы чердачными слипшимися журналами, вроде «Нового мира». Не будь у меня няни, тетки и Фомы Аквинского в переводе Аверинцева.
Я проснулся в то мгновение, когда к моей щеке приложили греческую губку, напитанную морской водой. Я лежал в высокой траве, заслонявшей небо сухими колосками, тени они не давали, солнце светило прямо в лицо, мне хотелось пить, но я не мог двинуться с места, как это часто бывает во сне — я не слишком беспокоился, ясно сознавая, что сплю, и просто ждал, когда это кончится. Тот, кто приложил мне губку к лицу, двигался бесшумно и тихо посмеивался. От него пахло табаком и можжевельником, а от морской воды пахло головастиками — понятия не имею, пахнут ли они вообще, но во сне я был в этом уверен.
— Вот потому-то мы, женщины, и непобедимы, — сказал можжевеловый голос. — Мы благоразумны так, что невозможно нам противоречить; милы так, что нам охотно подчиняешься, чувствительны так, что боишься нас обидеть, наконец, полны предчувствий — так, что становится страшно.
— Я это где-то читал! — сказал я и проснулся.
Тетка сидела на краю постели, прижимая к моему лицу мокрое полотенце. На носу у нее было пятнышко сажи, а на плечах — пальто моей матери с черно-бурым лисьим хвостом.
— У тебя жар, — сказала она. — В доме страшно холодно, и печка ваша барахлит. Я пыталась развести огонь, но только перемазалась с ног до головы. А ты слишком долго спишь.
— Нет у меня никакого жара, — я вдохнул можжевеловый запах. — Снимай эту тряпку и залезай под одеяло.
Запах — всесильный бог деталей, на нем все держится, ты выходишь из гостиницы в плохо знакомом городе, где был ребенком, и запах забирается тебе в ноздри и ведет тебя вниз по лестнице, вдоль желтой стены табачных доков, мимо скобяной лавки, вдоль серой стены музея фадо, к вокзалу Санта-Аполлония, где продают свежие bolos de manteiga, и только там твои зрачки расширяются, и ты понимаешь, что купил целый кулек таких bolos на этом самом месте, прямо напротив русской церкви, и тогда уже просыпается твоя косорукая память и говорит тебе, что это было апрельское воскресенье тысяча девятьсот девяносто первого года.
Зоя бросила полотенце на пол, сняла пальто и легла со мной рядом, она была такой холодной, что я сразу поверил в свою температуру. Я ткнулся носом в голое смуглое плечо, потом — в ложбинку между грудей, в ложбинке лежала рыбка, медальон на черном шнурке. Потом я приподнялся на локте, отогнул ворот ночной рубашки и поцеловал ее правую грудь. Сосок был твердый и немного клейкий, будто сосновая чешуйка. Зоя лежала тихо, закрыв глаза рукой и прикусив нижнюю губу, мне показалось, что она еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. Я отвел ее руку, заглянул в лицо и увидел, что так оно и есть.
— Ты когда-нибудь видел этрусское зеркало, Косточка?
— Видел. Оно мне даже попалось в билете на экзамене по археологии.
— Ну вот, в точности такую картинку я видела на обороте зеркала в ватиканском музее: богиня Уни вскармливает своим молоком здоровенного бородатого бога.
— Не смешно.
— Ладно, не смешно, — согласилась она.
— Хочешь, я пойду и сбрею бороду?
— Я хочу почувствовать хоть что-нибудь, — Зоя повернулась ко мне лицом. — Помнишь, в той эстонской гостинице мы тоже лежали рядом, только жар был у меня, я жутко хотела спать, а ты болтал без умолку да еще вытаскивал меня на ледяной балкон покурить. Но мне было хорошо.
— А сейчас? — я погладил ее по щеке, щека была немного шероховатой, будто язык у кошки.
— А сейчас надо вставать и принимать лекарство.
Я знал, что ее снова резали, но подробности нужно было спрашивать у матери, а это безнадежно. Моя мать умеет делать мраморное лицо Филлипа Аравитянина, когда не хочет отвечать. Раньше, глядя в это лицо, я с ужасом думал, что в старости стану похож на свою мать. Теперь-то другое дело, теперь я посмотрел бы в лицо матери с радостью и попросил бы приходить почаще, а Филлип Аравитянин пусть идет себе на хер, no cu da mae.
— Правда, странное слово «раковина»? — сказала тетка. — Я сейчас смотрела на твое ухо и думала, что человеческая pinna мало чем отличается от морской concha. Однажды я пыталась нарисовать морскую раковину, поставив ее перед собой, и не смогла, в глазах зарябило.
— А меня ты хотела бы нарисовать?
— Нет, твое лицо меня больше не вдохновляет.
— А тело? — я сбросил простыню и сел у нее в ногах.
— Какой ты гладкий, будто из мыльного камня выточен. Нет, не вдохновляет.
— А так? — я разозлился и задрал подол ее рубашки, но тут же отдернул руку в замешательстве. По впалому животу вился новый, незнакомый шрам, красная змейка в песке, маисовый полоз, черные нитки казались полосками на спине, а змеиная голова уходила вниз, под светлую, коротко остриженную шерсть. Зоя не шевелилась, глаза ее были прикрыты рукой, но я слышал, как колотится ее сердце, и видел гусиную кожу на бедрах.
Какое-то время мы молчали, потом я наклонился и поцеловал красную змейку, сначала в завиток хвоста, потом в полосатую спину, а потом спустился ниже и сделал с Зоей то, что всегда хотел сделать. Время замедлилось, оно пахло сыроежками, будто я лежал в грибном овраге после дождя. Я еще ни разу не делал этого с женщиной, и боялся, что Зоя ничего не чувствует и улыбается, глядя в потолок. У нее была одна улыбка — темная, незнакомая, она недавно появилась. Так улыбаются люди, похищенные эльфами, когда им говорят, что со дня их ухода в холм прошло сто двадцать лет.
— Esta concha muy deliciosa, — я поднял голову и посмотрел ей в лицо, она не улыбалась.
— С твоим испанским тебе легко будет в Португалии. Придется помучиться с носовыми дифтонгами и научиться говорить rua вместо calle.
— Ты об этом думала, пока я тебя целовал?
— Нет, о другом. Я подумала, что здесь, в вашем доме, я живу как будто понарошку. Вильнюс для меня застыл в семидесятых, а то, что я вижу сейчас, — просто имитация, изумрудный триплет. У моей свекрови был такой камень в перстне, она им страшно гордилась, но однажды он развалился на два куска кварца и осколок зеленого стекла.
— Я тоже кажусь тебе подделкой? — я укрыл ее одеялом и лег между ней и стеной.
— Мне приснилось сегодня, что я еду по городу на машине, очень волнуюсь, опаздываю на важную встречу — из тех встреч, опаздывать на которые никак нельзя. И вот я подъезжаю к условленному месту, вижу того, кто меня ждет, он машет мне рукой, улыбается, я жму на тормоз, но педаль проваливается у меня под ногой, я не могу остановиться и со всего размаху врезаюсь в этого человека.
— И ты проснулась? — теперь я видел ее профиль совсем близко и машинально принялся думать о красках. Розовый кипарис, яичные белки и зеленая земля. И византийская кошениль — если бы я рисовал то, что целовал.
— Я не помню его лица. Только голос. Он закричал, провалился куда-то под сцену, и его унес поворотный круг. Я проснулась и почувствовала себя старой, практически мертвой.
— Тебе всего сорок лет, и ты будешь жить долго, я обещаю.
— Сорок с половиной. Может быть, я схожу с ума? Говорят, что Юнг был уверен, что отчасти живет в восемнадцатом веке. Однажды он увидел барочную картину с каким-то доктором и узнал там свои собственные ботинки с медными пряжками. Сейчас, например, мне хочется вывести цифру 1966 вместо 1999 и оказаться в этой кровати с плюшевым медведем, перемазанным клюквенным киселем. Вот было бы весело.
— А со мной в кровати тебе невесело?
— Не думай об этом, Косточка. Никогда не думай о том, что чувствуют женщины. — Она встала, подняла мамино пальто с пола и накинула себе на плечи. — Они понятия не имеют, что они чувствуют. Ладно, ты еще поваляйся, а я пойду к себе, разговаривать со своими таблетками. У каждой таблетки есть имя, поверишь ли.
Я поверил, разумеется.
Имя — это вообще единственное, за что можно хоть как-то зацепиться.
Нужно идти, надев на голову терновый венок,
чтобы знать, о чем думает глубокий колодец.
Между попыткой ограбления в Эшториле и появлением в моем доме полицейских прошло всего семь дней, но они показались мне бесконечным спуском, будто устройство блошиного мира по Джонатану Свифту. Часы вкладывались в дни, словно китайские шары из слоновой кости, перебираемые мной бесконечно, с мучительным ощущением спрятанного в одном из них диссонанса, бага, несоответствия. Каждый раз, поднимая телефонную трубку, я ждал, что это будет Ласло и что он скажет:
— У тебя не вышло, dndi. Ты ни на что не годишься. Сначала ты пытался всучить нам дом, который тебе не принадлежит, потом изображал опытного хакера, но не смог справиться с охранным устройством, простым, как конторский дырокол.
Или он скажет:
— Мы умываем руки. Ты не смог добыть заказанную цацку, и сеньор Ферро очень расстроился. Теперь он сдаст тебя копам, как и обещал. Собирай бельишко и суши сухари.
Представь, как я удивился, когда двадцать второго февраля метис-посредник назначил мне встречу в кафе, вернул пистолет, завернутый во фланелевую тряпку, и сказал, что мы в расчете. Потом он сунул мне в руки конверт с деньгами и раздвинул в улыбке серые сборчатые губы:
— Мы твои друзья, ниньо, теперь ты это видишь?
А что я должен видеть? Меня наняли, чтобы сделать запись, пригодную для шантажа, думал я, глядя, как он внимательно читает меню. И я ее сделал. Тех, кто меня нанял, было, по меньшей мере, пятеро: безработная стюардесса, сам Ласло, тот, кого они называют чистильщиком, этот самый кабокло, и еще один — наводчик, друг, некто, имеющий ко мне самое прямое отношение. Полагаю, никто из них не думал, что простая история закончится стрельбой, поэтому, как только запахло порохом и скандалом, моя испанская подруга исчезла, растворилась в тумане, как крепостные стены скандинавского Утгарда.
Поразмыслив, Ласло решил использовать меня еще разок, в другом гешефте, но затея провалилась. Тогда почему они возвращают мне пистолет да еще денег дают? Я не уступил им дом и не принес им ни деревянную руку тореро, ни серебряную руку короля Нуады, ни черта лысого, почему же меня оставили в покое? Из жалости, что ли?
— Сколько набросали гвоздики в мясо, не иначе как повар — мурсиец, — сказал посредник, осторожно принюхиваясь к тарелке. Мы сидели в «Canto idilico», у стены с остатками модернистской росписи — виньетками, похожими на обложку книги Рубена Дарио. Метис не пожелал заходить ко мне в дом, может быть, потому что знал о камерах и боялся, что я и теперь держу их включенными. Я мог бы сказать ему, что выдранные чистильщиком провода так и валяются рядом с сервером в чулане, но не стал.
Сегодня в коридоре нестерпимо воняло краской, свинцовыми белилами, и у меня был приступ астмы, первый за две последние недели. Я заработал свою аллергию в две тысячи девятом, когда ездил по приморским районам с реставратором Фокой: краски и клей, с которыми тот возился, были на удивление мерзкие, сначала я повязывал на рот платок, но потом мне надоело его стирать, и я махнул рукой. К тому времени я больше года сидел без работы и без травы, так что несколько бассейнов, изразцовых фасадов и портиков заметно поправили мои дела, а на вилле в Капуфейре мне заплатили вдвое против обещанного.
Представь себе, Хани, просторную веранду, выложенную терракотой (это была работа Фоки, как всегда уехавшего первым), маленького жилистого хозяина, выходящего в футбольных трусах даже к обеду, и его восковую жену-гречанку, отпиравшую поставец с вином особым ключом, который она доставала из вязаной безразмерной кофты. Меня кормили прямо у бассейна, поставив там шезлонг, вино в этом доме было смолистое, как рецина, наверное, хозяйка привозила его с родины, а на обед всегда было одно и то же — долма.
Жена хозяина проходила мимо меня по многу раз на дню, оставляя на краю портика то банку с пивом, то горсть лущеных орехов. Иногда она вставала на колени, наклонялась над бассейном, спуская волосы до самого дна, будто нечесаная Рапунцель, и молча смотрела, как я разбиваю плитку молотком, а потом собираю ее снова — головоломка для мазохиста, занятие для умалишенного. Ночью я слышал, как она бродит округ террасы, где между плитками еще торчали щепки, оставленные Фокой, один раз я даже хотел окликнуть ее и предложить распить бутылку под луной. В то лето луна бывала бессовестно желтой, точь-в-точь сусальное золото, которое мой напарник хранил в листочках — бережно, будто колоду крапленых карт.
Спустя две недели южанин осмотрел мою работу, вылез из бассейна, где он ползал по дну в своих полосатых трусах, поморщился и сказал, что дно получилось слишком темным, и следовало положить больше белых осколков, чтобы оживить блеск воды. К тому же, он переплатил моему напарнику за веранду и больше не даст водить себя за нос. На это я заметил, что он заглядывал в бассейн по меньшей мере четыре раза на дню, мог бы и сказать, раз не нравилось, но хозяин махнул рукой и ушел в дом. Я пошел за ним, повторяя: заплати, и я уеду, а не заплатишь — в твоем бассейне заведется плесень!
Южанин высунул голову из кухонного окна и весело оскалился.
— В штанах у тебя заведется плесень, — сказал он. — Вас, поляков, нужно учить. И швы неровные, и цвет болотный. Возьми сотню и уходи.
Он протянул в окно свернутую бумажку, вынув ее из-за уха, будто папиросу, и я понял, что он приходил с этой сотней к бассейну еще до того, как проверил мою работу. Я подергал дверь, но он запер ее на задвижку и ушел в глубь дома. Я пнул дверь ногой и набрал воздуха, чтобы крикнуть ему вслед, но вдруг закашлялся и согнулся пополам от боли в груди.
Хани, я сам испугался — я так долго кашлял, что потерял равновесие и схватился за перила, а потом и вовсе сел на пол. Кто-то вложил мне в руку стакан воды, стакан был ледяным, от этого стало еще хуже, в голове у меня взрывались холодные красные петарды, одна за другой, а в груди лежала холодная тяжелая слизь. Когда я продышался, рядом никого не было, сотенная бумажка лежала на подоконнике, а солнце стояло в зените. Я вытер рот краем майки и пошел собирать инструменты. У ворот меня догнала гречанка и окликнула по имени:
— Костас!
Я обернулся.
— Ты грек? Костас — это греческое имя.
— Нет, не грек, — я покачал головой.
Ее лицо приблизилось к моему, я увидел на полной шее свежие порезы и старые шрамы, ясно, почему она даже в жару ходила с распущенными волосами. Рапунцель взяла мою руку и сунула в ладонь несколько свернутых бумажек.
— Возьми, парень. Это тебе причитается. И не сердись на него. Он поставил у букмекера на вчерашнюю игру «Спортинга» и проиграл.
Там было вдвое больше, чем мне причиталось, но я не возражал. Изразцовое лето кончалось, пачка счетов копилась в почтовом ящике, а банку я вообще не платил с начала весны и ждал неминуемой кары. В октябре, когда я пришел к Лилиенталю с письмом от нотариуса, я и так знал, что там написано, разве что нескольких казенных оборотов не понял. И Лилиенталь знал, что я знаю, он сам хвалил мой португальский. Мне хотелось, чтобы он прочитал письмо, и он прочитал, сел в кресло и покачал головой.
— Продавай дом, пако. Выселяй Байшу с ее вязанием, продавай дом и снимай холостяцкую квартиру на холмах. Твоя женщина хотела как лучше, оставляя тебе в наследство музей канделябров, но ты не тот человек, который может удержать собственность. Сам подумай, с какой стати я буду одалживать тебе десять тысяч? Ведь ты их не вернешь, и наша дружба расстроится.
— Не расстроится!
— Еще как расстроится. Однажды я видел сон, что разбиваю головой стекло, а утром нашел мертвую птицу на подоконнике — она свила гнездо за портьерой и не смогла попасть в дом, когда пошел дождь и окно закрыли. Улавливаешь, пако? Не стоит биться головой о чужое стекло только потому, что ты свил за ним гнездышко и считаешь его своим.
— Дом и есть мой.
— Отнюдь, Константинас. Он тебе просто-напросто не по зубам. Этот дом слишком просторен и полон густой — да просто дремучей! — метафизики, от которой ты дуреешь и смолишь свои пахитоски одну за другой. Продай и забудь, я дам тебе записку к нужному человеку.
Я вышел от него, разглядывая листок с телефоном, на обороте листка была программка ипподрома «Мануэл Посолу». Белые чернила на черной бумаге выдают человека порывистого, сказала бы моя бабушка Йоле, она могла часами разглядывать чей-нибудь почерк и потом еще карты бросить, для подтверждения. Однажды я застал ее склонившейся над конвертом с португальской маркой, она не решилась распечатать письмо и разглядывала адрес, написанный теткиной рукой.
— Сразу видно, что это нелюбимый ребенок писал, — сказала она, — да еще и сильно обиженный. Буквы так и прыгают, как их только почта разбирает.
— На тебя и обиженный, — сказала мать из кухни. — Кому-кому, а тебе следует об этом знать.
— На себя обиженный, — бабушка поджала губы. — Из своей страны сбежала, в чужой не прижилась, теперь в третьей мается. Чисто щенок, с поводка сорвавшийся. Еще и кунигаса обманула, святого человека, за это будет в аду гореть.
Что правда, то правда: в день венчания тетка сказала кунигасу, что крещена в католическом храме, а крестик, мол, давно украли в общежитии. Она сама мне рассказала, когда мы стояли в приделе Святой Анны, разглядывая кунигаса, тихо возившегося в пресвитерии. Не знаю, как вышло, что ей поверили: из тех двух питерских храмов, что мне известны, в одном располагался музей атеизма, а в другом — картофелехранилище. Перепуганный Дарюс еле-еле уговорил ее венчаться, бегал за ней по университетским коридорам — его набожная мать, услышав сплетни, сказала ему, что не пустит домой, пока он не покроет свой грех. Вот болван, я бы в жизни матери не признался.
— Мне пришлось исповедаться на итальянском языке, — сказала тетка. — Молитву я читала по бумажке, а на исповеди совсем растерялась. Некто в белой кружевной безрукавке стоял за моей спиной и подсказывал слова. Про Дарюса я все честно рассказала, а про Пранаса не стала, у всякой откровенности должен быть разумный предел.
— И что сказал кунигас? Отправил жениха на покаяние?
— Ему ничего не сказал. А мне, за то, что легла с парнем до свадьбы, назначили епитимью — шестьдесят раз переписать текст: «Viepatie Jzau, mano Gelbtojau».
— Тебе повезло. Вот к моей матери жених даже в костел не пришел. Может, это и к лучшему, а то был бы я сейчас молодой пан Конопка, а мать — пани Конопчина.
Кунигас захлопнул книгу и отправился в ризницу, мы остались одни, и я сразу притянул Зою к себе и стал гладить ее по голове.
— Волосы портятся от снега с сажей, — она поежилась, — придется снова мыть, когда придем. Все в этой стране или мокрое, или холодное. Или бессовестное. Зачем ты здесь живешь?
— А я помню, как мать сушила волосы над газовой плитой, — сказал я зачем-то. — Низко наклонялась и трясла головой. Мне казалось, что однажды они вспыхнут и мать сгорит прямо на моих глазах, синим пламенем, останется только горячее пятно на полу.
— Твоя мать нипочем не сгорит, — хмуро сказала тетка. — Но я знаю место, где ей придется гореть наверняка. В первом поясе девятого круга. Или в третьем.
— За что ты ее не любишь?
— Глупости. Я всех люблю. Я даже тебя люблю.
Она покосилась на кунигаса, выходящего из галереи, что ведет к бернардинцам, крепко взяла меня за уши и поцеловала в губы. Потом отодвинулась, засмеялась, провела мне пальцем по носу и поцеловала еще раз. Вот оно! Голландский табак! Можжевельник!
Слушай, сегодня я перечитал это письмо и понял одну вещь, нет — две вещи.
Письмо это — чистой воды отмазка, с таким же успехом я мог бы писать чугунному памятнику Барборе Радзивилл. Я пытаюсь нащупать в прошлом какие-то потерянные, ушедшие под воду концы, чтобы понять, как вышло, что я оказался на этих галерах, и почему мои боги — ведь есть же у меня какие-то боги? — махнули на меня рукой. Нет, не так. Не в концах дело, дело в том, что не хватает смысла, а раньше он был. По крайней мере, что-то брезжило. Потому что ты смотришь назад, сказал я себе надменным голосом Лилиенталя, вот почему. Ты лорнируешь горящую сцену своей юности, думая, что сидишь в партере, в безопасности, и можешь спокойно разобраться в сюжете или, что еще глупее, сделать выводы. Если бы ты знал, чт сидишь как раз на сцене и огонь уже подобрался к твоей заднице, ты бы шевелился побыстрее.
И вторая вещь, Хани, — я не слишком уверен, что ты получишь это письмо. Сказать по правде, у меня есть только один адрес Ханны Паанема, да и тот сомнительный. Я нашел его в социальной сети, вернее, Редька для меня нашел. Нашел и содрал с меня за услугу две двадцатки и верблюжий шарф.
...нужно вредить плохим певцам, перерезая им глотки, чтобы они не устраивали сборищ.
Несколько дней — с тех пор, как меня водили в морг — я боялся даже наткнуться на мысль о Лютасе, обходя ее, будто колодец с мертвой водой. Меня мучил стыд, потому что я так долго думал на него, а он лежал в длинном ящике с биркой, с глазами, покрытыми изморозью, как стекло зимнего троллейбуса.
Его убили в Эшториле потому, что там я назначил ему встречу. Простейший scenario: я должен был уткнуться в запертую дверцу сейфа, опечалиться, тихо отправиться в отель и лечь спать до полуночи. Мне было велено ничего лишнего не трогать, работать в перчатках, уходить немедленно. А я что сделал? Битый час просидел в хозяйском кресле, потом открыл витрину, натоптал и наделал шуму, а потом испугался полиции, помчался домой и закрылся там на несколько дней, окутавшись веселящим дымом. Нет, не сразу помчался домой. Я еще наглотался кофе до одурения, поджидая своего друга в «Ди Маре» и перебрав в уме всю слабую литовскую матерщину. Лягушка, уж, свинья.
И вот здесь, Хани, у меня возникает вопрос: тот, кто застрелил Лютаса, заранее знал, что подставит именно меня, или услышал обо мне впервые от того же мадьяра? Есть у нас подходящий парень, сказал мадьяр, зовут его К.К., вот уж кто лох из лохов, мы его долго пасли, четыре недели угробили, а он оказался самым бедным лохом во всей Альфаме. Можете взять его себе за небольшую плату. И еще вопрос: они послали меня на побережье, потому что Лютас должен был там оказаться именно семнадцатого, или наоборот — он сам сказал им, что встречается там со мной, и тем обозначил место и время своей смерти?
Нет, первое не годится. Затевать всю эту маету с ограблением только для того, чтобы заманить меня в приморскую деревню? Absurdo. К тому же каменных дырок и прочих отверстий хватает и в столице, взять хотя бы сочащееся нефтью, вязкое и тинистое дно залива.
Нет, не годится. Зато годится второе: мое письмо Лютасу сработало, как боёк, ясно было, что мы оба будем в нужном месте в нужное время, чего же еще желать? Загоняй патрон в патронник и — банг, банг! В таком случае я сам припутал убийство друга к своему приезду в Эшторил — вписался в чужой сюжет, дал зацепку тем, кто взломал его почту или, скажем, подслушал разговор. Кредиторы или просто мокрушники, какая разница? Его вычислили и убрали те, кому он здорово досадил. Снял в одном из своих фильмов чью-то жену или дочку, например. Нет, скорее речь идет о невыплаченном долге. Так или иначе любая смерть сводится к невыплаченному долгу, это я как историк тебе говорю.
Выходит, Лютас приехал на нашу встречу и пошел побродить по берегу, а там его перехватили пацаны, резвые как ахалтекинцы, отвезли за город, убили и сбросили со скалы? Через несколько дней мне принесли пистолет вместе с толстой пачкой двадцаток — до сих пор живу на то, что успел вытащить из этой пачки. Думаю, что инспектор живет на остальное.
И здесь возникает еще один вопрос. Чем я так подходил на роль убийцы? Тем, что давно знаком с жертвой, тем, что показал себя полным кретином в деле с Хенриеттой, или — тем, что я подозрительный иностранец, которого быстро депортируют с глаз долой и закроют дело? Если сложить эти три пункта вместе, то получится одна, довольно жирная причина, между прочим.
Я бедный, свирепо угнетаемый малютка, и у меня в жизни так мало удовольствий. Где я это читал? И почему глаза у меня все время на мокром месте, палец покажи — и разрыдаюсь? Раньше я капал в глаза «натуральные слезы» из аптеки, потому что роговица вечно сохла, будто на ярком солнце. За это Лилиенталь дразнил меня ликантропом и говорил, что Бог мало меня мучает и что я непременно заплачу, когда он возьмется за меня как следует, загонит в самый угол моей проволочной, будто собачий загон, самоуверенности и отметелит по первое число.
Человеку свойственно плакать, сказал Ли, это его способ разговаривать с Богом, а те, кто не умеет или не решается, подобны людям, пишущим дневники вместо того, чтобы заорать во всю глотку. Если встретишь такого человека, пако, так и знай — это либо нищий, притворяющийся немым ради денег, либо жалкий ненавистник, давший обет молчания.
— А как же писатели? — спросил я.
— Редкий случай, когда оба варианта совпадают.
Это было года два назад, в начале зимы, мы разговаривали у меня на террасе, глядя на засыпанную редким, быстро чернеющим снегом улицу. Я запомнил этот день, потому что Ли смог забраться на самый верх, опираясь только на мою руку и на палку, и еще — потому, что мы грызли сухари с изюмом, подсушенные Байшей в духовке, и говорили о библейском хлебе. Лилиенталь сидел в качалке, я притащил ее из столовой, ноги его были укрыты пледом, а голова замотана желтым шарфом, будто у китайского бунтовщика.
— Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его, — я первый раз слышал, чтобы Ли цитировал Библию, и насторожился. — Такие, как ты, думают, что речь идет о добре, верно?
— Ну да. Это значит — сделай добро, и оно к тебе возвратится.
— Вот тут ты и попался, — он торжествующе постучал палкой по перилам. — Добро не надо делать, оно уже есть. Ты ведь не говоришь: сделай лес, сделай реку Тежу, сделай голубоногую олушу! А чтобы сделать зло, нужно совершить усилие, отсюда следует, что хлеб — это зло.
— Но я говорю: сделай музыку, сделай стих, сделай одолжение!
— Это не добро, а его отражение в твоей голове, пако. Добро и зло нельзя сравнивать, потому что первое — это субстанция, а второе — всего лишь категория. Это все равно, что сравнивать снег на этих перилах с холодной праздностью твоей служанки.
Не уверен, что перевожу слово в слово, мне не всегда хватает запаса слов, чтобы цитировать Ли, зато русский у меня, если верить Зое, на удивление хорош. Ей, между прочим, понадобился год, чтобы заговорить на португальском, а мне — всего несколько месяцев, как будто я проглотил на ночь пилюлю и проснулся уже с verbos defectivos и verbos abundantes в голове.
Ты ведь догадалась, Хани, что я пишу здесь по-русски ради тебя, другого выхода у нас нет, хотя я подозреваю, что русский тебя тоже не слишком радует. Впрочем, не бери в голову, скоро языки вообще перестанут существовать, какая-нибудь лысая голова из Силиконовой долины изобретет универсальный логос, и мир разом обеднеет и высохнет, как индейская тсантса над очагом.
Стало же в мире значительно меньше смысла с тех пор, как появились Google Maps.
— Извините, что пишу вам не на машинке, но мне так несусветно много надобно вам поведать. Как я раздобыл ваш адрес? Но вы же не об этом спрашиваете, когда спрашиваете об этом, — писал Кафка своей невесте Фелиции. А потом взял и сжег все ее ответы в одночасье. Когда я читал тексты, адресованные фройляйн Бауэр, то думал, что там есть какой-то подвох, — невозможно написать столько писем женщине, которую видел два раза в жизни. Это придумали наследники, владельцы архива, думал я, или сама берлинская стенографистка ради денег и славы исписала пачку страниц мелким прыгающим почерком покойного жениха — ему ведь было уже все равно, никто не мог за него заступиться.
Теперь-то я понимаю, чего он хотел, усаживаясь по утрам за письмо к уважаемой сударыне, ему нужен был повод с хрустом распечатать стопку чистой бумаги, в точности, как мне нужен повод открывать этот файл, дождавшись двух часов пополудни.
Ишь чего удумал, сказала бы моя няня, с писателем себя сравнил! Сравнил бы еще кизяк с растопкой. Няня Саня, быстрая и оглушительная, как дверь бистро, хлопающая на зимнем сквозняке, — вот кто был ко мне безжалостен. Вот кто справился бы с моей ленивой служанкой в два счета, полетели бы только клочки по закоулочкам. Я едва успевал отбиваться от ее помидорного площадного недовольства, зато научился злиться молча и не подавать виду, няня называла это «повернуться рваным ухом».
Как в воду глядела. Одно ухо у меня проколото, правда, это случилось после ее смерти, на репетиции школьного спектакля про спартанцев. Ухо прокололи и повесили в него железную легионерскую серьгу, мочка долго не заживала — зато дырка осталась до сих пор, и приличная такая дырка. В тот вечер, когда мы с Зоей опоздали к праздничному столу, тетка ее заметила, потому что уши у меня замерзли и побелели, а дырку обвело багровой каймой.
Еще бы не замерзнуть — пару раз мы обошли вокруг ратуши, потом добрались до моста через Вильняле, постояли перед костелом, издали похожим на брошенную в снег половинку граната, дошли до бернардинского кладбища и вернулись в сумерках кружным путем, прихлебывая из моей фляжки. Все это время мы говорили не переставая, у меня даже губы потрескались, а тетке все было нипочем, она хватала меня за рукав, смеялась и тянула меня все дальше и дальше, она бы и на Антакальнис пошла, лишь бы домой не возвращаться. Утром, застукав нас в ванной, мать не сказала ни слова, это могло значить только одно — ярость поднялась в ней к самому горлу, и когда Юдита сможет говорить, она выплеснет изо рта убийственное пламя.
Когда я открыл дверь своим ключом, доктор Гокас уже одевался в прихожей, застегивая свой овчинный тулуп, а на столе в гостиной стояли двенадцать мисок с остатками угощенья.
— Боже мой, кучос! — воскликнула тетка. — Я сто лет не ела кутьи и не пила киселя из клюквы.
— А свечу ты сколько лет не зажигала? — спросила мать. — Ты же у нас Зоя Ивановна, православная.
— Да брось, Юдита. Ты для путника бездомного тарелку поставила? Вот я из нее и поем.
— Уж лучше бы бездомный поел, — мать махнула рукой и пошла в кухню.
— Еще рано расставаться, — тетка сбросила куртку доктору на руки. — Пойдемте за стол, выпьем киселя, и я поведаю вам занимательный случай из чужой практики. Это рассказал мне один любовник, хороший реаниматолог, несколько лет назад. Он и любовник был хороший!
Я с трудом удержался, чтобы не хлестнуть ее по щеке. Я видел, что она много пьет, нервничает и бог знает что болтает, но гнев, который закипал во мне, был каким-то ненастоящим, будто гнев вертепного ксендза. Я не мог рассердиться на нее как следует, потому что мне было смешно. Понимаешь, Хани? Она могла говорить непристойности — о que este catso? que porra essa? — задираться, сбрасывать мокрое платье прямо у меня на глазах, но при этом в ней было что-то сырое и невинное, как в только что написанной фреске. Нет — как в хлебном мякише, который грубо оторвали от корки. Может быть, дело было в том, что она немного косила?
In partibus infidelium
Почему я до сих пор в тюрьме, я, кажется, знаю. А вот почему я до сих пор в Лиссабоне?
Я мог бы давным-давно плавать с маленькими пингвинами в Исабели, а я тратил все, что зарабатывал, оплачивая счета за свет и воду, изводя плесень в спальнях, покупая сусальное золото, чтобы подновить резьбу на перилах. Колонии пингвинов редели на берегах Бартоломе, но вместо того, чтобы поторопиться туда, я лежал на диване и читал о том, как отличить изумруд от emeraude soudee, поместив его в масло, а потом шел на кухню проверять изумруды. Если задуматься, дом употребил меня в качестве руки, вернее, клешни, которой он доставал из свой стены драгоценности Лидии, избавлялся от них и насыщал свое тело рачками и планктоном. А теперь, когда меня нет, он отращивает себе новую клешню, а про меня и думать забыл.
В таком своевольном доме хорошо родиться, немного подрасти, а потом приезжать на каникулы к старенькой бабушке — жить в нем невозможно, он так и не стал моим, хотя и позволил написать «Константинас Кайрис» на латунной табличке возле почтового ящика.
Мы воевали с домом каждый день, с того первого вечера, когда я открыл дверь ключом, внес свои чемоданы в коридор и услышал тихий звук, похожий не то на треск мокрого дерева в камине, не то на выстрел хлопушки. Лампы насмешливо моргнули и погасли. Пришлось на ощупь пробираться в кухню и битый час искать там свечу, натыкаясь на все стулья поочередно.
Терейро до Паго принимал меня как постояльца, не допуская в свою сердцевину — все, что я мог, это сдать на аукцион кабинетное бюро или отвезти знакомому персу четыре не доеденных молью ковра. Дом разрешил мне это, но тут же наказал за развязность: двери его злорадно скрипели, на стенах расцвела плесень, свинцовый океан бился в его стены и крепостной мост вот-вот должен был подняться сам собой. Я чувствовал себя привязанным к мачте Тернером, наблюдающим волны, только Тернер сам велел себя привязать, чтобы постигнуть картину бури, а меня никто не спрашивал. Я не мог продать дом, и теткино завещание здесь ни при чем. Я уже любил его — это был мой дом духов, моя гора под названием Дай. На вершине ее мн-о-о-ого нефрита, сказал бы китаист Мярт своим низким протяжным голосом, у ее подножия мно-о-о-ого лазоревого камня. Там водится животное, похожее на коня, но у него один рог с резьбой. Оно носит название хуаньшу, с его помощью можно избежать пожара.
Хотел бы я знать, как дом относился к своей предыдущей хозяйке. Наверное, не так плохо, раз остановил маятник в кабинетных часах в день ее похорон. Я обнаружил это, когда пошел в кабинет, чтобы остановить часы, поднимавшие в полночь перезвон почище, чем на Беленской башне, — маятник был неподвижен, маленькие гири, похожие на мушкетные пули, болтались на своих цепочках, а стрелки показывали шесть часов вечера.
Мать не могла этого сделать, она весь день лежала в гостиной с мокрым, густо надушенным полотенцем на лбу. Я обходил гостиную стороной, такие молчаливые лежания с тряпкой на голове были мне знакомы и не сулили ничего хорошего. Однажды она пролежала так целый день, а потом встала, взяла на кухне тяжеленный медный уполовник и запустила мне в голову. Правда, это было лет двадцать назад, и, в общем-то, за дело.
У нас тогда гостила подруга бабушки Йоле, толстая жемайтийка, богомольная и вредная, вечерами они с Йоле сидели в столовой и обсуждали войну, любовь и смерть, и еще, кажется, национальный вопрос. Подруге уступили бабушкину спальню, и она там по утрам стояла на коленях перед деревянной фигуркой святого Микалоюса с воздетой к небесам рукой. Я несколько раз прислушался, но разобрал только имена и melsk u mus, nusidjlius. Потом она отправлялась в костел, каждый раз пеняя бабушке на маловерие, а вернувшись, принималась обедать и обедала целый день, дотемна.
Ради жемайтийки бабушка стелила на стол крахмальную скатерть, и мне не разрешали за ним рисовать, и вообще велели держаться подальше от столовой, моей любимой комнаты с широким полосатым диваном и радиоприемником ВЭФ, который я довел до совершенства. Впрочем, гостья меня почти не замечала, однажды только дала легкий подзатыльник, сопроводив его невнятным бурчанием насчет полукровки-волколиса.
Этого волколиса я весь день забыть не мог, даже в словаре посмотрел, а вечером зашел в спальню и быстро собрал немудреное устройство, спрятав проводки и лампочки от новогодней гирлянды в бумажных розах, которыми святой был обложен сверху донизу. Когда жемайтийка встала на колени и завела свою горестную песнь, розы вспыхнули алым пламенем, замигали, будто потолок деревенской дискотеки, а святой Микалоюс запел голосом Мюррея Хеда:
- And all the good you've done
- Will soon be swept away
- You've begun to matter more
- Than the things you say.
Гостья свалилась в обморок, уж не знаю, настоящий или притворный, а потом потребовала тотчас проводить ее к поезду, бабушка, не говоря мне ни слова, разбила мою копилку и отправилась с подругой в кафе «Гандрас», в копилке было двенадцать рублей, так что им хватило на целое блюдо пирожных. Про мать я уже рассказывал. От медной ручки уполовника у меня остался шрам на лбу,ты его видела, а если бы чуть левее и ниже, то и глаза бы недосчитался. Славный был бы у тебя муж — одноглазый, как Один, только без мудрости, обретенной взамен.
— Итак, вы вернулись из галереи без добычи и стали искать встречи с подельником. А что, собственно, вы собирались ему предложить? — сегодня адвокат пришел с опозданием и начал с вопроса, записанного на ресторанной салфетке. Похоже, ему надоело меня подкармливать, а может, кусок в горло не лезет в этих стенах, особенно теперь, когда от сырости на них выступила плесень. В прошлом году в это самое время я грелся на ступеньках площади Коммерсиу, щурился от солнца и смотрел на сияющую черную тину, принесенную приливом. Каждое утро я сидел там после пробежки, допивая сок из фляги, потом шел домой вдоль гаражей и доков, сворачивал налево возле разорившейся парикмахерской Альмейды, потом — направо возле пожарного крана, начисто снесенного грузовиком (ленивые бомбейрос так и не поставили новый), потом открывал зеленую дверь с решеткой, похожей на окошко исповедальни, и входил в свой дом.
Было так жарко, что я устроил на крыше душ из поливального шланга и дырявой банки от бисквитов — трава на том месте, где я мылся, к лету была по колено, в ней завелись жадеитовые жуки неизвестной породы. Все лучше, чем муравьи, взявшие меня приступом позапрошлой весной, этих я веником выметал из спальни, пока Байша не спохватилась и не засыпала весь дом анисом и борной кислотой.
— Как можно искать встречи с человеком, если не знаешь ни почты, ни телефона! — я наткнулся на взгляд адвоката и понял, что пауза затянулась. — Я ждал звонка, но они все пропали, будто в землю ушли, и я крепко занервничал. Через неделю Ласло прислал человека с пистолетом и деньгами, на словах велел передать, что это — плата за услугу и за молчание. Выглядел посланник, как ни странно, довольным, а когда я спросил его, где Додо, засмеялся и показал на потолок, улетела, мол. Я положил банкноты в конверт, чтобы отнести утром в банк и заткнуть долговую дыру, а наутро ко мне явилась полиция и началась совсем другая история. Эй, вы меня слушаете?
Адвокат, который клюет носом в комнате для свиданий, ни на что не годен, он не просто не верит в то, что я говорю, — ему тошно, как в утреннем борделе, среди неумытых девок! Я честно пытался начертать схему на одной из его салфеток; рисовал коттедж на берегу моря, дом на Терейро до Паго и эшторильскую галерею, соединял их стрелками и рисовал красные тревожные кружки.
— Вот как они это сделали, понимаете? Меня послали в курортную зону, чтобы я засветился, пообедал в кафе, посидел в парке Палацио, одним словом — чтобы я походил по размеченным мелом дорожкам, как актер на репетиции. Мне принесли ключ от несуществующей скважины, и я подумал, что кто-то допустил ошибку, бывает. Но это не было ошибкой!
— Разумеется. Они водили вас за нос.