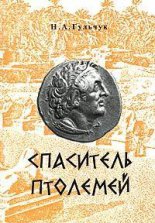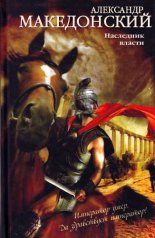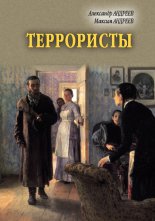Другие барабаны Элтанг Лена

— Ого, какая длинная заноза. Когда ты любишь кого-то, то страх, что не выйдет, вполне естественен. Поэтому надо быть немного не здесь и немного навеселе.
— Это еще зачем?
— Из осторожности. Иначе прожорливое тело твоей любви будет обнажено.
— Прожорливое тело? — он довольно хрюкнул. — Неплохо сказано. Говорить ты научился. Но этого мало! Нужно перестать пыжиться, завести пружину и начать маяться в полную силу, понимаешь? Отпусти свой маятник, иначе так и останешься арабской иконой до самой смерти.
— Кем останусь?
— Знаешь, как подделывают русские иконы в арабских лавках? Кладут деревяшку в мясной бульон и морят сутками, потом подклеивают ветошью, снятой с настоящей иконы, и пишут поверху лики святых. Я сам продал целый ящик таких одному скандинаву!
Господи, как же он бесил меня иногда, этот хромой шиадский бес, хотя нет, бесил — это неверное слово. Как назвать это школьное чувство, старательно забытое, когда идешь домой, чувствуя, что напортачил, уничтожая себя за то, что снова не смог промолчать, открылся, вывернул свой мешок. Идешь, размахивая портфелем, и клянешься, что больше никогда, что рот на замок, и только наблюдать, и слушать с холодным лицом, но нет, куда там — ты по жизни тот, кто разводит турусы, мудрила Кайрис, любитель внеклассного чтения.
Это мне одна девчонка сказала, классе в девятом: красавец ты, Кайрис, но мудрила, даже жаль, что такое добро пропадает. Это я-то мудрила? Да мне просто тошно было с ними, с этой их группой «Антис» и разговорами о развале союза республик свободных. Сколько раз я пытался курить со всеми за школой, у кирпичной стены бернардинского костела, стоял там, заплетя ноги, и острил, как заведенный, но через полчаса у меня кончались все слова, и рот наполнялся горькой слюной. Я шел домой, заваливался на свой диван за ширмой, ставил на живот свою «Легенду» в кожаном чехле и надевал наушники, чтобы послушать Моррисона:
- When you're strange
- Faces come out of the rain
- When you're strange
- No one remembers your name.
Под эту музыку много лет спустя я вдребезги накурился в нашей с Душаном конторе, даже не заметил, как пришла уборщица-индианка, пришлось ее угостить, и к утру мы извели недельный запас, который я хранил в ящике стола, между листами писчей бумаги. Проснулся я на полу, на собственном пальто, жесткий стеклянный свет заливал комнату, девушки рядом не было, зато шеф сидел за своим столом, стараясь не смотреть в мою сторону. Рот у шефа, когда он смеялся, был похож на свежий стручок чили, а когда злился — то на подсохший, так вот, свежего алого стручка я после этого случая больше не видел.
Индианка-кечуа, по прозвищу Голубоногая Олуша, была соседкой нашей секретарши, устроилась в контору мыть полы и бегать по мелким поручениям. Это была первая индианка, которую я встретил, и первая девушка, с которой я занимался любовью на конторском столе, ужасно неудобно. Стоило ей натянуть платье, как она принималась говорить, и говорила только о том, как хороши ее Islas Galpagos — Геновеса, Пинта, Дарвин, еще пятнадцать, и Сан-Кристобаль.
Имя индианки было непроизносимым, и, послушав рассказы про цветущий имбирь, голубоногих олуш и белощекую шилохвость, я стал звать ее Олуша — наверное, на кечуа это звучало щекотно, потому что она все время хихикала. Ноги у нее и вправду отливали голубым, бывает такой тип смуглоты, от нее веет прохладой, особенно, если в конторе сломался кондиционер, и окна покрылись сыпью от уличной сажи. Меня тоже в ней многое смешило — испанский клекот, пробивающийся в португальском шипении, плетеные феньки на запястьях, и то, что, раздеваясь, она требовала выключить свет по всей конторе, даже в уборной.
Темнота вообще хорошая вещь. Вот графиня де Кастильоне, когда состарилась, выходила гулять только по ночам, а днем сидела в своем особняке в полной темноте, даже зеркала завесила и стены выкрасила в черный цвет. Если бы не плотные шторы, она бы с ума сошла от злости.
Зоя тоже сидела в темноте последние несколько лет, в своей собственной башне, наедине с разбегающимися смыслами, только темнота была у нее внутри, она смотрела из ее глаз и куриась пепельным облачком возле рта. Полагаю, ей было ничуть не веселее, чем мне теперь.
Мудак ты, Костас, самому надо было ехать, а не рукописи слать. Приехать, сбегать за сыром и вином, или — на Рибейру за свежей треской, выкосить на крыше траву, поставить там плетеные кресла и устроить тетке пирушку, каких свет не видывал.
Говоришь, боялся увидеть ее лицо? Так дождался бы ночи и пировал бы в темноте.
Грех не в темноте, а в нежелании света.
На аукционе нетерпеливые дилетанты стучат каталогом по спинке стула, когда хотят подать знак, хотя достаточно кивнуть аукционисту, который и без того зорко всех оглядывает. Самые опытные галеристы делают что-то неуловимое правой бровью, и хозяин объявляет новую ставку, а некоторые хмурятся или скребут ногтем подбородок Эту науку я хотел бы освоить, хотя покупатель из меня все равно не получится. Продавец тоже получился так себе, если учесть, по какой несусветной дешевке я сбыл наследство своей сестры. Похоже, я вообще не в состоянии ни с кем торговаться — даже на рынке Рибейра молча выкладываю, сколько скажут, под сочувственными взглядами рыбных торговок.
С женщинами все натуральней, ты просто слушаешь их, пока они не замолчат.
Женщина, которой дали сказать все, что она хотела, становится ручной, издает мелодичные звуки, как ламантин, или плачет, как тот дюгонь, которого я видел в клайпедском океанариуме лет двадцать восемь назад. Те, что привыкли говорить много и громко, выдыхаются быстрее, те, что привыкли молчать, говорят дольше и значительнее, но все они рано или поздно замолкают и обвивают тебя руками, как тонущий пловец — обломок корабельной обшивки. Но это я теперь знаю, а в тот день, когда я в первый раз лег возле Зои, я был растерян и говорил без передышки. Нет, не растерян — я был сметен, я захлебывался какой-то бестолковой откровенностью. Мне почему-то было важно высыпать перед теткой все, что заполняло кубышку моей памяти, всю эту позеленевшую стыдную мелочь, табачные крошки, парковочные жетоны, да бог знает что.
Выходя утром из номера, страшно голодный, со слипающимися, полными песка глазами, я подумал, что, встретив Мярта, смогу, наконец, воспользоваться нашим договором о любовных приключениях и сделать каменное лицо, когда он примется намекать и ходить вокруг да около. Да и что бы я мог ему сказать? Что зимний парк стягивал вокруг нас свои войска, будто Бирнамский лес?
Что мы провели в отеле больше суток, почти не выходя из номера и питаясь крекерами из ее дорожной сумки? Я даже запаха этой женщины не смог бы описать, хотя он остался у меня на ладонях. По дороге в университет я то и дело нюхал свои руки и даже зашел в кафе, чтобы вымыть их с мылом в подвальном туалете.
Запах никуда не делся, он был еле слышным и тревожным, я поглубже сунул руки в карманы и пошел вверх, на Пироговскую горку — там стояли четверо парней из нашей группы, и я подумал, что глотнуть из чьей-нибудь фляжки было бы в самый раз. Вечером, сидя в вильнюсском автобусе, я пытался вспомнить свои монологи и хоть как-то отделить вранье от опасной правды, но все произнесенные в гостиничном номере слова запеклись в оловянный слиток и были уже неразличимы. Тетка просила меня называть ее Зоей, как раньше. Хотя бы когда мы одни. Но это было невозможно, у меня даже челюсти свело, когда я попробовал.
— Косточка, давай же. Когда я слышу тетка, мне хочется треснуть тебя по губам, честное слово.
Я украл у тебя тавромахию в то лето в Лиссабоне, хотел я сказать, но тоже не смог. Античная пряжка — а может, обломок рукояти или застежка для воинского плаща? — показалась мне совершенной. Два строптивых черненых быка на синей эмали. Двое алых микенских юношей, прыгающих через покатые спины. Золоченый закат, одичалая перламутровая тишина.
Это было на четвертый день, я успел немного осмотреться в доме и здорово обрадовался, когда все отправились на вершину холма и оставили меня одного. Я сразу пошел в хозяйскую спальню, открыл замок секретера шпилькой и стал выдвигать ящички один за другим. Этот прогрызенный древоточцами стол будил мое любопытство не только потому, что тетка его запирала — он был таким чопорным, таким английским, в нем непременно должен был оказаться какой-нибудь мрачный секрет. Увидев свое отражение в зеркале — белая рубашка, ловкие пальцы, капельки пота над верхней губой, — я пришел в восторг. Вылитый проворовавшийся дворецкий!
Из одного ящика пахнуло канареечным семенем, наверное, прежняя хозяйка держала в нем корм для птиц, теперь там лежали детские рисунки, свернутые в трубку, под рисунками — письма в конвертах с колониальными марками (я углядел там знакомые «Republica Portugueza» по пятнадцать сентаво), а под письмами что-то еще. Хорошенько пошарив по дну, я вытащил маленькую пластинку слоновой кости, блеснувшую лазурью и золотом, повертел ее в руках и хотел было положить обратно, но пластинка вывернулась и скользнула в карман моей рубашки — уверенно, как будто признала хозяина. Я прижал рукой рубашку на груди, придерживая нечаянную добычу. В голове у меня крутились только две мысли: тетка никому не скажет, да и заметит не сразу, и еще — где спрятать ее в нашем доме без единого тайника?
— Украл, — сказал бы я тетке, если бы смог открыть рот. — Не смог удержаться. Я взял ее не потому, что хотел эту вещь, а потому, что хотел твою вещь!
— Ладно, — сказала бы она весело, — тебе она нужнее.
У меня никогда не было ничего своего, ничего совершенного, ничего тайного и ничего по-настоящему старого. Вещи, которыми был наполнен наш дом, были простыми и полезными, они были сделаны из светлого дерева, пластика, алюминия и фаянса. Мать считала, что старинное барахло прячет в себе чужое горе, и давно избавилась от бабкиного наследства, даже семейные альбомы снесла на блошиный рынок. Однажды я поймал себя на том, что забыл лицо двоюродного деда, пришлось сходить на кладбище и посмотреть на гранитную плиту с фотографией. Иногда, глядя на старые снимки родни, я слышу какое-то пощелкивание, похожее на морзянку, слабое одиночное эхо, плеск обогнувшей земной шар радиоволны. Иногда — ничего не слышу, только досада берет.
Я привез тавромахию в Вильнюс и спрятал в сарае под грудой металлической стружки, я был уверен, что она древнее древнего, вроде тех диптихов из слоновой кости, которые я видел в часовне Святой Анны. Когда спустя много лет я показал ее антиквару, покупавшему у меня столовое серебро, тот только языком причмокнул:
— Представляю, как это выглядело на переплете из белой кордобской замши! А где вторая пластинка? Хочешь загнать их по отдельности?
— Вторая?
— Ну да. Это же деталь переплета, на книге их могло быть две, одна пластинка всегда отличалась от другой, но так, чтобы не сразу заметить. Видел когда-нибудь Евангелие Теоделинды из листового золота? У тебя здесь жанровая сцена, значит, это лет на двести позднее сделано.
— Выходит, вторая потерялась?
— Сойдет и одна. Захочешь продать, позвони, я дам хорошую цену.
Это был тот самый антиквар, который прозвал спальню Лидии комнатой духов, заглянув туда из любопытства, пока я готовил нам выпивку на первом этаже. Все три стены там были завешаны портретами предков Брага, а четвертая занята зеркалом, покрытым ртутной зеленоватой сыпью. Портреты копились там несколько лет, я сносил к Лидии все, что не мог продать — сначала вешал картины на свободное место, потом стал ставить на пол, все равно эта комната была нежилой, а мне эти старики в судейских шапочках и вояки с орденскими лентами действовали на нервы. Женских портретов было меньше, дамы тоже глядели горделиво, но они были молодыми и расфранченными, поэтому я быстро нашел на них покупателя. Соблазнившись барочными рамами, их купил оптом владелец непотребного дома в Грасе.
Сейчас шесть часов вечера, и я снова в камере. Только что вернулся с Терейро до Паго. Я так рвался туда, что даже не поверил, когда следователь вызвал меня рано утром и предложил исполнить любое мое требование или просьбу. В честь завершения карнавальной недели.
Ханна, Ханна, даже не знаю, с чего начать. Попробую рассказывать по порядку, но скажу тебе, забегая вперед: сегодня я окончательно понял, что сижу в тюрьме по вине Лютаса Раубы. Еще пару дней назад у меня были сомнения, а сегодня их нет. Я спал с его женщиной, я заподозрил его в воровстве, я не дал ему завершить работу, и еще — я живу в Domus Aurea Neronis, где можно снимать кино до скончания лет, не выходя за ворота. Впрочем, довольно было бы и женщины.
— Итак, какие будут просьбы, Кайрис? — спросил следователь. — Не забывайте о Великом посте и пепельной среде. «Помни, что ты прах, и в прах возвратишься».
— Послушайте, — я собрал все свои силы и посмотрел ему прямо в глаза, — я понимаю, что все это выглядит несуразно, но правда именно так и выглядит чаще всего. Просто надо изложить все сначала, с первой минуты. Если вы отвезете меня на побережье, я покажу дачный домик, где я провел, вернее, должен был провести ночь с субботы на воскресенье. У меня нет алиби, потому что я просидел весь вечер в «Веселом Реполове»!
— У вас нет алиби, потому что вы преступник, — скучно сказал Пруэнса. — Что-нибудь еще?
— Да. Оттуда мы поедем ко мне домой, и я покажу вам все в подробностях, как на античной сцене, с жестами и завываниями. Только начинать нужно с коттеджа, это важно. Я был там, когда жертву застрелили в моем доме.
— А в Капарику-то зачем ехать? Впрочем, сегодня тепло, — сказал Пруэнса, поглядев в окно. — Почему бы нам вчетвером не прокатиться на берег моря? Или втроем. Вы ведь не сбежите?
— Вот те крест, — я сказал juro por Deus, и он удивленно поднял брови.
— Впрочем, если и сбежите, боюсь, вам некуда будет податься, — он полистал свою папку. — К нам обратился муниципальный нотариус с просьбой сообщить вам, что дом на Терейро до Паго будет выставлен на аукцион в начале апреля. Так что, если ваши друзья перестанут швырять деньги на адвокатов, они смогут выкупить его, заплатив задолженность и пеню.
Ну да, разумеется, я ведь не отправил проценты. Этого следовало ожидать. Деньги, предназначенные «Сантандеру», лежат у меня за пазухой, я размениваю их на лимоны, сахар, электричество для лаптопа и прочие излишества. Адвоката прислал мне Ли, это ясно как божий день, список моих друзей короче воробьиного носа, а людей со средствами в нем всего двое. Но зачем? Если это он подсунул мне девку, чтобы впутать в грязную историю и отобрать дом, то на кой черт ему нанимать адвоката и пытаться вытащить меня из тюрьмы. Нет, не складывается. Не помещается обратно в живот, как сказал бы доктор Гокас. В детстве я терпеть не мог его больничных шуточек, от которых разило хлороформом и грязными кровавыми бинтами.
— Сколько вы задолжали банку? — спросил Пруэнса. Мне показалось, что в его угрюмых глазах мелькнуло что-то человеческое.
— У меня был шанс расплатиться, в этом году давали поблажку. Для этого я и впутался в историю с Хенриеттой, мне казалось, что это просто, быстро и не чересчур криминально.
— Не чересчур? Прелестный оборот речи, — заметил следователь, — ваша грамматика становится лучше день ото дня. Ладно, у меня есть два часа, надеюсь, вы помните дорогу.
Странное дело — как только меня вывели на крыльцо, я закашлялся, да так крепко, что не сразу смог разогнуться, ингалятора у меня не было, пришлось сплести пальцы в мудру йони и прислониться к стене. Двое рослых полицейских курили на крыльце и поглядывали на меня с любопытством. Во дворе департамента было пусто, у ворот стояла знакомая серая машина с решеткой, закрывающей окно, водителя я не разглядел, зато парень, что приходил меня арестовывать, помахал рукой с переднего сиденья.
Всю дорогу я смотрел в зарешеченное окно, совершенно сомлев от мартовского воздуха, заполненного пыльцой мимозы и цветущего дрока, а когда мы въехали на мост, чтобы пересечь Тежу, горячий синий цвет ударил меня по глазам, и я заплакал. Прямо как баба заревел и минуты две не мог перестать. Руки у меня были скованы и вытереть глаза было нечем — вот не думал, что по подозрению в убийстве можно с ходу надевать algemas на человека.
Когда мы подъехали к воротам, двери коттеджа были распахнуты настежь, оттуда слышались голоса, и я вдруг подумал, что сейчас из дома выйдет Додо, и весь этот бред рассыплется, как заклятие крысиной королевы. Следователь выбрался из машины, дав нам знак оставаться, и прошел в дом по дорожке из желтого кирпича. Полицейский, сидевший на переднем сиденье, открыл окно, чтобы выкурить сигарету. Я услышал недовольный голос Пруэнсы, скрипучий мужской смех, а потом чей-то дурашливый возглас:
— Девушка? Девушка бы нам пригодилась, если найдешь, тащи ее сюда.
Мой конвоир выбросил окурок и посмотрел на меня с презрением:
— Ты уверен, что это тот самый дом? Только время с тобой теряем.
— Боюсь, что вы ошиблись адресом, Кайрис, — лицо вернувшегося к машине следователя не было злорадным, скорее, озадаченным. — Там идет ремонт, бригада иммигрантов штукатурит стены. И полы перекладывает. Хорошие полы, буковый паркет.
— Это тот самый дом, у меня нет никаких сомнений.
— Это дом почтенного сеньора, торговца рыбой, он теперь в круизе по Атлантике, но скоро вернется. Фамилия этого сеньора Гомеш, он холостяк. Рабочие показали мне фотографию хозяина на стене гостиной, они с ним лично знакомы. Двое из них заявили, что не покидали рабочего места уже два месяца, они даже живут здесь на кухне, я сам видел матрасы и одеяла.
— Это тот самый коттедж, офицер. Это чертов «Веселый Реполов». Посмотрите, на ставнях нарисованы птицы, похожие на рыб! Загляните в корзину с грязным бельем, там лежит майка с надписью «Chai, Chillum, Chapati». На кухне остались мои новые мокасины!
— Ну вот, начинается, — следователь сел в машину рядом со мной и похлопал водителя по плечу. — То вроде человек, а то какой-то литовский пациент. Поезжай теперь в город, в Альфаму. Сделаем все как положено, пусть парень покажет нам багряные реки, обнаженное оружие и семерых самураев. Может быть, это его успокоит.
We will all laugh at gilded butterflies.
В ту пятницу, четвертого февраля, Байша явилась на кухню с опозданием, сославшись на мигрень — у нее часто болит голова по утрам, в такие дни с ней лучше не вступать в разговоры. Надо сказать, что моя служанка пьет горькую с тех пор, как поселилась в этом доме, а я делаю вид, что ничего не замечаю. Но в то утро у меня не было выхода, пришлось заговорить с ней о Хенриетте, чтобы понять, что она слышала: ночью звук выстрела легко мог донестись до бывшей бильярдной, где служанка устроила себе спальню. И сделать это нужно было вежливо и с великой осторожностью.
— Сеньора знает, куда датская гостья положила ключи, когда уехала?
— Чего не знаю, того не знаю, — мрачно сказала Байша, чиркая спичкой, я разрешал ей курить на кухне, даже держал для нее пачку дешевых «SG» в ящике для полотенец.
— Она уехала утром, наверное, не хотела вас будить и захлопнула дверь.
— Может, и так, — Байша пожала плечами. — Только ключи отыщутся не скоро. Уж такая женщина наверняка оставит их где попало. Или, чего доброго, с собой унесет.
— Гостья показалась вам неприятной? — я встал к Байте спиной и взялся сам заваривать кофе.
— Скорее, странной. Впрочем, я таких много видела у прежнего сеньора. Но тот хотя бы оргий не устраивал, у него всегда все было шито-крыто. А тут — двое мужчин за ночь!
— Двое?
— Не успела приехать, как позвала кавалера, — сварливо сказала Байша. — Шумели, топали, заводили музыку, шампанское пили, правда, бутылки сами вынесли. А после полуночи второй amante пришел, поди от первого еще постель не остыла.
— Второй?
— Я уж ночью не стала вам говорить, хозяин, не до того вам было, — она опустила глаза, вероятно, вспомнив, что я застукал ее вылезающей из подвала с двумя бутылками дядиного порто. — Вы и так приехали сам не свой, бледный, чисто покойник.
Ясно, значит, служанка слышала голос убийцы и выстрел, похожий на хлопок пробки, а потом слышала, как приходил аккуратный мужичок, избавивший меня от трупа. Хотел бы я знать, сколько это благодеяние стоит, думал я, следя за тем, как в турке пенится кофе. Нет, не хотел бы, хотя рано или поздно мне непременно сообщат. В длинном счете невидимого Ласло будет указан артикул товара, вернее, разряд оказанной услуги — чем страшнее разряд, тем больше можно потребовать за сервис. Удивительное дело, размышляя об этом, я не испытывал тревоги, я был свеж и безоблачен, так бывает, когда в тебе поселяется безнадежность: passa'l pensier si come sole in vetro, как писал один старый поэт. Мысль проходит, как солнце сквозь стекло.
Сегодня я не хочу думать о Ласло, не хочу думать о трупе датчанки, вместо этого я весь день думаю о Лилиентале, будто педик какой-нибудь. Узнай он об этом, тут же сказал бы, что горячим привязанностям быстро приходит конец, их надо держать взаперти и доставать лишь изредка, как старую выщербленную флейту. Или клистирную кружку. Однажды он приволок мне подарок: в бархатной коробке лежала клистирная кружка, настолько убедительная в своей провизорской простоте, что я положил ее на полку в ванной. Ли потребовал выпивки, быстро нализался и до утра рассказывал о своих предках-аптекарях, так и не упомянув ни разу города, где жили эти достославные люди.
Вторым его подарком — на мое тридцатилетие — были колокольчики бадага, целая охапка железных бубенцов в форме орехов и зерен, издающих даже не звон, а особое магическое дребезжание и лязганье. Эта штука мне страшно понравилась, и Ли был этому рад.
— Я привез их из Южной Индии, — сказал он, укрепляя связку на гвозде в прихожей, — из Нилгирийских гор. Вот где дивные люди живут: женятся хоть на целой толпе татуированных тетенек, все дружно едят крапиву, носят шелк и чтят предков. Бубенцы я выменял у жреца, который ходит в них по горячей золе, чтобы призвать благословение на ячменные поля, вернее — ходил, пока я не дал ему за них свои часы и пачку снотворного. Смотри, какие тяжелые, подует ветер, и они разгонят всех демонов в округе, а если привяжешь к щиколоткам, то помиришься со своими собственными демонами.
Однажды я познакомлю вас, Хани, и ты тоже его полюбишь, и его старую шелудивую собаку полюбишь, а там глядишь, я выйду из тюрьмы и мы пустим трубку по кругу — Лилиенталь не любит сворачивать самокрутки, у него дрожат пальцы и не хватает терпения. У него не хватает терпения даже запомнить, кто я такой.
— Ох уж эти русские, — сказал он мне однажды, — отчего ты, пако, так уверен, что у бога две руки, а значит, одни сидят одесную, другие ошую, а сам ты одесную, несомненно! Вот наш брат, католик, знай себе шепчется со своей подрисованной Марией, ведь он и его бог — это смежные сосуды, и все, что ему остается, это поджидать обещанного часа, когда таинство перетечет в него само. А русский что же? Таскает свое медноклепаное православие, как походную кухню с тремя канистрами: тут молитва, тут истерика, тут — или право имею?
— Какой я тебе русский? — рассердился я тогда, но после понял, что ему все равно.
Мой друг устроен на удивление просто и весело. Однажды, явившись к нему с утра, я увидел, что на канатах, протянутых вдоль стен, сушатся сморщенные синие двадцатки, а Ли снимает их по одной и проглаживает утюгом, стоя на полу на четвереньках.
— Помоги мне подняться, — сказал он, — и забирай себе это кукольное бельишко. Я всю ночь провалялся под дождем, как pobrezinho, напился у приятеля за шашками и забыл, что на моей жестянке не стоит спускаться с крутого холма. Заметь, что меня не ограбили, пако, это потому, что деньги я выиграл, а выигранное — все равно, что краденое. Хотел отыграть у луны пять недостающих дней, как Гермес, а заработал простуду и две совершенно не нужные сотни.
— Просто и весело! — сказала мне Додо в то утро, когда я дал себя уговорить. — Ты поможешь мне получить развод, а я помогу тебе заплатить твоему банку. Подумай сам, только один день и одна ночь, и наши проблемы рассыплются, будто ведьмино заклятие.
— Видеозапись не может служить уликой в суде, — тоскливо сказал я, предчувствуя поражение.
— В каком еще суде? — вскинулась Додо. — Никакого суда не будет. Он встречается с девкой на чужой квартире, этого довольно, чтобы у него начались неприятности в его пуританской американской конторе. Они, разумеется, все это делают, но кто попался, тот и платит!
Додо была неотвязной, будто ангина, от нее у меня слезились глаза и поднималась температура. А ведь красавица: щеки горячие, лицо темным и сладким налито, будто стакан со смородиновкой, а волосы жесткие, зверские, так и хочется на руку намотать и — скачу, как бешеный, на бешеном коне. К утру простыни бывали усыпаны этими ее волосами, будто иголками лиственницы.
В тюрьме я понял, кого она так болезненно напоминала мне с самой первой минуты — жену антиквара Римаса! При том, что девицы отличались, будто китайские демоны, черный и белый, у одного на шапке написано а вот и ты, а у другого — хватаю тебя!
В Римасову галерею я устроился, вернувшись из Паланги, и был там, как сказала бы няня, прислугой за все, но в городе совсем не было работы, и я был рад даже несчастным семи с половиной сотням литов. Угрюмый хозяин отсиживался в кабинете с опущенными шторами, а я принимал посетителей, заваривал чай или листал довоенные журналы, которые стопками стояли у стены гардеробной комнаты. Ближе к вечеру Римас спускался в салон и, облокотившись на стойку, разговаривал со мной минут десять. Мы говорили всегда об одном и том же: отчего теперь так мало посетителей, отчего люди покупают всякую дрянь, а стоящие вещи никто не замечает, и под конец — отчего погода в Литве с каждым годом все омерзительней. Пару раз в неделю к хозяину заходила его жена-латышка, которую я про себя называл кора в пеплосе, глаза у нее были бледными и выпуклыми, а грудь казалась на удивление твердой, будто вырезанной из железного дерева.
В марте я вешал на крючок ее пальто, понял, что в одном из карманов лежит что-то тяжелое, и пощупал сквозь ткань: это была плоская фляжка, лучшее средство от весенней лихорадки. Я достал ее из кармана, повернулся к прилавку спиной, отвинтил пробку и сделал большой глоток.
— Нравится? — сзади подкрались и закрыли мне глаза. Ладонь была холодной, будто серебряная фляжка с водкой. Грудь, которая коснулась моей спины, была еще тверже, чем казалась.
— Холодная. А так ничего, — я обернулся и протянул хозяйке выпивку.
— Давайте закроем галерею, — сказала она, немало отхлебнув и завинтив пробку. — Все равно сегодня никто не придет, совершенно не подходящий день для торговли барахлом.
Я запер дверь на ключ, перевернул магазинную табличку и поднялся за ней по лестнице. Наверху было слишком жарко, похоже, хозяин экономил тепло на первом этаже и безжалостно тратил на втором. Жена хозяина открыла дверь в кабинет, заглянула внутрь и обернулась ко мне:
— Спит. Он всегда в это время спит. Слишком много чаю пьет.
Тихонько закрыв дверь, она пошла дальше, куда-то в конец длинного коридора, освещенного гудящими неоновыми лампами. Я шел следом и пытался на нее разозлиться, думая о Римасе, как о Кроносе, опившемся медом, а после преданном и связанном, но разозлиться не получалось. Спина этой женщины маячила у меня перед глазами, это была длинная, плавная спина с двумя плавниками и сильным хвостом. Черт знает что за спина. Дойдя до последней двери, она остановилась, достала ключ и посмотрела на меня вопросительно. Я кивнул, и мы вошли.
Теперь, когда я понял, зачем Лидия Брага держала в кухне ультрафиолетовую лампу, я стал пользоваться ею довольно часто. Скажем, посветив синим светом на статуэтку «Мальчик с пирамидкой», приготовленную для продажи, я увидел следы склейки, которые простым глазом разглядеть невозможно. Если бы такая лампа оказалась у меня под рукой в тот мартовский вечер девяносто восьмого года, я, наверное, увидел бы следы реставрации на бедрах и животе жены хозяина, но лампы у меня не было, и тело ее показалось мне совершенным.
На следующее утро Римас меня уволил.
Aut insanit homo, aut versus fecit.
Пентименто — вот как это называется, наконец-то я слово вспомнил. То, что художник закрасил, чем он был недоволен, проступает неумолимо, как веснушки на солнце, и становится видно всем — под струпьями краски или на музейной рентгенограмме. Одним словом, ребра первоначального замысла рано или поздно вылезут на свет божий, даже если автор сам про них позабыл.
Разве не так же обстоит дело с воспоминаниями? С тех пор, как я провел ночь в отеле «Барклай», прошло четырнадцать лет, и когда я думаю об этом, то могу описать все, что находилось в номере, даже никудышную гравюру с улицей Пыйму, но это еще не все — из-под тартуского слоя проглядывает то, о чем я думал, лежа в тамошних простынях, полных бисквитных крошек, и вот под белилами простыней проступают кармин и прозрачная зелень Лиссабона, еще на пять лет глубже, еще ярче, еще недоступнее.
От «Рамбутана» до отеля было минут пятнадцать всего, но зимний ливень так разошелся, что мы здорово вымокли. Пробежав мимо сонной консьержки, мы шагнули в лифт, промчались по коридору и поднялись в номер, где было сухо, пахло мастикой, а над кроватью склонилась горничная в прозрачных перчатках до локтя.
— Можете идти, спасибо, — сказала тетка по-английски и протянула ей десятикроновую бумажку. Кажется, тогда на десятках рисовали львов, а теперь там изображен фольклорист Якоб Хурт, похожий на похмельного психоаналитика. Горничная взяла деньги пластиковыми пальцами и посмотрела на меня с недоумением.
— Идите, — сказал я по-эстонски. — Убирать не надо.
Когда дверь за ней закрылась, мы обнялись. На Зое сухого места не было, а про меня и говорить нечего. Потом она поглядела в зеркало, поморщилась, вынула из сумки круглый флакон и быстро подрисовала себе скулы и губы, обмакнув палец в розовое.
Я вспомнил этот момент, когда, восемью годами позже, увидел банки с румянами в помпейском музее. Круглые банки с красной грязью, такие же бесполезные, как названия выгоревших начисто улиц. Заплатив двадцатку за билет и оказавшись в крохотной темной комнатушке, я был разочарован. Тогда я еще не читал писем Плиния Младшего и не знал, что многие там воздевали руки к богам, большинство объясняло, что нигде и никаких богов нет, и для мира это последняя вечная ночь. Я многого не знал и ничего не боялся, разве что — отстать от автобуса. Это было летом две тысячи четвертого, у меня появились деньги, я купил себе компьютер и дешевую поездку по Италии. Денег после этого осталось только на музеи и минеральную воду.
Зоя сбросила мокрое платье — на полу оно стало похожим на облезлую белую кошку — и села на кровать, чтобы разуться. Я встал перед ней на колени и стащил сапоги, вместе с ними съехали смешные чулки на резинке, я их тоже снял и повесил на спинку стула.
Мои собственные руки показались мне чужими, я смотрел, как они двигаются — ловко, будто руки танцмейстера — и сам себе удивлялся. Мне ни разу не приходилось снимать с женских ног чулки, я даже не знал, что их кто-нибудь носит, просто так носит, не для любовной игры. Тетка оказалась смуглой только до пояса, ноги ее были совсем бледными, в темных веснушках выше колена.
— Я не езжу на пляж, загораю только на крыше, — сказала она, заметив мой взгляд, — вернее, сижу там в юбке и лифчике, как арабская танцовщица. Загорать под чужими окнами в Альфаме считается дурным тоном, представляешь?
Мне захотелось выключить в номере свет, но я не решился. Теткино тело расплывалось у меня перед глазами, рассыпалось, будто груда стекляшек в калейдоскопе — ноги, грудь, ноги, грудь, браслеты на запястьях, мокрые блестящие пряди на лбу Я ходил по комнате, отводил глаза и старался думать о чем-то другом, например, о том, где завтра раздобыть денег на автобус до Вильнюса. Думать о Вильнюсе было муторно и зазольно, как говорила няня. Я понятия не имел, где буду жить, когда вернусь домой, и что я скажу матери, когда вернусь домой, и есть ли у меня дом вообще, но говорить об этом с теткой было нельзя, она станет предлагать мне деньги или примется меня жалеть, а я терпеть не могу, когда меня жалеют.
— Косточка, поди сюда, — сказала тетка, и я вздрогнул. Точно таким же голосом она говорила это пять лет назад, выходя на залитую солнцем голубую террасу в Альфаме. Косточка, поди сюда, почисти мне вишни для варенья. Мы с Агне шли на кухню, брали корзину с вишнями, ставили на пол медное блюдо и садились вокруг него, вооружившись скрученными шпильками. Так было несколько дней подряд, в конце июня вишни были дешевыми, их привозили прямо к Табачным докам в грузовичке, и весь переулок делал запасы на зиму.
С южной стороны нас с Агне прикрывала каменная стена с единственным окошком, довольно грязным, за которым нам мерещились лица жильцов и даже пожелтевшие кружева занавесок. У ее подножия пристроился ресторанчик Мариу, где по вечерам пели заунывное фаду, проникавшее даже через плотно закрытые окна. С севера стены не было, только гора камней, густо поросшая черным пасленом — подрядчик успел все разрушить и разорился, объяснила мне Агне. Во дворе лежала фаянсовая раковина, в дождливые дни в ней собиралась вода, и мы швыряли туда монетки по двадцать эскудо, стараясь попасть в самую середину. Когда пришло время уезжать, я спустился в этот двор и заглянул в раковину — там было пусто, а на дне сидела сонная блестящая лягушка.
Плитка на нашей террасе была старой и сильно выщербленной, по ней даже больно было ходить босиком. Некоторых квадратиков не хватало, и прежний узор изразца угадывался смутно, но тетка не хотела ее менять, она вообще ничего не хотела менять с тех пор, как стала хозяйкой дома, даже двери на террасу оставила старые, створчатые, хотя зимой из-под них задувало. Одним из первых слов, которое я узнал, приехав в Португалию, было азулейжу, это было горячее, блекло-голубое слово с потеками подтаявшего варенья, крошками и рыжими муравьями.
Первой работой, которая досталась мне в Лиссабоне много лет спустя, оказалась как раз реставрация этих азулейжу, до сих пор помню панно, которое мы пытались восстановить: игры влюбленных под сенью молочного леса. В правом углу панно, прямо над головой кавалера, висел купидон с фруктовой корзиной на голове, в левом — восходили луна и солнце одновременно.
— Никакого понятия о перспективе, — сказал мой компаньон Фока, тыкая пальцем в живот купидона, — опять же, много желтизны. Настоящий азулейжу — это белый цвет и кобальтовая синь, впрочем, хозяин дома и сам не слишком белый, что с него возьмешь.
Хозяин дома, владелец пекарни на окраине города, считал, что его стена не хуже, чем во дворце Келуш, а реставратор называл ее переборкой в борделе, наверное, за то, что у девушки, возлежащей в середине панно, платье было расстегнуто до самого живота, а левая грудь торчала вверх, будто кабачок на грядке. Фока являлся на работу после полудня, из кармана его сатиновой куртки торчало горлышко бутылки, хозяин сердился, смешно ругался — tonto! bobo! imbcil! и размахивал кофейными руками, это у него здорово выходило, иногда мне казалось, что все разговоры у них заводятся ради этого.
Не успел я выучить слова перегородка и канавка, как работа была закончена, влюбленные воспряли, Фока собрал свои флаконы и кисти, погрузился в фургон и уехал, а кондитер предложил мне покрасить бассейн, устроенный в глубине сада. Дно и стены бассейна когда-то были выложены теми же азулейжу, мне предстояло очистить поверхность, подклеить керамику, и выкрасить бортики в цвет, который хозяин называл Mediterrneo.
Я провел в этом бассейне две недели, ночуя на матрасе в саду, пальцы у меня потрескались от клея и растворителей, а носоглотка забилась какой-то клейкой дрянью, но это бы ничего, а вот лягушки меня здорово донимали. В бассейне обитало семейство лягушек, ополчившихся на меня почище ахейцев с троянцами, они были маленькие, но рыжие и упрямые, через пару дней я почувствовал себя мышью из невесть чьей поэмы под названием «Батрахомиомахия».
Утро я начинал с того, что вылавливал лягушек сачком и выбрасывал в кусты, но на следующий день находил их на том же есте, в панцирях из свеклы и шлемах из ракушек, их становилось все больше, даже когда я огородил бассейн забором из полиэтилена, натянутого между железными прутьями. К началу второй недели я понял, что древние китайцы были правы, когда писали, что лягушки падают с неба вместе с росой, плюнул на все и стал работать, отпихивая их ногой или кистью — кондитера, приходившего взглянуть на мою работу, это ужасно забавляло.
Почему я вспомнил про этот бассейн? Потому что в одну из ночей, когда так похолодало, что мне пришлось перебраться из сада на террасу особняка, взять старый шезлонг и укрыться вынесенным служанкой пледом (помню, что я посмотрел на ее белый передник, топорщившийся от крахмала, и пообещал себе, что заведу такую же служанку и передник ей куплю), так вот, в одну из ноябрьских ночей я увидел своего отца Франтишека Конопку, и не просто во сне, а как будто рядом, он опустился на край моего шезлонга так тихо, что не скрипнула ни одна проржавевшая пружина. У отца были две высокие залысины в русых волосах, и я с ужасом подумал, что скоро начну лысеть, ведь у меня такие же волосы, тонкие, не признающие расчески. Еще у него было воспаленное красное лицо (странно, мать говорила — такое белое, чистый порцилен), а на шее висел деревянный крест, напомнивший мне пропуск на сыромятном шнурке — в вильнюсской школе такой выдавали, когда кто-то отпрашивался в туалет. Пропуск болтался на шее и свидетельствовал, что ты не из класса выставлен, а идешь на первый этаж по серьезному делу.
— Знаешь, Костас, — сказал отец, — один писатель сказал: выбирая между горем и ничем, я приму горе. А я вот принял ничто. И не то чтобы я страшно жалел, просто как-то неуютно теперь. Сижу за кисейной занавеской в зале, полной людей, и думаю, что меня никто не видит. А они вовсе и не смотрят, захотели бы, так увидели бы, просто не смотрят.
— Папа, о чем ты? — я так растерялся, что с трудом разбирал слова. — В какой такой зале? Где ты сидишь за занавеской, в раю или в аду?
— Не имеет значения, — сказал отец. — Я сижу на галерке. У меня верхние дешевые места.
Внезапно он встал во весь рост, поднял руки к лицу, растопырил пальцы и принялся петь, медленно наклоняя голову то к одному плечу, то к другому:
- Подходи, люд честной, люд божий,
- Крытый рогожей,
- За медный пятак
- Покажу все этак и так.
- Вот французский город Париж,
- Приедешь — угоришь.
— Папа, — я дернул его за рукав, — не так громко, сейчас сюда прибегут кондитер и его нервная гречанка-жена. Скажи лучше, видел ли ты там Зою Брага? Она ведь тоже на небесах.
— На небесах? — отец перестал петь и отошел к перилам, на которых сушился мой комбинезон. — На небесах никого нет. Там бродит шакал Йуруга, родившийся у земли, когда ее шалостям с творцом помешал термитник. Шакал думает, что ищет себе пару, а на деле просто хочет научиться говорить. Прямо как ты, сынок.
— Господи, пап. Это же муть какая-то африканская, — сказал я, резко поднимаясь с шезлонга, пружины заныли, отец обернулся, холодно мазнул меня взглядом и перекинул ноги через перила. Я услышал шорох мясистых рододендронов, только вчера посаженных здешней служанкой, потом — быстрые мягкие шаги по клумбе, потом раздался механический треск козодоя, звякнула щеколда на воротах, и стало тихо.
Я не совершал греха. Я не совершал грабеж с применением насилия... Я не убивал мужчин и женщин. Я не крал зерно. Я не воровал имущество бога. Я не произносил лжи.
Я не увлекался пищей. Я не произносил проклятия...
Я не переспал с мужчинами. Я не заставил никого плакать. Я не ел сердца. Я не человек обмана. Я не крал с обрабатываемых земель. Я не загрязнял себя...
Я не терроризировал. Я не закрыл уши от слов правды.
Я не порицал.
Папирус Ани
В тот вечер в Эшториле я довольно быстро забрался в окно туалета. Зацепился, правда, за щеколду, но все обошлось царапиной на щиколотке. Я надел старые кеды на босу ногу, а в карман сунул прозрачные перчатки — за день до этого купил пачку у бакалейщика, он надевает такие, когда строгает чеддер, крепко ухватившись за сырную голову. Подойдя к галерее на руа Дом Боско, я поднял голову и сразу увидел нужное окно на втором этаже. Оно было приоткрыто, как мне и обещали — человек Ласло выполнил свою часть работы, осталась самая опасная, то есть моя.
— Все будет просто, если ты не станешь воображать себя медвежатником, — сказал Ласло, когда звонил мне в последний раз. — От тебя требуется только то, что ты умеешь: взломать охранную систему в «Гондване», она там одна на все здание. Ключ от сейфа будет у тебя в кармане, достань цацку, выберись оттуда без шума и иди спать. После этого мы квиты, как будто и не было ничего.
Забраться туда по водосточной трубе не так уж трудно, здешнюю систему я, положим, раскодирую, а вот что дальше делать, думал я, медленно обходя здание. Там ведь человек сидит, а то и два, мимо них придется пройти или проползти, оружия у меня нет, если поймают — изобьют и выкинут вон. Португальцы не торопятся звать карабинеров, в этом я вижу их приятное сходство с русскими. И еще в том, как редко они улыбаются на улице.
На заднем дворе галереи кто-то разбросал ломаные ящики из-под апельсинов, с юга двор прикрывала живая изгородь из барбариса, а с севера — стена бакалейной лавки, исписанная красными и синими граффити. Go go bastard! прочел я синие буквы, красные оказались просто кляксами, разбиралось только слово mozerfakir.
В окнах первого этажа мелькали знакомые огоньки «Оптекса», этого барахла мы с Душаном за полгода продали не меньше чем в три сотни лиссабонских контор, я сам его привозил и устанавливал. Странно, что здешний хозяин не купил чего-нибудь подороже, я бы на его месте в каждую замочную скважину воткнул по датчику. Я остановился под окном, размышляя о перчатках: надевать их до того, как заберусь внутрь, не было никакого смысла, они скользят, но труба была грязной и две мои пятерни отпечатались бы по всей длине. Потом я достал фонарик и посветил на водосточную трубу — она была обломана, похоже, хозяин галереи экономил не только на охране. Изогнутая жестянка лежала в траве неподалеку, а оставшаяся часть трубы темнела высоко над моей головой.
Свет в комнате охранника зеленовато мерцал: парень смотрел телевизор и наверняка грыз орешки, оставшиеся от сегодняшнего приема. Надеюсь, ему и водки перепало, подумал я, засучил рукава и принялся составлять ящики один на другой. В голове крутилось что-то вроде затоваренная бочкотара-тара-тара-тарарара — последний раз я видел аксеновскую книжку в доме у одной первокурсницы, вернее, у ее отца. Я тогда здорово удивился, обнаружив знакомый томик в кондовом эстонском доме, между собранием Тамсааре и альбомом Келера.
Помнишь этот день, Хани? За год до того, как меня выставили с факультета, мы отправились в дом твоих родителей и долго добирались до заснеженного городка, отделенного от русской границы только речкой и перелеском. Вернувшись домой, твой отец пожал мне руку и спросил, как мое имя переводится с литовского, я растерялся и пробормотал что-то про императора. Про мою примесь пегой, чалой и чубарой масти ты, наверное, умолчала, так что я стал держаться за свою литовскую четвертинку. Не рассказывать же им, в самом деле, что мой отец — богомаз Франтишек, сын виленского поляка и русской староверки, исчезнувший в тот день, когда его свадьба с моей матерью, дочерью еврея-арестанта и падчерицей русского чекиста, должна была состояться в соборе Петра и Павла.
Мне, черт возьми, совершенно не с кем поговорить об отце, а так густо, так щекотно хочется поговорить об отце, прямо хоть ложись лицом вверх на кушетку психоаналитика. Если верить снимку, подаренному мне краковскими дядьями, у меня отцовские сомкнутые брови и нос, смахивающий на крейцмейсель. Но Франтишек ли хмурится на этом снимке? Одно я знаю наверняка — отец был высоким донжоном, украшением горизонта на манер пусады Эстремуш. Плечистый, полный тайных ходов, недостижимый, весь изъязвленный следами от снарядов, весь в щелях и выбоинах от моих школьных писем, оставшихся без ответа.
Отец показал свой шляхетский норов, не явившись на венчание, а мать показала нежное воспитание, грохнувшись в обморок на гранитных ступеньках Scala Christi. Жених исчез из квартиры, которую снимал на Жверинасе, оставил долги и недописанный складень, каким-то чудом выбрался в Польшу и больше его никто не видел. За десять лет он прислал мне целую груду посылок с игрушками, свитерами и джинсами (всегда на размер или два больше, чем нужно, как будто издали я казался ему рослым и пухлым Шалтай-Болтаем), но ни одного письма. А потом и посылки прекратились.
Я прочел в одном блоге, что безответность — это не синоним безнадежности, как я раньше полагал, а некая особая энергия, выделяемая плотной, жарко дышащей массой писем, телеграмм и телефонного шороха, всего, что сказано и написано в никуда, как если бы вы шевелили губами, задрав голову к небу. Одним словом, безответность — это батарейка выдыхающихся небес. Хотел бы я познакомиться с парнем, который это написал, полагаю, с ним можно было бы говорить о Франтишеке Конопке и даже о моржах и плотниках, да только поди разбери в наше время, кто скрывается за ником в сети. Мир разделился на благородных юзеров, проворных троллей и анонимных равнодушных наглецов.
— Это хорошо, что ты учишь эстонский, — сказал господин Тринк, скупо плеснув на дно моей рюмки черного бальзаму. — Наш язык — один из самых благородных и древних на земле. Литовский-то попроще будет!
Не знаю, что твои родители думали о нашей женитьбе, Хани, скорее всего, они были в бешенстве, но виду не подавали. Отец говорил со мной, как суфий со своим учеником, цедя протяжные слова, глядя поверх моей головы. Иногда я ловил на себе опасливый взгляд матери, но она тут же отводила глаза, а ты, помнится, очень нервничала и хваталась за шампанское. Ночью мы ели увядший торт в твоей спальне: я прошел туда по карнизу, цепляясь правой рукой за крылья и клювы каменных птиц, прижавшихся к фасаду. Пробираясь к тебе, я смотрел на красные витые ворота и низкую тисовую изгородь, засыпанную снегом, и думал о том, что скоро у меня не будет родительского дома. Любой другой будет, стеклянный, оловянный, а родительского — не будет. Как в воду глядел.
— Дом построил наш прадед, — сказала ты, встретив меня у балконной двери. — Он заказал мастеру этих птиц и еще двух львов для парадного крыльца, но началась война, и львов сделать не успели.
Я не стал спрашивать, какую войну ты имеешь в виду, взял тебя за руку, завел в комнату и толкнул на кровать. Раздевая тебя, я понял, откуда берет начало река Пэн, текущая на запад, река, в которой много рыбы ю, похожей на петуха, но с красными перьями, чей голос напоминает крик сороки. Съешь ее — и исцелишься от печали.
Когда я шел по карнизу в твою спальню, я думал о том, как важно быть спокойным. Больше всего я хотел бы остаться в своей постели: после матраса в общежитии кровать твоего дедушки казалась лапландским снежным холмом, я лежал по горло в снегу, жевал стянутую со стола конфету и разглядывал литографии на стенах. Через час мне пришлось пробираться по карнизу, под ногами скользила ледяная крошка, но я был спокоен, потому что не хотел никуда идти. Я был заносчивым, грубым девственником, а ты была твердой зеленой оливкой. Надеюсь, ты и теперь такая же. Если идешь куда-то понарошку, ни за что не упадешь. Меа кулпа, аталайа.
К чему я начал об этом? К тому, что там, во дворе эшторильской галереи, когда я стоял, задрав голову, и прикидывал число сочленений жестяной трубы, я думал о том, что мне уже дважды приходилось лезть в чужие дома по карнизу, и оба раза все кончилось плохо. Возьми хоть нас с тобой. С тех пор, как я уехал из Тарту, от тебя не было ни слуху ни духу, как будто ты обиделась на меня за то, что я не сопротивлялся и покорился решению деканата без шума и с тайной радостью. В конце марта на адрес матери пришла молчаливая бандероль с учебником испанского, который я тебе одалживал, в ней даже записки не оказалось. Могла бы черкнуть пару слов, хотя бы: как тебе там живется, mozerfakir?
Спрыгнув с подоконника в туалете галереи, я вымыл руки — просто чтобы успокоиться, и огляделся. Прием, похоже, был довольно пышным: вдоль стены туалета стояли мешки с мусором, приготовленные уборщицей для утренней машины. От мусора пахло уксусом и рыбой, наверное, к водке подавали суши. Я пожалел об оставленном в «Ди Маре» завтраке — поджидая метиса, я так дергался, что не съел и половины. Потом я подумал, что еще не поздно вылезти в то же самое окно, спрыгнуть во двор, дойти до гостиницы и заказать в номер бутылку мерло и целый поднос бутербродов. Поесть, выпить, выспаться, утром уйти из отеля часов в шесть, по холодку, и к обеду уехать из страны.
Тем более что вчера ночью мне снился скоротечный болезненный сон, я даже проснулся среди ночи, и это плохой знак Обычно я забываю сны, как только открываю глаза, разве что обмылок нашариваю на дне утренней памяти, а этот сон застрял, хотя был мутным и торопливым, как старинная фильма. Я видел тетку сидящей на стуле в нашем вильнюсском доме, возле кухонного окна, она сидела слишком прямо, будто привязанная, волосы были расчесаны на прямой пробор, будто у прекрасной Ферроньеры, очки в тонкой золотой оправе съехали на нос, а глаза были закрыты. Первое, о чем я подумал: я ни разу не видел ее в очках, второе — да это же мои очки! Свет из окна падал косыми полосами, ее губы оставались в тени, зато лоб и грудь прозрачно сияли под солнцем, словно обкатанные морской водой бутылочные осколки.
— Зоя, — позвал я, и тетка открыла глаза.
— Косточка?
Я страшно обрадовался, услышав это имя. Я не слышал его с того самого дня, как вломился к ней в ванную зимой две тысячи первого, под самое Рождество. В моем травяном сне поднялся внезапный ветер, сквозняк захлопнул окно, тетка вздрогнула, стул под ней покачнулся и стал падать. Теперь я увидел, что ее руки и в самом деле связаны, она падала медленно, будто лист в бездревесности, лицо ее не выражало страха, а ноги понемногу раздвигались, жестко и напряженно — будто каминные щипцы. Звон разбитых стеклышек был еле слышным, оправа царапнула по каменному полу, тетка все еще падала, я хотел удержать ее, протянул руки, но они остались прижатыми к подлокотникам кресла. Я сидел в дубовом кресле, похожем на то, что стояло у Фабиу в кабинете, а веревки резали мне голые руки. Я не мог пошевелиться и просто смотрел, как тетка падает, пока ее спина не коснулась пола — беззвучно, словно бумажная.
Древние думали, что память хранится в ушных раковинах, поэтому свидетеля на суде тянули за ухо, чтобы рассказывал подробно. Не будь мои руки связаны, я бы тоже потянул себя за ухо, во сне или наяву, чтобы понять, что мне все это напоминает. Вернее — кого, потому что в лежащей навзничь тетке проявилось что-то другое, мучительно ускользающее, как имя школьного приятеля, встреченного на улице, или начало стихотворной строки.
Моя тетка не могла лежать вот так, с задранными ногами, со сбившимся платьем, с виноватой гримасой, это не могло с ней случиться, по крайней мере, в моем сне — не могло. Я смотрел на нее не отрываясь, а она смотрела на меня и вдруг плутовато улыбнулась. Я даже задохнулся от неожиданности. Между зубами блеснула розовая заячья щелка, губы раздулись, будто от осиного укуса, тетка мотнула головой, и гладкие тяжелые волосы свалились с ее головы на пол, открыв две залихватские косички.
— Додо! — сказал я и тут же проснулся в Лиссабоне.
Вспыхнувшая спичка, венчик золотой.
Маленькая стычка света с темнотой.
Ап! апельсиновый зимний трамвайчик с расколотым окном, в окно задувает, и тебе дают полосатый шарф, им можно обмотать весь Иеронимуш, все игольчатые и ноздреватые башенки, ап! катер стынет на черной реке, на февральском ветру, ты забиваешься в толпу на палубе, глубже, глубже, поднимаешь бесполезный воротник, ап! утренний деловитый сквозняк в кафе с хлопающими дверями, опилки на влажном полу, тебе наливают горячее, пахнущее цедрой вино из своего стакана, прямо в кофейную чашку, и ты не сердишься, и ждешь, пока осядет взметнувшаяся кофейная муть, ап! апельсиновый пес кладет морду тебе на колени, он такой старый, что хребет просвечивает сизой облысевшей грядой, ты шаришь по дну кармана, merde! галеты кончаются, остались крошки, жетоны, сомнительные фантики, ладно, оставим до следующего раза, эта собака еще придет, она в последнее время часто приходит.
Я люблю Лиссабон.
То, что ты любишь, заставляет тебя тревожиться.
Лихорадка, беспокойство, непрочность, вот что делает слово словом, а само по себе оно всего лишь хищная личинка, черва, годная только для приманки окуня. В чем отличие между няниной Псалтырью и стеклянными шариками, за которые я душу готов был продать?
Шарики находили на виленской окраине, у ворот фабрики, за ними ходили мальчишки с нашего двора, а мне было нельзя, мать не подпускала меня к рельсам, у нее было предчувствие, хотя там не рельсы были, а узкоколейка заброшенная. Шарик стоил каждый раз по-разному, мне трудно было уловить эти правила, иногда хватало гривенника, а иногда — приходилось лечь на землю и поцеловать ботинок продавцу. Шарики были для меня словом, в них была взрослая ясность, запретный свет, прозрачная низкая логика: отдавая — получаешь. И я отдавал.
Однажды я отдал за горсть красных шариков портрет, стоявший у Йоле на столе, вернее, его бронзовую рамку, а портрет хозяин шариков выдрал и тут же выбросил. Различить лицо на снимке было трудно, на переднем плане были ветки яблони, за которыми стояла девочка лет десяти в платье с отложным воротником. Я знал, что это Доротея, младшая сестра бабушки, а яблоню эту я видел в саду на хуторе, она разрослась и одичала, плодовые ветки убежали наверх, и там, наверху я видел сморщенные белые яблочки, которые даже доставать не стоило.
В мае сорок первого бабушкину семью предупредили о высылке, высылать собирались в Алтайский край, за принадлежность прадеда к «Союзу стрелков». Йоле и Доротею отправили к знакомым, в жемайтийскую деревню, надеясь, что про них забудут, а потом началась война, и девочки потерялись. Пятилетнюю Доротею под чужим именем оставили в детском доме, где бабушка нашла ее после войны, но забрать не смогла — фамилия была другая, не отдавали, и все тут. Йоле устроилась в детдом уборщицей, поработала для виду несколько дней, однажды ночью вывела сестру из спальни, прихватив казенное одеяло, и сбежала на хутор. Дом в Друскениках чудом остался незанятым, несмотря на сосланных хозяев, за ним присматривал мой двоюродный дед, распорядительный парень, он там даже пасеку завел.
Доротея умерла в пятидесятом, ей было тринадцать лет, на три года больше, чем мне, когда я променял ее выцветший портрет на стеклянные шарики. Пишу тебе это и понимаю, что я сделал все правильно: мне были безразличны чужие memoires, мне нужны были мои собственные слова, обольстительно красные, стеклянные слова, вводящие во искушение, заставлявшие мое сердце биться быстрее. Вот и сейчас мне нужны слова, новые слова, каждый день, я вынимаю их из воздуха, будто белых кроликов или голубей, и опускаю за пазуху, а потом снова вынимаю, и снова опускаю, и так без конца, чисто обкуренный балаганщик.
А те слова, что я нашел на уцелевшей флешке, перечитывать бесполезно, они уже раскатились безгласными шариками, перестали царапать и тревожить. Себя не царапайте, и царапину души не изображайте на плоти вашей, говорит тебе свиток, а ты ему веришь и закидываешь рукопись на антресоли, или заворачиваешь в нее колбасу, или кидаешь в камин, если у тебя есть камин, или кладешь под голову умершей любовнице, как сделал Д.Г. Россетти, или увозишь на дачу, где ее растреплют полевки, если там водятся полевки, или забываешь у подружки на улице Пилес, а потом и подружку забываешь.
Сегодня на допросе я минут двадцать ждал, пока Пруэнса ходил кругами, с мобильным телефоном в вытянутой руке, и ловил ускользающую сеть. Стены здесь толстые, как в яхтенном клубе, где я работал прошлой зимой: телефонная связь обозначалась только на тамошней кухне, a wi-fi — исключительно в кухонном шкафу. Это был даже не шкаф, а глубокая стенная ниша для посуды — клубному зданию лет триста, и стены в нем полутораметровые, сложенные из неровных голубовато-серых камней. Домашний провайдер отключил мне сеть, потому что я не платил за нее больше полугода, так что лаптоп приходилось брать с собой на работу, все же лучше, чем ничего. Я ставил его на полку в нише, сдвигая высокие стопки тарелок, подключался к даровому Интернету и стоял в шкафу, пока ноги не занемеют.
Два дня назад, вместо того, чтобы ехать на Терейро до Паго, мы вернулись в тюрьму, следователю кто-то позвонил, и он велел поворачивать на кальсаду дос Барбадиньос. Я был так расстроен, что не стал задавать вопросов, меня затолкали обратно в камеру, и тут же хлынул дождь, не прекращавшийся двое суток. В этих широтах Португалия драматична, будто стареющая контральто: чем жарче и бравурнее, тем больше цветов и свиста, но уж если разрыдается, разольется — беги со всех ног, прикрывая голову руками. Меня даже на прогулку не выводили, охранникам не хотелось мокнуть во дворике, где под козырьком помещается только один человек. Зато сегодня я проснулся, увидел мартовское бледное солнце, вернее, его отражение в облаках, и понял, что сегодня все будет складываться как нельзя лучше.
Так оно и было: я дождался охранника и, сунув ему десятку, сходил в душевую, чтобы вымыться и зарядить батарею, на завтрак мне дали небрежно открытую банку анчоусов, на которой осталась наклейка магазина «Todo mundo», и я совсем развеселился. Это мой любимый гастроном, один такой есть напротив Аполлонии, я часто ходил туда за бумагой для самокруток. Представляешь, Хани, насколько я одичал, что радуюсь зазубренной консервной банке из реального мира? И своим ста сорока страницам радуюсь, разбухающим в этом файле, будто ослиная шкура в молочной кислоте.
Вспомнил сейчас, как в Тарту показывал свою повесть китаисту, и он назвал ее началом великого романа, который не стоит продолжать. Потом я показал ее тебе, Хани, и ты перебирала страницы в кафе «Лосси», откровенно скучая. В повести действовали автор и его персонаж, возмущенный тем, что рукопись осталась незаконченной, и являющийся к нему в дом, чтобы доставлять ему всякого рода неприятности. Автор от этого чахнет, захлебывается в рефлексиях, а потом умирает, разумеется. Поверишь ли, Хани, когда я писал это, то всерьез полагал, что этого он заслуживает — как же, ведь текст — это живой организм, ну, скажем, как коралловый риф, и бросать его недостроенным, оставляя бездомными всех этих электрических скатов, разинек и венерок, просто бессовестно.
Теперь я так не думаю. Я думаю, что с текстами происходит такая же штука, как и с любовью, а с любовью — та же штука, что и с дождевиками, их можно есть только свежевылупившимися, с рыхлой мякотью, белеющей внутри, если полоснуть ножом. Отойдешь ненадолго, а они уже вздулись, высохли и наполнились темными спорами.
Заруби себе на носу, Костас, ты — бывший писатель, у которого есть один бывший читатель. Нет, херня какая-то, что значит бывший писатель, ведь это свойство организма, а не ремесло или, пронеси Господи, умение. Можно ли стать бывшим жирафом или бывшим древесным жуком? Скажем, перестаешь ли ты быть древесным жуком, если больше не хочешь ходить в стене?
Может быть, я и писал эту повесть только затем, чтобы тетка забыла ее на столике в кафе, или пустила на растопку, или набросала чей-нибудь профиль на обороте. Нет, вру, я ждал ее похвалы, пишущий homo всегда ждет похвалы, так же, как homo играющий.
Сюжет пришел мне в голову весь сразу, еще на первом курсе и состарил меня в два счета, будто остров Эмайн того ирландского парня, что сошел с корабля и рассыпался в прах. Хорошо, что я поленился его продолжать, развернулся и отплыл, а не то погубил бы всю флотилию. Потом я несколько раз хватался за дневник, из которого не вышло ничего путного, а теперь вот завяз в бесконечном, навязчивом, как апейрофобия, письме, которое не надеется на ответ, зато штопает мою память понемногу, будто старую собачью дерюжку.
Память вообще странная штука. Вот писатель Фолкнер, например, часто рассказывал, как он прыгал из горящего самолета во время войны, а ведь он даже на фронте не был, Фолкнер-то. Но это не мистификация, я думаю, не хвастовство тылового сидельца, это особая писательская память, которая все делает правдой, выпекает другой мир (как это на санскрите — паралока?), сухой и прохладный, где серпантин никогда не размокает в лужах, а забытые с вечера сливки не портятся. Ни один человек, у которого есть крыша над головой, клавиатура, пригоршня травы и пачка печенья, не может быть в разладе с миром, это я точно знаю. У меня есть только клавиатура, и то я на седьмом небе, погляди на меня, Хани.
Но нет, если кто и глядит на меня здесь, так это тюремный блюститель: в верхнем углу моей priso, прямо над окном, я еще на той неделе заметил красноватый зрачок камеры и обрадовался ему, как другу. Вот почему в дверях нет глазка, а я было начал сомневаться в этой тюрьме. Сегодня дежурит безымянный охранник, таких здесь несколько, они появляются редко, и я поленился давать им имена. Охранник номер один показался мне сделанным из крученого железа, точь-в-точь козырек над дверями вокзала Россиу. Проводя меня по коридору, он норовил ущипнуть за предплечье, да не просто так, а с вывертом. Номер два был похож на продавца Библий, из тех, что стучатся к вам в дом и переминаются с ноги на ногу: мышиный костюм и очки из оконного стекла. Я спросил его, почему не слышно боя часов, ведь мы находимся не так далеко от церкви Св. Роха, и он посмотрел на меня изумленно — так смотрят на человека, который купил весь мешок с Библиями разом и в придачу два дорогих часослова.
Вместо боя часов сюда доносится одинокий голос валторны — не каждый день и только до полудня, так что я успел нарисовать себе крепко пьющего музыканта, живущего в квартирке, заставленной бутылками, прямо напротив тюрьмы. Угрюмого человека, вспоминающего о музыке только по утрам, пока у него еще ясно в голове, и валторну, наполненную Глиэром, закрученную медной улиткой в углу его спальни. Если выйду отсюда, найду этого парня, поставлю ему выпивку и скажу: старик, играй почаще, а то доиграешься — посадят тебя в музыкальную шкатулку, принесут лаптоп или папирус, дадут уйму времени, а сказать тебе будет нечего.
Черт, я ловлю себя на поучительном тоне, именно это всегда раздражало меня в Лилиентале, а теперь я отдал бы три — нет, четыре! — дневные пайки, чтобы послушать его злоречивые наставления. Я хочу поговорить с живым человеком, я устал говорить с умершими, а также — с теми, кто далеко и не может ответить. Я устал слушать музыку, которую играют за стеной, вместо той музыки, которая мне нужна. Я устал от овсянки, как канарейка от конопляного семени.
Жизнь не кончается, если у тебя дыра в кармане или запертая дверь перед носом, сказал бы я валторнисту, просто начинается другая жизнь, с другими законами, и если раньше ты трахался с деревянной коровой, думая, что там сидит распаленная Пасифая, то теперь тебе показали, что там внутри на самом деле.
О берущий. Не бери.
Когда Зоя приехала во второй раз, все было по-другому.
Выглядела она скверно, но казалась странным образом моложе, чем тогда, в отеле «Барклай», наверное, дело было в отросших заново волосах, похожих на перья чубарого голубя. Я смотрел на нее во все глаза и не мог поверить, что всего три года назад мы лежали под одним одеялом и беседовали о смерти. Она много пила, много смеялась и больно толкала меня носком туфли под столом, когда я не смеялся вместе с ней. В тот вечер мы ужинали у итальянца, на соседней улице, вместе с матерью и говорили о Фабиу: прошло ровно пять лет со дня его смерти, и мы пили граппу, потому что это был его любимый напиток. Еще он любил оружие и тораду, поэтому мы говорили о тораде, в оружии никто из нас не понимал, впрочем, я и сейчас не понимаю.
— Фабиу ездил на тренировки в Монтеморо и пропадал там часами, разглядывая всадников и лузитанских жеребцов, — говорила тетка. — Это он рассказал мне, что ни одному быку не разрешают появляться на арене второй раз, считается, что он постиг все тонкости боя и будет помнить их до самой смерти. Португальцы ведь не убивают своих быков, а только мучают: бегают по полю и хватают за подпиленные рога, пока бык не свалится без сил.
— Выходит, торада это не настоящая коррида? — я был разочарован. — Просто имитация битвы? По мне, так лучше честная испанская бойня.
— Что плохого в имитации? — тетка посмотрела на мать, но та отвернулась. — Некоторые всю жизнь тратят на то, чтобы добиться сходства с живыми людьми. Что касается быков, то после представления их уводят в загоны и закалывают. Может быть, они сами хотят смерти, измученные ранами и пренебрежением публики.
— Твой муж тоже был измучен? — Мать сплела пальцы перед собой, она всегда так делает, когда злится. — Даром, что ли, он выпустил пулю себе в голову.
— О чем ты, Юдита?
— Ты им пренебрегала, разве нет? Скажи при нем, — мать кивнула в мою сторону. — Пусть знает. Однажды ему тоже придется жить с женщиной, если найдется такая квайле.
— Ты слишком строга к сыну, Юдита. Ему только двадцать три, он хорош собой, и женщин у него будет столько, сколько он пожелает, — она засмеялась и потянулась рукой к моему носу. — Посмотри только на эту дерзкую кривизну ноздрей!
Что ж, теперь мне ясно, что она многое знала наперед: у меня столько женщин, сколько я желаю, и я не желаю ни одной. Иногда я думаю, что женщины перестали быть для меня тем, чем они были, в тот день, когда я ушел из дома на улице Пилес, оставив дурацкую записку, приколотую к кухонной занавеске. Я ушел из дома Габии, что-то щелкнуло в небесном механизме, отвечающем за породу слетающих ко мне птиц, и с тех пор в силки попадались только две разновидности: славка-завирушка или бледная бормотушка.
Тетка не хотела звать меня Костасом, имя Микалоюс-Константинас казалось ей нарочитым, уж больно отдает кантатой для хора и оркестра «De profundis», сказала она матери в тот день, когда мы появились в ее доме. Этого Профундиса я представлял себе надменным виленским уланом с белой кокардой и плюмажем. Но мать родилась в Друскениках, дала мне имя местного гения-символиста, а над кроватью повесила репродукцию «Сказки королей», которой я отчаянно боялся лет до четырех.
Когда в конце девяностых деревенское наследство — полтора акра дзукийской земли и рассохшаяся троба на берегу пруда — досталось матери, она тут же уволилась из отделения хирургии, собралась, выхлопотала бумаги и уехала. Я был уже взрослым и понимал, что дело не в доме, а в докторе Гокасе, получившем работу в тамошней больнице, но вслух мы этого не произносили. Мы вообще говорили мало, особенно когда оставались вдвоем. Моя мать была склонна к невразумительным восклицаниям и жестам, заменяющим слова, зато она неплохо стреляла — это сообщил мне Лютас, проработавший в тире целый сезон, летом после восьмого класса. Мать заходила в тир по дороге в больницу, покупала на рубль горстку пулек и всаживала их одну за одной в бегущие по нитке мишени. Лютас успевал только выдавать ей призовые монпансье в круглых жестяных коробках, похожих на упаковку гуталина. Подозреваю, что стрелять ее научил покойный дед Иван, владелец служебного револьвера и сыромятной портупеи, это ладно, а вот куда она девала монпансье?
С тех пор, как мать переехала под Друскеники, я был на хуторе только один раз, хотя и скучал по тамошнему дому, куда меня еще в детстве привозили с запущенным бронхитом и отпаивали тимьяном и медом. Лицо двоюродного деда я помню смутно, зато помню камышовые дорожки и широкую, как пастбище, кровать. Над изголовьем кровати висел глиняный Христос, раны от гвоздей сочились черничной кровью. Мы с матерью ночевали в этой кровати, а вдовый дед уходил спать на широкую лежанку, покрытую дерюжкой, — лежанка густо пахла собакой, потому что раньше на ней спал дедов сенбернар, он умер задолго до моего рождения.
Днем лежанку занимал я, раскладывая на ней старые журналы, найденные на чердаке, каринки там были редкостью, в основном мне попадались скучные «Пшекруй» или «Свят». Прабабку похоронили в восемьдесят первом, в начале июля, это я помню, потому что мне тогда в первый раз купили костюм — слишком теплый и коловшийся изнанкой. Я ходил в нем по деревне, гордился и потел, помню даже запах дешевого синего шевиота, а вот похороны начисто забыл.
Йоле сказала мне, что в то лето видела, как я забрался на кровать, встал на высокие подушки, оперся рукой о стену и принялся кормить глиняного Христа шоколадом, который мне купили в ларьке возле кладбища. Кормил и приговаривал: Перкун-отец имел девять сыновей. Бабушка охнула в дверях, увидев оскверненный лик, я обернулся, оступился на верхней подушке и полетел вниз с горестным воплем. Глиняный бог уцелел, его протерли чистой тряпочкой, сказала Йоле, а тебя то ли в угол поставили, то ли подзатыльник отвесили, а может, и выпороли. Но я не помню ни наказания, ни бога, ни шоколада.
Помню, что обитатели хутора казались мне бестолковыми небожителями, в их владении было все, чего я тогда хотел от жизни, все запретные радости, а они просто жили, и все: не купались в пруду, не ели дичков, не катались на лошадях, не лазили за малиной к пану Визгирде. Двоюродный дед управлялся с хозяйством сам, гостям разрешал только грядки полоть, так что, поработав в саду, мать и бабушка Йоле садились на ступеньки летней кухни и сидели там до вечера, как будто дома не наговорились. Мать и бабушка были похожи как две кипарисовые маски театра но: пунцовый рот, настороженные прорези для зрачков, только у второй маски поточнее заточен подбородок, а на лбу резцом проведены морщины. При этом вторая маска была драгоценнее первой, это я даже в детстве понимал. Зато я не знал, что в театре но один и тот же актер играет и юную танцовщицу, и мстительного духа.
Мать и Зоя были совсем не похожи, да и не считали друг друга родней, так что я глазам не поверил, когда в девяносто первом мы получили приглашение из португальского консульства в Варшаве, на веленевой бумаге с тисненым флажком в верхнем углу. Внизу стояла теткина подпись, я даже удивился, что она такая простая, сеньора Брага, и все тут. Что до матери, то приглашение произвело тот же эффект, какой произвел на фараона Рамзеса мирный договор царя хеттов, выгравированный на серебряной пластине.
— Мы поедем в Лиссабон, — сказала мать. — Ты увидишь дом, в котором живет моя сводная сестра. Ради этого дома она вышла замуж за богатого человека, еще более странного, чем она сама. Много с ним не разговаривай, ходили разговоры, что он в уме повредился.
И вот я увидел этот дом: planta baja, гостиную с панелями, за которыми скрывались ржавые трубы отопления, столовую без окон, где дверь на террасу была единственным источником света, и кабинет с дубовым столом, ножки которого были изгрызены неведомым животным.
Дом был совершенно задушен коврами, набитыми пылью, как тополиные коробочки пыльцой, и если знание — это моль, то они были свирепо проедены безмолвным знанием во многих местах. Один из ковров лежал даже на рояле, будто скомканный плащ на руке фехтовальщика, свисая до полу двумя бахромчатыми полами. Я обрадовался, когда увидел инструмент в гостиной, хотя играть не умею, разве что мелодию из «Римских каникул» могу подобрать. Просто есть несколько вещей, которые я всегда рад обнаружить в незнакомом доме: вьющиеся растения, старые зеркала в пятнах отошедшей амальгамы, стопки книг на полу, запах трубочного табака и большие, вальяжные музыкальные инструменты.
В мае тюрьму перестали топить, полагая, что началась весна. Наверное, от того, что ночью резко похолодало, мне приснился двойной сон, прежде не виденный: я открыл дверь в свою спальню (успел еще обрадоваться, что вернулся домой), а оттуда хлынул поток холодной воды, да что там поток, целая горная река, полная острых ледяных осколков, один такой осколок отрезал мне ногу по колено, я даже вскрикнуть не успел, увидел только, как она мелькнула в шуге, среди уносящихся вниз по лестнице скорых струй, поднялась и снова нырнула, будто зимняя утка в полынью. Во сне на моей ноге был зеленый шерстяной носок, я пожалел о нем и проснулся, стуча зубами от холода.