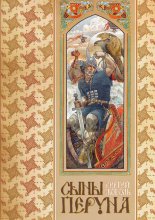Юность Бабы-Яги Качан Владимир
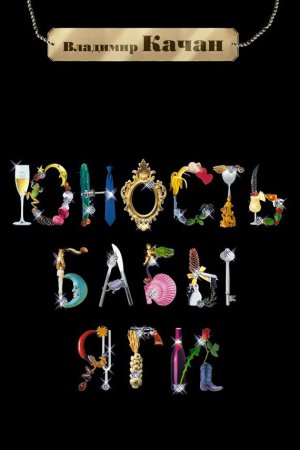
– А вы уверены, что будет «потом»?
– Обязательно, – снова ослепил он Виолетту своей улыбкой и, смягчая ею фамильярность, дополнил, – моя дорогая…
– Я не ваша дорогая! – Вета резко отвернулась, вышла из машины и пошла к подъезду, а вслед услышала, негромко, но так, чтоб услышала:
– Да. Пока, – он подчеркнул слово «пока». – Пока – не моя дорогая. Но все же дорогая.
Вета фыркнула сердито и обернулась, чтобы какими-нибудь обидными словами поставить на место этого самоуверенного типа, но он, улыбаясь, уже отъезжал. Она скомкала и швырнула вслед машине визитку, которую все еще машинально держала в руке, надеясь, что этот тип увидит ее решимость отказаться от продолжения знакомства. Возле подъезда Вета привстала. Гнев уступал место сильнейшему любопытству, с которым большинству женщин бороться невозможно: кто такой этот армянин? Почему он за ней следил? А ведь следил! Иначе все другое – необъяснимо. И про массажистку знал. А ее имя? И адрес! У дома ведь тоже неспроста оказался. Кто он? Если очередной интересующийся мужчина, пускай и с большими возможностями, – тогда ладно, тогда проще. А если что-нибудь другое? Бельгия, что-то связанное с Марио? Тогдашний нелегальный переход границы? ФСБ? Что? Но ведь он сказал: «ничего плохого для вас». И это его «пока не моя дорогая»… Значит, мужской все-таки интерес.
Вета вернулась, нашла в траве скомканную визитку, расправила и спрятала в сумочку.
«Ну, если еще один влюбленный чудак, – думала она, – я с ним разберусь по-своему. Не таких обламывали». Она ошибалась. Таких она еще не обламывала.
Любопытство грызло Вету и во время массажа, и за чашкой кофе с массажисткой. Грызло настолько, что она решила накормить его сразу, не откладывая. Прямо оттуда же она позвонила. Достала помятую визитку. Там от руки был написан мобильный телефон, доступный, видимо, только для избранных. Она была избранной, значит. Вета позвонила и без малейшего оттенка просьбы в голосе, и не представляясь, сразу сказала:
– Если вы меня привезли, то, может, и обратно отвезете?
Вызывающе сказала, в прямом смысле. Будто вызывала на бой. Ответ открыл счет в его пользу:
– Я уже здесь, – сказал он.
– Ах, так… – только и нашла что сказать Виолетта. С отчаянной решимостью пантеры, проигрывающей схватку с «витязем в тигровой шкуре» пока по очкам, она плюхнулась на переднее сиденье и, нагло закурив, спросила: – Ну?..
– В ресторан? – осведомился «витязь».
– Поехали, – согласилась она.
Ресторан, как и все прочее, Вета оценила. Не что-нибудь заурядно-кавказское или китайское, а новомодная «Галерея» у Петровских ворот, один из самых дорогих в Москве. Там вечерами вокруг памятника Высоцкому громоздились джипы, шестисотые «мерсы» и прочие показатели достатка неинтеллектуальной элиты нашего общества. Они пробили себе неформальную стоянку в конце бульвара, прямо там, в пешеходной зоне. Вот и сейчас стоянка была забита до отказа. Но когда их машина причалила возле милицейской будки, оттуда, как ошпаренный, выскочил доблестный ревнитель прав дорожного движения, козырнул и, являя лицом и фигурой глубокое уважение, – показал заранее приготовленное Завену свободное место. Сопроводил машину, открыл дверцу – не ей, а водителю, тем самым доказав еще раз, что сервис у нас в разгаре, но до приличных манер еще далеко; и незаметно, движением неуловимым и стремительным, вот как хамелеон схлопывает муху, прибрал купюру в 100 долларов, которая исчезла в его кармане за долю секунды.
То же наблюдалось и в ресторане. И охранники, и метрдотель, и затем официанты – все олицетворяли собой сплошное уважение, переходящее в подобострастие.
«Да кто ж он такой, этот Завен? – опять подумала Виолетта. – В визитке – довольно скромно: генеральный директор фирмы… Мос,.. -хрен его знает, какой-то – строй, а обращаются с ним, как с президентом. Но все равно – понты, сплошные армянские понты! Елкина мать! Да проходили мы это уже! Поразить хочет шиком своим. Чтоб я заинтригована была. Вся – от головы до промежности. Ага! Уже готова! Тоже мне загадочный граф Монте-Кристо! Армянский, елкина мать!»
С некоторых пор Вета ругалась и про себя, и прилюдно именно так. Мат или традиционное «елки-палки» ее не устраивали. Если она хотела крепко выразить свои чувства, она говорила «елкина мать», не особо вдаваясь в этимологию слов – кто, мол, такая елкина мать, уж не та ли самая, точно такая же елка? Не липа же, в конце концов! Наверное, то был причудливый симбиоз двух самых распространенных выражений, произносимых обычно в сердцах «е… твою мать» и «елки-палки». А вместе – «елкина мать».
Когда двое официантов во главе с метрдотелем с лакейскими полупоклонами препроводили их к изолированному от всех дальнему столику, и они там наконец расположились, Вета опять, прямо посмотрев на него, повторила:
– Ну? Я жду объяснений.
И он рассказал.
О том, что строительная фирма для него – хороший бизнес, но и только. Деньги? Да деньги, но деньги он умеет делать из чего угодно и без труда. Он один из первых придумал частные хлебопекарни, он стоял у истоков производства новых сортов пива и так далее и тому подобное. Ему придумать новую схему, какую-нибудь новую комбинацию, которая будет приносить деньги – ничего не стоит. Это не очень интересно. Самое интересное для него другое: политтехнологии, аналитический центр, который он сейчас возглавляет, предвыборные кампании – то одного кандидата, то другого – с диаметрально противоположными взглядами, какие у них взгляды – неважно, главное – увлекательная возможность манипулировать людьми, переставлять их, как пешки, конструировать самому их успех или провал. Быть своего рода серым кардиналом.
Он был в процессе всего вечера предельно откровенен с Виолеттой, открывая ей такое, что ей нельзя, невозможно было знать. Она сидела и слушала его речь, как захватывающий детектив, лишь изредка и испуганно спрашивая себя мысленно: достойна ли я таких откровений? Зачем они? А Завен продолжал выдавать ей такое, от чего брала оторопь. Такое, что можно поведать разве что жене, да и то не все и не всегда. Например, Вета предпочла бы не знать о том, что обличительные речи скандально известного телекомментатора в адрес одного популярного политика были согласованы с его, Завена, штабом предвыборной кампании этого самого политика. Они за два дня до эфира сливали продажному телеведущему тщательно отредактированную информацию, и, естественно, заведомо знали, какой мусор тот будет вываливать на голову их кандидата. Взамен они получали аналогичную информацию с той стороны, и когда уже их телекомментатор обливал помоями конкурента. И все всe заранее знали. И все – за деньги. И все называется – «черный пиар». А люди наивно думают, как принципиально и честно, подтверждая документами и фотографиями, обличают люди друг друга, ни перед чем не останавливаясь. Ах, ну надо же – как воруют бесстыдно! Подлецы какие! Ведь нажрались уже досыта, наворовались, и детям и внукам хватит, ан нет! Не останавливаются, во власть лезут! Ах, какой этот! А мы-то думали, он честный! А другой-то! Мы и не знали, что он «по непроверенным данным» заказал убийство! И т. д., и т. д. И за всем стояли огромные, невообразимо для обыкновенного человека огромные деньги. И у него самого были огромные деньги, это само собой.
В середине вечера Вете пришлось понять, почему он так откровенен. С его откровениями она влипла по самые уши. Почему она не прервала его в самом начале рассказа, почему не сказала: я не хочу это знать? Почему, как девчонка, поддалась гипнозу его рассказа и его глаз? Теперь стало поздно. Она попала. Как-то сразу она стала слишком много знать. Своим доверием он привязал ее. Намертво и быстро. Он вообще все делал быстро. И стоило ли теперь удивляться, что про нее он знал все: и где живет, и куда едет, и откуда приехала. Он, оказывается, выбрал ее давно, а она об этом и не подозревала. Он впервые увидел ее еще в Бельгии вместе с Марио на каком-то приеме. Он еще тогда решил, что пройдет время, и эта женщина будет принадлежать ему. Он знал и о разводе, и о том, что было прежде. Он со стороны наблюдал за ее жизненными пертурбациями и никуда не спешил. Его люди были везде, и им не составляло никакого труда знать о ней все – включая адрес, телефон и то, что по этому телефону говорится. Они и не такие задачки решали. Он все знал о маме и об их колдовском клане. Если Вета и была черной пантерой, то давно загнанной в угол, из которого нет выхода – только к нему в объятия. Ее взяли силой куда более мощной, чем у нее, и она подчинилась.
Нет, не в тот первый вечер. Завен, как уже было сказано, никуда не спешил. Он еще ухаживал какое-то время. Но как! Длительная осада Печориным гордой красавицы Бэлы – до тех пор, пока сама не попросит, – лишь жалкое подобие того, чем окружал Виолетту Завен, предупреждая и угадывая каждое ее желание. Он был внимателен, он был джентльменом во всем. Вот как на заре любовной жизни Виолетты Гамлет, но только рангом повыше, значительно повыше. Лишь однажды Вета увидела в нем досаду богача, чье финансовое пижонство не вызвало в ней восхищенной благодарности.
Они на два дня, субботу и воскресенье, решили слетать на море, проветриться. Проветриться захотели на одном из греческих островов, вернее, захотела Вета, а ее желание для него было свято. В аэропорту, в «duti free», он пожелал сделать ей подарок. Отдел вещей и парфюмерии его не интересовали, он хотел сделать очень дорогой подарок. Они зашли в отдел ювелирный, и Завен стал предлагать ей на выбор часы стоимостью от 10 тысяч долларов и выше. Вета никогда не любила того, что «слишком», и она отказывалась. Но чтобы не обижать его, выбрала то, что попроще. Швейцарские часы «всего» за 2 тысячи. Он все-таки обиделся, искренне не понимая, как это ее не прельщает то, что обычно прельщает всех. Он знает, что она «не все», но чтобы до такой степени! Он начал спорить, настаивать, чтобы она взяла себе подороже.
В то время их роман был уже в полном разгаре. После месяца не досадливой, а вполне комфортной осады Вета сдалась и первая (!), сама (!) предложила ему себя. Она к тому времени уже сильно попала под его влияние. Под влияние, но отнюдь не в рабство. А он хотел максимального, хотел стать ее хозяином, хотел сделать ее рабой, подчинить себе ее душу, она это чувствовала. Физическая близость всегда была Ветиным главным козырем, она имела все основания надеяться, что после первой же ночи с ней именно он попадет в рабство, а не она. Так было всегда со всеми ее партнерами. Но не тут-то было. Он не попал в рабство, или сделал вид, что не попал. «Что наша нежность и наша дружба, – как поется в одной песне, – сильнее страсти, больше, чем любовь», – вот такой вид делал он. Вета была раздосадована, но тоже сделала вид, что это ее даже обрадовало. И сейчас они жили, как бы в гражданском браке.
В «дьюти фри» спор – что покупать, – затянулся. Объявили посадку на их рейс.
– Мы опаздываем, – сказала Вета, – давай не будем спорить. Купи мне, пожалуйста, то, что мне нравится.
И тут впервые она увидела его в гневе:
– Никуда мы не опаздываем! – злобно выкрикнул он, – они подождут! Причем сколько мне надо, столько и подождут. Мы еще в кафе зайдем, мне надо выпить коньяку.
Взяли часы, он расплатился и нарочито медленно повел ее к бару. На весь аэропорт прозвучало объявление, назвали их фамилии с требованием немедленно пройти на посадку в самолет.
– Вылет задерживают из-за нас, – робко упрекнула Виолетта, – пойдем.
– Да не пошли бы они к едреной матери! – отозвался Завен, все еще злясь на нее за часы. Он хотел, как лучше и дороже, а она… купила какую-то мелочь! – Вылет они задерживают! Да я весь их рейс могу купить! С их самолетом в придачу! И с островом, на который этот самолет будет садиться!
– Кончай, Завен, эти детские (спасибо, догадалась не сказать «армянские») выкрутасы, пойдем.
Он дал себя увести, не вступая в конфликт с «Аэрофлотом», однако недовольство по поводу того, что Вета все никак не желает попасть от него в полную зависимость, в нем зрело. Он неоднократно с тех пор делал попытки ее сломать, но все не мог. Тогда это стало определенным образом его мучить и уязвлять. У него стал вырабатываться своеобразный комплекс по отношению к Виолетте. Вроде бы уже его женщина, а не до конца – его. Все женщины, да что там, все люди на его пути покорялись, а она – нет. Не мог понять, смириться, принять… Там было две причины. Первую он знал – в ней было слишком много достоинства. О второй только догадывался. Вторая, скрытая причина, известная нам, заключалась в том, что она была ведьмой. Он тоже в этом смысле был не промах: гипнотизером, законченным циником, манипулирующим людьми, провокатором, играющим на их тайных страстях, короче – явным адептом нечистой силы.
Между тем, жизнь с ним и под его влиянием превращалась в сущий ад. (Ну, естественно, где нечисть – там и ад.) Все телефонные разговоры Виолетты прослушивались. Прослушка включалась на определенных ключевых словах или именах. Ей объяснили – на каких – и велели быть осторожной. Круг общения был чужим и опасным, а все ее попытки вырваться из его круга пресекались мягко, но оперативно. Лишь один раз ее отпустили, да и то напрасно…
Она все же время от времени бывала одна, и однажды в Доме кино с ней познакомился кинорежиссер и пригласил поучаствовать в фильме, который он снимает.
– Я не актриса, – сказала она.
А тот ответил:
– Для моего фильма это неважно.
Ей прислали сценарий. Там все вроде было благопристойно, и к тому же одна из главных ролей, несмотря на то, что слов немного. Почему немного слов, выяснилось сразу по приезде в Екатеринбург, куда Вета явилась все-таки на кинопробы. Оказывается, 3 сцены из ее роли были просто-напросто «порно». Она отказалась. Ей предложили аккордный гонорар, 35 тысяч долларов. Она отказалась. Четыре друга-бизнесмена, которые спонсировали производство порнофильма и сидевшие на этих «пробах», стали ее уговаривать.
– 10 тысяч только за пробу, – предложил один. – Сразу. Вот деньги. Покажитесь только, разденьтесь.
Она отказалась опять, но положение становилось опасным, она уже и не знала – вырвется ли отсюда живой и невредимой. «Бизнесмены» посовещались шепотом и объявили новую цену:
– 50 тысяч за фильм.
Вета поняла, что единственный шанс смыться – это прикинуться, будто сумма ее заинтересовала. Она попросила день на размышление, сказала, что поедет в гостиницу и подумает. Для убедительности снова взяла сценарий, вышла и перевела дух.
Тем же вечером она улетела обратно в Москву и рассказала Завену о происшедшем. На его лице не отразилось ничего.
– Вот видишь, девочка, – назидательно сказал он, – не надо тебе никуда уезжать. А если и уезжать – надо со мной договариваться. Нет, не разрешения спрашивать, Боже упаси, – езжай куда хочешь, но меня поставь в известность – куда, с кем и к кому, хорошо? А где, кстати, их киностудия?
На последней странице сценария были опрометчиво напечатаны реквизиты «кинодеятелей».
А где-то через неделю Завен, вроде невзначай, усадил Вету перед телевизором и сказал:
– Давай криминальные новости посмотрим.
И она узнала, что в Екатеринбурге накрыли притон, а вместе с ним цех по производству порнофильмов. Люди с автоматами, «маски шоу», РУБОП и все такое. Преступники оказали сопротивление, и в перестрелке были убиты два криминальных авторитета, а остальные находятся под следствием. Просьба всем девушкам, которым предлагалось участие в съемках, позвонить по телефону… и т. д. Показали фотографии. На них Вета с ужасом узнала двоих из четырех своих знакомцев-бизнесменов. Остальные двое, надо полагать, были мертвы.
– Ц-ц-ц, – издал Завен укоризненный звук. – Как нехорошо вовлекать молодых девушек в порнобизнес. Деньги большие обещать, да? А хочешь, я тебе так 50 тысяч подарю? – Он смотрел на экран, и мстительная улыбка кривила его рот.
– Так это… Это ты?! – потрясенно вымолвила Виолетта. – Я-то думала, инцидент исчерпан. Забыли и все.
– Для нас – исчерпан, – ответил Завен, – для них – нет. Хамских, самодовольных дегенератов, которые думают, что им теперь в этой стране все позволено, надо наказывать. Не все им позволено!
И тот вояж в Екатеринбург был с тех пор единственным бесконтрольным выездом Виолетты в «большой свет». Она стала невольной соучастницей всех его дел. А дела, надо сказать, делались громадные, вплоть до того – кого снимать в правительстве, кого назначать и каким образом осуществить задуманное. И совещания такого рода частенько проводились в их квартире. Точнее – в ее квартире, куда переехал Завен. Здесь вести дела было безопаснее, конспиративнее, что ли. Кейсы, набитые долларами, переговоры по телефону – то с высшими чиновниками страны, то с лидерами бандитских группировок, то с немецкими или американскими партнерами по бизнесу на их языках – и все в Ветиной квартире. Звонки были и днем, и ночью. Вета стала уставать, но терпела. Терпела до определенного времени.
Терпение лопнуло после того, как ее похитили. Похитили самым вульгарным образом, будто по сценарию все того же американского боевика, адаптированного к русской жизни, который уже неоднократно упоминался на этих страницах, вместе с упорными попытками автора спародировать его наиболее типичные штампы. Но что делать, если эти фильмы стали прямо-таки учебником для начинающего русского бандита, а «силовые структуры» широко пользовались все теми же приемами.
Домработницы у них не было, Завен не хотел в доме лишних людей, поэтому роль домработницы выполняла она, что тоже, кстати, стало ей надоедать. Магазины, стряпня, уборка – все сама. И вот в один прекрасный день все случается, как в кино. Идет она из магазина, тормозит, как всегда, джип. Из него как всегда выскакивают трое молодых людей. Один сразу зажимает ей рот, она даже «мама» крикнуть не успевает, двое других так шустренько заталкивают ее в машину. Едут. Завязывают ей глаза. Рот, как всегда, – клейкой лентой. Все происходило так же, как некогда с бандой Димы-Таксиста. Словом, все как обычно. Помнится, где-то в середине этого романа и с хорошей девушкой Викой в г. Ижевске проделывали почти то же самое. Только вот эти, безмолвные и деловитые воины большого бизнеса в камуфляжной форме были профессионалами, а те – дилетантами, вот и вся разница. Профессиональны они даже в том смысле, что когда понимают бесполезность акции, то все моментально заканчивается. Так было и здесь.
Через три квартала дорогу им перегородил пустой «Икарус», а сзади и с боков подъехали еще три машины. Из них выскочили люди в аналогичной форме и навели на машину похитителей короткоствольные автоматы. Даже намек на малейшее сопротивление был бы пресечен огнем, и все стало бесполезно. Тем более бесполезно было бы убивать Вету, тогда их всех тут же и положили бы на месте. А зачем погибать попусту? Жить-то хочется. Вету освободили, а тех ребят в свою очередь раздельно затолкали по машинам и в автобус и повезли куда-то. Вету вежливо попросили занять место в салоне одной из машин и отвезли домой. Ну, а там Завен ей популярно объяснил, что ее хотели похитить, чтобы его шантажировать. Что он, мол, в одном вопросе никак не хочет уступить одному нехорошему человеку, и тот решил воздействовать на него вот таким прямолинейным способом. И если бы не его человек, давно назначенный им, чтобы пасти Виолетту, куда бы она ни двинулась, – все могло кончиться для него, Завена, тотальным поражением на одном из участков бизнес-фронта.
Завен, правда, извинился за причиненные неудобства и моральный ущерб. Обещал, что компенсирует ущерб поездкой в Венецию через неделю. «Ведь ты об этом мечтала, так? Вот и поедем, да, киска?» «Киска» все равно неутешно плакала. К тому же его омерзительная привычка называть ее иногда «киской» – сейчас, после происшествия выглядела особенно гадко. Он пытался утешить все-таки, но получалось у него в тот раз довольно неуклюже. Сказал, что каждый день со своей проклятой работой подвергается опасности.
– Ты думаешь, дырки в подголовнике моей машины – это для вентиляции, что ли? Нет, Вета! – яростно тряс он ее за плечи, – это дырки от пуль! Мне тогда удалось пригнуться и проскочить. Я каждый день на лезвии ножа, понимаешь ты это или нет?! А ты же – моя женщина, ты обязана разделять со мной все мои проблемы. Ну скажи, разве не так, – он уже стоял перед ней на коленях и тряс ее талию, – ты же должна быть со мной во всем, в беде и радости, разве не так, киска?
Вету опять передернуло как от «киски», так и от протокольного стандарта из дворца бракосочетаний – «в беде и радости» – и она тихо спросила:
– А почему я «должна»?
И Завен отошел, не зная, что ответить. Ему-то казалось, что это – само собой. И снова он ощутил болезненный укол правды – нет, не моя эта женщина. И ничья. И не будет чьей-либо никогда.
А Виолетта в тот злополучный день приняла судьбоносное решение со всем этим покончить. «Надо что-то сделать, – думала она, – пора освобождаться». Единственное, в чем она пока не отдавала себе отчета, – так это то, что в течение своего романа с Завеном она вплотную подошла к таинству посвящения в Бабу-Ягу, к решающей встрече со своей подлинной сутью. Год жизни с ним был логическим завершением ее бабо-ежской карьеры. Регулярное погубление особей мужского пола, все эти амурные пустяки, не шли ни в какое сравнение с тем, во что она влипла за последний год.
Она хотела после Марио – выше и дальше. Она получила. Она получила Черного Принца, который влиял даже на расстановку сил во всей стране. И жизнь с ним превратилась не в сказку, а в реальное, повседневное пиршество зла, в котором ей довелось участвовать. Черный Принц любил ее, а она, как ей казалось, тоже любила его. Или, во всяком случае, была привязана к нему больше, чем ко всем прочим. Однако жизнь с ним окончательно сформировала Виолетту в молодую, полную сил, сногсшибательно красивую «Девушку-Ягу», которой до «Бабы» было уже – рукой подать. Впрочем, сказочная, лубочная тезка нашей героини, не лишенная юмора и обаяния, казалась, по сравнению с ней, – страшилкой для совсем маленьких детей. Особенно в описываемое время, когда Виолетта уже прочно уселась в свою ступу и взяла в руки помело. Она, хоть и в подчинении у Завена, но все же советовала ему кое-что, подключала ясновидение, чьи-то судьбы решала, короче, почти что управляла государством. Куда там сказочной Яге или той самой кухарке, которой обещали то же самое, – до таких высот.
«Пора освобождаться, – твердила она себе. – Пора разбивать кандалы, в которые он меня заковал».
Но как – она не знала. И так и этак прикидывала она возможности разрыва, но ничего придумать не могла. Разрыв, казалось, совершенно невозможен. Выход из его ближнего круга – только смерть. Как же сделать так, чтобы и не погибнуть, и уйти от него. Как?
И все же настал тот день, когда она придумала. И придумала то, что могла придумать только полноценная, зрелая Яга, находясь в наилучшей спортивной форме.
Саша, а затем Виолетта
Ну что ж, эта глава будет разделена поровну. По половине главы нашим героям, пока они существуют еще отдельно друг от друга. Встретятся ли?.. Не будем, однако, интриговать, дождемся эпилога…
Итак, Саша после того таинственного, полного намеков вечера снова ухнулся в запой, хотя и не собирался. Но накопленный в организме за последнюю неделю алкоголь свое черное дело сделал. Назавтра, 2-го января, он еще более-менее держался. Утром пришла Зина во вдохновляющем белье, и Саша компенсировал ей все, чего недодал в новогоднюю ночь. Потом Зина ушла, а он запил страшно, будто в последний раз. Но, может, и последний, кто знает… Хотя, кое-кто и знает, но пока молчит. Может, все тот же ангел-хранитель, который по-прежнему не теряет надежды на спасение Сашиной заблудшей души?
Этот запой, этот полет в черную бездну был почти смертельным, до самого дна. Некоторые «специалисты» советуют: чтобы бросить курить, надо накануне накуриться до одури, до отвращения к сигарете. Наверное, что-то подобное Саша применил в отношении выпивки. Но уж слишком радикальным оказался метод, слишком рискованным. Дойти до дна – значит до дна. Это не метафора. То было вполне реальное путешествие в преисподнюю жизни и в царство теней при жизни, а не какой-нибудь познавательный тур по кругам ада во главе с экскурсоводом Данте Алигьери. Это был отнюдь не туризм, когда турист знает точно, что вернется целым и невредимым, и знает – когда. И если прежде Саша был уверен, что побарахтается немного в грязи свинья-свиньей, но все же потом встанет и снова начнет жить, то теперь уверенности такой не было. Для него прежде «пить» и «жить» были совершенно разными понятиями. На этот раз они слились в одно: «пить» означало – «жить» и наоборот – «жить» значило – «пить». И Саша только лишь надеялся, что вернется в нормальный мир, но и надежда эта была слабой, потому что там, на дне, можно было погибнуть в любую секунду. Да и сам по себе этот отпуск в тартар, этот круиз по помойкам с крысами и червями казался попыткой изощренного самоубийства. Только медленного. «Мой Ангел отвернулся, видно, от меня, плюнул и бросил», – хныкал Саша, опохмеляясь еще и еще раз. А ангел, тем временем, не бросил, он воспитывал. Если уж его подопечный запил после таких намеков, то стоит его опустить по полной программе и повозить лицом по нечистотам так, чтобы он захлебывался в собственном дерьме. Не хочешь, мол, по-хорошему, давай по-плохому.
И понеслось…. Поэт, душа общества, образованный человек, прочитавший уйму книг, тонко чувствующий, добрый, романтичный, остроумный – за три недели «дна» превратился в прямую противоположность самому себе, в такую мразь, которой он и сам, будучи трезвым, никогда бы руки не подал. Все, что он презирал или ненавидел в людях, проявилось в нем самом, и вот это было страшнее всего. «Нет, это был не я, не я!» – успокаивал себя Саша в редкие минуты просветления. А кто ж тогда? Он, конечно он, вчера соображал с бомжами на троих, носил продавать свои вещи на толкучку, пил ночью французский одеколон вместе с оставшимися в квартире духами его бывшей жены; именно он клянчил деньги у прохожих возле метро якобы на похороны отца, который умер еще 2 года назад; именно ему потом, когда он напился за эту милостыню до бесчувствия, возле дома кинулся навстречу асфальт и разбил его лицо так, что утром в зеркале он себя не узнал и все силился вспомнить – кто ж его так вчера, в какую драку он попал; именно его сердобольные соседи подняли по лестнице домой, нашли в кармане ключи и внесли в квартиру, а у этих соседей он уже назанимал денег; именно он неделю назад угодил в вытрезвитель, а потом нечем было заплатить штраф, и тогда он начал продавать вещи; он и только он пытался ночью вскрыть себе вены тупым кухонным ножом, вообразив спьяну, что все, он один и никому не нужен, жизнь кончена и пора уходить. Но даже этого у него не получилось: он пилил, пилил себе вену, пока не заснул. И проснулся, весь в кровище, у себя в ванной, не сознавая – где он и что с ним, пока не увидел столовый нож в своей руке и не вспомнил. Саша заплакал от бессилия, поглядев на этот дурацкий нож, будто на себя со стороны. Его друг-доктор мог бы его вытащить, но и он ведь сказал, что если еще раз – он его не примет в больницу.
Но первая и единственная мысль после пробуждения в ванной была – опохмелиться, иначе сдохнет. Полезная для общества, как ему казалось, идея самоубийства уже отпала сама собой, а значит, – только опохмелиться и забыться вновь. И Саша стал искать по квартире, что из вещей еще можно продать, чтоб хватило на бутылку или хотя бы на пиво. До рынка он уже не дойдет, это ясно. Но тут у них в ЖЭКе (или ДЭЗе, или РЭУ, как их там…) есть один, зовут Витек. Он принимает иногда – ну вилки, там, ложки серебряные, другое, что имеет какую-то ценность. Несколько дней назад Саша нашел в ящике стола свое старое обручальное кольцо, Витек его принял за бутылку и три пива. И сейчас надо, ой как надо что-нибудь найти…
Саша, пошатываясь, трясущимися руками перебирал оставшиеся шмотки в гардеробе, и из того, что можно продать, видел пока только белый костюм, выходной свой костюм, который он надевал в особо важных случаях. Его он держал до последнего. Костюм был единственным связующим звеном с той хорошей, красивой жизнью, и Саше почему-то казалось, что, продав этот костюм, он потеряет последнее. Даже отцовские ордена и медали он загнал на Арбате, когда – уже не помнил, но выходной костюм – не решался, цеплялся за него, как за последнюю надежду или воспоминание, которое продать никак нельзя. Но сегодня выхода не было, ну ничего больше не было в квартире, за что можно было выручить пузырь. И Саша бережно снял костюм с вешалки. Под ним висела еще белая рубашка со стоячим воротничком. Такая рубашка надевалась с галстуком-бабочкой, и сейчас, в сочетании с его испитой и разбитой мордой, да-да, только так – мордой, харей, грызлом, рылом, но никак не лицом – она выглядела бы полным издевательством. В Саше еще шевелились остатки иронии, он усмехнулся разбитым ртом и приговорил рубашку к сдаче вместе с костюмом. Сейчас он что-нибудь накинет на себя и выйдет на скользкую тропу обмена: костюм – бутылка. Пусть повисит пока в шкафу в последний раз.
Саша потянулся с вешалкой, чтобы водрузить его обратно, но неверные трясущиеся руки не слушались, и он уронил костюм. Охая и ругаясь, Саша нагнулся, чтобы его поднять, и вдруг нащупал в углу, на дне гардероба какой-то ком. Саша вытащил его из угла и рассмотрел. Еп…перный театр! Куртка, замшевая куртка, в которой он приехал год назад из Ижевска. Куртка хорошая, новая почти, заляпана чем-то, но ничего, такую куртку Витек за бутылку точно примет, и костюм драгоценный теперь можно и не сдавать.
– Что за пятна-то на ней? А-а, – вспоминал с трудом Шурец, – кровь это. Меня ж били тогда. Я ее бросил в шкаф, думал, потом в чистку отдам. А в карманах что? Ну-ка, ну-ка. А вдруг… Оп-па! Бумажка. Ну-ка, бумажка, иди сюда, а что если ты – хорошая бумажка, а? Вот это да-а! Какая милая, своевременная бумажка. – Саша держал в руке смятую купюру в 500 рублей. – А в другом кармане. Та-ак, посмотрим, – с проснувшимся азартом кладоискателя Саша стал рыться по другим карманам. – Та-ак. Тут ничего, а в нагрудном? Оп-па! Опять бумажка…
Саша потянул ее из кармана, надеясь на еще бoльшую удачу и… вынужден был разочароваться. Просто белая бумажка, записка какая-то. Саша собрался было ее выбросить, но что-то остановило его. Он посмотрел. Там был только чей-то адрес в Ижевске, а под ним имя – Вика.
– Надо же, Вика, – пьяно пробормотал Саша. – Сколько лет, сколько зим. Хорошая девушка… была… у меня.
Но воспоминание о хорошей девушке Вике сейчас было ни к чему, надо было быстрее бежать с найденной 500 рублевкой в ближайший магазин. «Бежать». Это я себя переоцениваю, – думал повеселевший Шурец, одеваясь. – Доползти бы». Он дернул дверь. Она была заперта. Он совершенно не помнил, что соседи, опасаясь оставлять его дверь открытой, заперли его снаружи, а ключи, естественно, взяли с собой. Саша стал искать ключи по всем карманам. Их не было. Что за черт! Надо позвонить соседям, хотя стыдно. Что там было вчера? Может, у них ключи? Такое уже раз бывало, недели две назад, так может опять? Телефон молчал. Рано. Сколько времени-то? Саша свои часы сдал Витьку, оставался будильник. Ну конечно рано, 7 часов всего. У них телефон, конечно, выключен. Надо подождать. А ждать – мoчи нет. Хотя – почему нет. Сиди, терпи, включи телевизор, который еще не пропил. Кстати – резерв. Посиди, не дергайся, – уговаривал он сам себя.
Он сел на диван. Брошенная бумажка из Ижевска лежала рядом. Он посмотрел на нее. Потом встал, выпил два стакана воды и опять сел. Опять посмотрел на записку. Начал чего-то волноваться. Взял записку в руки. Снова прочел – милым, полудетским почерком – «Вика». Адрес. Адрес… Зачем адрес?.. О, Господи! Да она же ждала! Она же, кажется… Нет, не кажется, а правда, – она любила его, вот дура-то. Как никто и никогда! А он обещал позвонить или приехать. Обещал – скоро, мудак! А ее лицо! Как она смотрела на него, прощаясь. Он снова глянул в бумажку. Там телефона не было, только адрес. Да если бы и был телефон – чего звонить-то. Год прошел. Может, она уже и замуж вышла, забыла его. Саше вновь стало жалко себя нестерпимо. Один, совсем один, никто не любит, никому не нужен. А если… если – ну предположим невероятное – если кому-то окажется нужным. Вот ей, например. А чего? Бывает же такое… Редко, но все же… Но нет, не может быть, год все-таки. И от него – ни ответа, ни привета. Какая девушка такое выдержит?
И тут, из дальних закоулков Сашиного помутненного сознания сам собой выплыл и нарисовался ответ: такая девушка может! Может и не такое. И Саша вспомнил все! И как она знакомилась с ним, как хранила тетрадь с его стихами, даже сделала самиздатовский сборник, как она спасала его, как лечила, как отдавалась безоглядно, как целовала, прощаясь, как не надеялась больше ни на что, как плакала…
Саша омертвело сидел на диване, уронив между колен руку с запиской. Некстати, а может, как раз кстати, но вне всякой связи с воспоминанием о Вике, он вспомнил и Виолетту. Ему казалось тогда, что Виолетта – главная любовь его жизни. Он забыть ее не мог, поэтому и не сумел Вику рассмотреть как следует. А тогда, с Виолеттой, была не любовь, там было прямо колдовство какое-то, чары, страсти. Саша понятия не имел о паранормальных способностях Виолетты, но запоздалый анализ того, что с ним было, натолкнул его на верную мысль. Чары, да и только! Любовь настоящая, без дураков, когда есть потребность отдавать, а не брать – была как раз у Вики! Находясь в диком похмельном синдроме, а по-научному – в абстиненции, и не имея никакой возможности опохмелиться – Саше не оставалось ничего иного, как думать и вспоминать.
Внезапный приступ тошноты потащил его в ванную. Потом он вернулся и опять сел на диван. Лучше поздно, чем никогда. И Саше пришлось подвергнуть ревизии и то, что у него было с Виолеттой вначале, и особенно то, что с ним происходило после встречи с ней в Шереметьево. Ведь до встречи в Шереметьево все шло хорошо, даже можно сказать – превосходно. И не Вика ли из Ижевска была тому причиной? Взяла на себя его проблемы, понесла, как говорится, его крест? А после новой встречи с Виолеттой все стало сыпаться. Все покатилось вниз, под уклон, вплоть до его сегодняшнего положения. Почему?
«Но звенела надежда, звенела» – припомнил Саша свое неначатое стихотворение. Надежда… На что? На то, что там в Ижевске, его ждут? Это невероятно, но вдруг? Может, по тому адресу и прописана его Надежда, которую зовут Виктория? Если не ждет, если забыла, то и ладно, ну и пусть, он это заслужил. Но если ждет… Тогда что? Что тогда-то?! «Тогда завяжу. Богом клянусь, завяжу!» – думал Саша. А сейчас, вот же мука какая! – звонить надо. Соседям! Что они там, мертвым сном, что ли спят? Не догадываются, что человека надо выпустить? Телефон молчал. У-у-у! – завыл Саша и опять кинулся в ванную. Он блевал, думая о прекрасном. О Вике он думал. А потом немного и о себе: «Давай-давай. Так тебе и надо». Неудержимая, пятиминутная рвота продолжалась теперь не столько от похмелья, сколько на нервной почве, от того, что стыдно. Причем было стыдно так, что он даже не хотел, чтобы рвота прекратилась, хотел, чтобы она истерзала его вконец. Как наказание за все: и за покинутую Вику, и за всю последующую гнусность его жизни.
После этого приступа рвоты Саша с удивлением почувствовал, что теперь не так уж сильно хочется опохмелиться. То есть, хочется, конечно, но не смертельно. И можно даже попытаться обойтись без новой дозы. Трудно, но можно. Саша пошел и поставил чайник. Сахар еще оставался. «Попробуем хотя бы чайку, – предложил себе Саша. – Может, и самому удастся прервать запой». После чая Саша побежал в ванную и в третий, и в четвертый, и в седьмой раз. Он даже заставлял себя это делать. Из него уже ничего не выходило, одна желчь и вода, но он все пил чай и воду, засовывал пальцы в рот и проталкивал их ближе к нeбу, чтобы вновь возник рвотный спазм. Ему казалось, что вместе с рвотой из него выходят не просто алкогольные токсины, отравившие его организм, но заодно – и вся гадость, вся мерзость, накопленная в нем за последние месяцы жизни.
– Давай, давай. Рви, сволочь, блюй! – повторял он себе. – Очищайся, паскуда!
И когда часа через два в дверь позвонили соседи, чтобы вернуть ключи, Саша уже никуда не пошел. Но все еще сомневаясь в себе, попросил соседей снова запереть его и не выпускать до вечера. А лучше до завтрашнего утра. Соседи удивились, но, кажется, поняли: Саша решил проявить волю к победе. На следующий день соседи убедились, что у Саши «страшная» сила воли. Они открыли его дверь, и он предстал перед ними – бледным, измученным, но все же – человеком, а не пьяным мурлом.
– Не пойдешь? В магазин-то? – заботливо спросила соседка, передавая Саше ключи.
– Нет, не пойду, – слабым голосом, но твердо ответил Саша.
Все вернулось на круги своя. Год пролежавшая замшевая куртка, записка в ней – напоминание о Вике, и теперь уже не нужно было задаваться вопросом: почему именно в тот день, на 21-й день безрассудного, убийственного пьянства, судьба подбросила ему бумажку с Викиным адресом. А впрочем – какая судьба, какая там слепая удача, какая фортуна! И речи быть не может об этих терминах! Нет, все не так. Ему давали единственный (и уж на этот раз точно – последний) шанс – свернуть с колеи, построенной для него Виолеттой, соскочить с поезда, ведущего в никуда, и пересесть в другой, по пути которого будут красивые станции, хорошие люди и яркие, счастливые праздники.
Кто давал этот последний шанс? Саша не догадывался, он знал. Из-за его плеча растроганно улыбался ангел-хранитель. Его намеки, наконец, попали в цель. Слезы умиления блестели на чистом лице херувима. «Поезжай, Сашенька, поезжай в Ижевск, – беззвучно шептали его губы. – Проверь, ждут ли тебя там? Сделай шаг». Ангел, видимо, так уже устал возиться со своим непутевым клиентом, что ему очень хотелось отдохнуть, но миссия, предназначение – не позволяли.
Саше, как ни странно, удалось занять денег у последнего человека, к которому можно было обратиться по этому поводу – у журналюги Пети Кацнельсона. Того самого Пети, с которым он в незапамятные времена таким роковым для себя образом съездил на фестиваль в г. Севастополь.
– Что это у тебя с лицом? – только и спросил Петя, передавая деньги, и тут же забеспокоился, – а когда вернешь?
– Скоро, – скупо ответил Шурец.
Потом он поехал на вокзал и взял билет до Ижевска. На всякий случай туда и обратно. Обратный билет «на всякий случай» был датирован тем же самым днем приезда. Ну мало ли – переехала она или встретит у порога с ребенком на руках, а сзади муж выглядывает. Но был же у него верный ангел. Ангел-то знал, что творит и куда двигает! На то он и ангел!
Короче, билет обратно пришлось сдать. Она – что само по себе было невероятным, но прекрасным – все-таки ждала. Она ждала его весь год. Не имела от него никаких вестей и ждала. А в Ижевске, оказывается, звенела и не умирала ее надежда. И ее надежда и его.
Ну, а теперь два варианта окончания 1-й части главы. Первый – как в распоследней сопливой мелодраме. Итак. На руках у нее был ребенок. Она зарыдала и закрыла лицо руками. Нет нельзя. Так ребенок упадет. Но дальше, дальше… А ребенок был… – ну правильно, ребенок был. Маленький совсем, трехмесячный. Мальчик. И не трудно подсчитать, что… Ну, что ребенок в этот счастливый-пресчастливый день обрел отца. Вернулся папка. С дрейфующей льдины. Из космоса, из загранкомандировки, из геологической экспедиции. Вышла старенькая мама. Все плакали. А сын протянул ручонки к папкиному подбитому глазу… и Саше показалось, что он узнал папку. Папкины слезы брызнули на пеленки сына и… продолжать ли дальше этот мексикано-бразильско-колумбийский вариант?..
Но было иначе. Все было гораздо проще и короче, впрочем, ребенок, ну, хотя бы для того, чтобы удовлетворение читателя было полным и глубоким – не отменяется. Будем считать, что «хэппи-энд» вполне возможен и в нашей стране. Если, конечно, ангелы-хранители не вымрут или не улетят, отчаявшись.
Саша стоял перед ее квартирой с таким же разбитым лицом, с каким и уезжал отсюда год назад. Будто вчера уехал. Будто и не было этого года.
Потом он позвонил в дверь. Она была дома. И была еще красивее, чем тогда. И не спросила, «что у него с лицом?» Только прошептала: «Наконец-то». Вот и все…
* * *
Ну, а с Виолеттой все вышло не так-то просто. Сказать, что кухарке надоело управлять государством – тоже было бы слишком однобоко. Готовить еду, стряпать – она с детства это занятие ненавидела. Научиться готовить армянские блюда – никогда не было ее мечтой. А уж мытье посуды вызывало: 1) отвращение и 2) все крепнущее сомнение в том, что вот только к этому она в жизни и стремилась. Участие во всех его делах, а стало быть, и в управлении государством – было утешением слабым. Ей не нравилось управлять государством, она родилась для другого – чтобы получать от жизни все мыслимые и немыслимые удовольствия. Она-то как раз в отличие от Вики хотела брать. А здесь все время приходилось давать. Он использовал Вету, то есть, делал с ней все то, что она всю жизнь делала сама. Более того, угадав в ней некоторые необычайные, исключительные свойства, – он использовал и это, прибегая в некоторых случаях, как он говорил, – к ее редкой интуиции. А в темных и бездонных глазах его прыгали чертики. Врал! Врал, конечно! С его возможностями и жаждой знать все – он не мог не пронюхать – из какой семьи Вета явилась в свет и какими способностями обладает. Интуиция, как же! Не просто так он с ней советовался, не просто так она стала не только любовницей, но и помощницей Серого кардинала. И не без ее косвенного участия кое-кто был разорен, а кое-кто и погиб.
В общем, она приплыла. Окончательно и бесповоротно причалила к тому берегу, где вольным лагерем расположилась нечистая сила, где в веселом хороводе кружились Бабы-Яги, Кощеи, Соловьи-разбойники, просто разбойники, Кикиморы, упыри-вампиры-вурдалаки и прочая нечисть, словом – все паразиты отечественного и не только отечественного фольклора. Паразиты – не ругательство, а определение. Ведь, например, вампир кто по сути? И чем он отличается от комара или, там, пиявки? Только размерами и еще тем, что его убить сложнее. И вот еще важная мысль: это в древности на всю Русь полагался всего один Кощей, одна Баба-яга, один Соловей-разбойник и т. д. Теперь их стало много, они расплодились, и у каждого была своя территория. Иногда они не могли по-хорошему поделить территорию, и тогда дрались. Все они родились «чтоб сказку сделать былью», и им это вполне удалось. Не было на Руси добра-молодца, у кого силушки хватило бы всю погань разогнать, истребить идолище поганое, приструнить лихо одноглазое. Один богатырь проспал на печи все свое президентство, другой – портретами своими заполонил всю матушку-Русь. Одних разбойников посадил в клетки железные, а другие на их место встали, и разгулялась силушка нечистая, и посвист разбойничий раздавался над полями и лесами. «Черный по-ояс, что ж ты вьесся над моею головой». Ой, горюшко-то какое! Одолела беда-кручинушка вашего сказителя, Бояна-бовещего, и облился он сверху донизу слезами горькими, соплями мокрыми.
Однако, не будем отвлекаться на фольклорные упражнения и обратимся вновь к генеральной линии нашего повествования. Добавим только, что Завен среди всех прочих занимал главенствующее положение, «силушку» имел немереную, и посему нашей скромной «девушке-Яге» тягаться с ним, мериться силой было все равно, что разводить костер на бензоколонке, то есть, не только глупо, но и крайне опасно. Но свободолюбивая и гордая «девушка-Яга» не могла никак смириться с таким положением. Тягаться с ним она не собиралась, но убежать – вознамерилась. Просто убежать, исчезнуть – было невозможно: он догонит и вернет, сомнений быть не может, вернет отовсюду, где бы ни скрылась, хоть в Монако, хоть в Буркина-Фасо, для него это не вопрос. Тогда что? А вот что! Надо сделать так, чтобы он сам от нее отказался. А как? И коварная Виолетта решила сыграть на его любви. В том, что он по-своему, максимально возможно для себя, любил ее – Вета не сомневалась. При всей его силе любовь к ней была у него единственным слабым, уязвимым местом. И она придумала расправиться с проблемой радикально. Она ставила на кон последние деньги, других шансов не было. Инсценировать измену, даже рискуя жизнью – вот такую идею вынашивала Вета последние недели. Нужно было, чтобы он ее с кем-то застал, а дальше – будь, что будет.
Акция готовилась тщательно и осторожно. Кандидатура случайного любовника подыскивалась тоже аккуратно. Подставлять кого-нибудь из прежних знакомых ей не хотелось, а значит, – нужен новенький. Познакомиться с кем-то в любом месте, быстро заинтересовать, обольстить и привести домой – для нее не проблема. Проблема в другом: как избавиться от Завеновского соглядатая, которого он к ней приставил. Вета думала-думала и ничего, кроме известных шпионских штучек из киносаги про Штирлица, ей в голову так и не приходило. Однако, все эти трюки наверняка известны и Завеновскому шпику, его штат состоял из отборных людей. Тогда что же, что? Елкина мать! Ведь должна же быть какая-то лазейка, – терзалась Вета поисками выхода.
Выход лежал на поверхности. Он был описан еще в знаменитой книге Александра Дюма-отца, в той ее части, где миледи соблазнила офицера, приставленного к ней Бэкингэмом, и вырвалась на свободу. А ведь парень был поначалу абсолютно надежным, преданным герцогу человеком. С тех пор этот нехитрый прием многократно использовался многими женщинами разных стран. Почему бы и ей, с ее-то способностями, не воспользоваться тем же. И Виолетта всего за пару дней, включив в дело всего лишь часть своего смертоносного обаяния, покорила дисциплинированного Завеновского солдата. Почему «смертоносного»? Да потому, что для него вся история и взаправду оказалась смертоносной. Вася, так звали верного слугу Завена, совсем потерял голову. Только раз возразил он, когда Вета повела его в спальню:
– Нельзя, ты что! – А Вета уже раздевала его и себя, демонстрируя страшную лихорадку страсти. – Ты с ума сошла! Сейчас ведь шеф придет! – бормотал он дрожащими губами, помогая ей тем не менее себя раздевать. А Вете только того и нужно было, чтобы «шеф» пришел побыстрее – ну, минут через пять, – и застал, застукал, застыл…
– Перестань, Васенька, не думай об этом. Я хочу тебя, ты тоже хочешь, я знаю. Не думай о нем! Он ничего не может в постели. Мы с ним уже давно этого не делаем. А ты такой сильный, такой красивый…
Она целовала его грудь, живот, опускаясь все ниже. Сладострастный, хриплый клекот из гортани этой Клеопатры, из-за которой мужчины шли на казнь, заставил бедного Васю совершенно забыть об опасности, потерять бдительность. Но даже радости обладания ею Васе так и не довелось испытать.
Едва прилегли они на ложе, которое она разделяла с Завеном (что должно было по сценарию еще более обидеть его), как со стороны дверей спальни раздался голос. Спокойный такой, равнодушный даже.
– Я не очень помешал? – Так же равнодушно Завен обратился к разом позеленевшему Васе: – Одевайся и выходи. Там тебя уже ждут.
Вася, понимая, что именно его ждет, натягивал брюки, не попадая в штанину, и пытался предотвратить неизбежное:
– Я… я… шеф, я не хотел… Она…
– Не стоит, Вася, – мягко улыбаясь, сказал Завен. – Ты же знаешь, у нас за все – платят. С ней я без тебя поговорю, иди.
Убитый, еще до того, как убили, Вася покинул помещение.
– Ну-с, – все так же улыбаясь, обратился Завен к любимой женщине. – С тобой я поступлю иначе.
– Как? – Виолетту бил озноб – как он поступит? Как с Васей или еще хуже? А что может быть хуже? – но она это не говорила, она думала. Она молчала и почти вызывающе глядела на него.
– Значит, не вышло у нас с тобой, – раздумчиво продолжал Завен. – Что же мне с тобой делать? А? Не посоветуешь? – Она молчала. – А вот как я поступлю. Я не убью тебя, не бойся.
Вета незаметно вздохнула. Облегченно вздохнула. Но Завен все равно заметил:
– Только будет еще хуже, – размышлял он вслух. – Хуже, чем убить.
«Пытать будет, что ли?» – с понятным ужасом подумала Вета. Но Завен будто читал все ее мысли.
– И мучить тебя никто не будет. Хотя, наверное, стоило бы, а? Чуть-чуть? Больно тебе сделать. Чтобы больно тебе стало. Вот как мне сейчас. Здесь, – он постучал себя пальцем по груди в области сердца, и синий камень на его кольце зловеще сверкнул. – Но не буду. Не буду применять насилие. Не люблю. Иногда приходится, но не люблю. – Он говорил медленно и как-то серо, без интонаций, отчего было еще страшнее. – Ты помнишь картину Сурикова «Меньшиков в Березове»? Не помнишь? – Она молчала. – Ну, неважно, я напомню. Вот тебе краткое содержание картины: бывшего фаворита Петра I сослали. Сослали в Березово. Чтоб даже носа оттуда не показывал. Вот так будет и с тобой. Я тебя запру. В одном моем доме. В глухом лесу. Дремучем, – тут он усмехнулся чему-то своему. Какая-то мысль позабавила его, несмотря на то, что он тер себе грудь там, где сердце, и морщился от боли.
– И будешь ты там жить, пока я не умру. Или пока ты не умрешь. Тебя будут охранять. Двоих для тебя хватит. А для охраны я выберу… двух педерастов. И с ними ты уже ничего не сделаешь, не сможешь. Более того, они будут тебя… ну, не ненавидеть, конечно, но что ты будешь им противна – это точно. И больше ты никого, понимаешь – никого, как сегодня Васю – не погубишь. Ты проведешь свои лучшие годы взаперти – такое вот мое будет тебе наказание. Бежать – не сможешь, я постараюсь оградить тебя от этой попытки. В гости к тебе смогут придти… ну лет через 20-30, если к тому времени найдется – кому придти.
Вета сидела, не шелохнувшись и просто сходила с ума от картины будущего, которую он ей нарисовал. Она сейчас ненавидела вчерашнего возлюбленного всей душой.
– Ты не сверкай глазами, – сказал Завен. – Я ведь знаю все про твои колдовские дела. Про твои ведьмины таланты. Знаю и то, что, если ты сильно пожелаешь кому-то зла – так и выйдет. Но… не советую – ни сейчас, ни позже. Потому что, если со мной что-нибудь случится, таинственная болезнь там или что-то еще – тебя немедленно ликвидируют. Выпустят тебя только в том случае, если я умру без твоего участия. Другими словами, – не по неизвестной какой-то причине и не от какого-нибудь внезапного происшествия (тогда, значит, без тебя не обошлось) – а по понятной всем причине. Но, может, тебе и выходить-то не захочется. Тебе, может, будет все нравиться. Комфорт, еда, питье… уколы. Да-да, уколы. Ты привыкнешь, тебе будет хорошо.
– Лучше бы сразу убил, – презрительно и гордо Виолетта глядела на своего экзекутора.
– Не могу, – с неожиданной грустью сказал Завен. – Ты знаешь – не могу. И хотел бы – да не могу. Потому что… – он помолчал. – Наверное, потому, что люблю, как это для меня ни странно. Все равно люблю. Что поделаешь, – развел он руками. Затем улыбнулся своей неповторимой улыбкой и пошел к дверям.
– Стой! – крикнула Виолетта. – Тогда… ну, если так… ты будешь меня навещать?
– Не-ет! – он обернулся и покачал головой. – А знаешь почему? – Потом он помолчал еще, подумал и сказал то, что Виолетта знала и сама. – Ты – слабое звено в моей цепи. А я ее ковал много лет. Нажав на слабое звено, можно порвать всю цепь. Когда я с тобой, я уязвим. И ты, к моему большому сожалению, это знаешь. А у меня действительно большое сожаление, поверь. Мне будет плохо без тебя. Долго будет плохо. Но постараюсь пережить, что делать… – И тут он вновь грустно улыбнулся и прибавил. (Сам. Без вальяжных авторских измышлений по поводу аналогий из сказок. Сам! Лично сказал.) – Мы ведь с тобой, Вета, одного поля ягоды. Мы стоим друг друга, верно? Из одного леса мы, из одних джунглей, из одной сказки. Ты, допустим, – Баба-Яга. А я – Кощей, но не совсем бессмертный, как, впрочем, и тот, из сказки. А смерть Кощея где? В игле, которая спрятана в яйце, а яйцо – в утке. Вот ты и есть моя игла, и ее нужно надежно спрятать. Теперь поняла?..
И Завен, проявив таким образом недюжинный талант в художественной трактовке происходящего, уже окончательно отвернулся и пошел.
«Обернись. Повернись ко мне! Сейчас же!» – мысленно кричала в его спину Виолетта, призвав в этот момент на помощь все свои телепатические силы, весь свой колдовской потенциал. Внушение, казалось, подействовало: Завен вздрогнул, привстал на секунду и поднял руку. Но затем, так и не обернувшись, он, будто преодолевая порыв сильного встречного ветра, сделал последний шаг к выходу. И только перед тем, как совсем уже скрыться за дверями, все так же спиной к ней, он позволил себе естественный, уже свободный жест. Поднятой рукой он медленно качнул влево-вправо. Помахал ей напоследок. Кольцо прощально блеснуло на его правой руке.
Эпилог
Есть книги, которые читают, и те, которые не читают; есть такие, о каких говорят – «это надо прочесть»; есть те, которые перечитывают, а также те, которые перечитывают много раз. Судьбу этой мне трудно предугадать. Но мечта есть, есть мечта, у кого ж ее нет… Вернее – надежда, ведь и мне не запрещено ее иметь. Как там сочинил поэт Саша – «но звенела надежда». Так вот, ваш автор тоже имеет право на ее, надежды, негромкий звон. А надежда у него такая: чтобы кто-нибудь, закрывая эту книжку, вздохнул и сказал: «Жалко, что кончилась. Было не скучно». И уж совсем дерзкая мечта, – чтобы нашел в ней кое-что полезное для себя. В конце-то концов, можно же помечтать, написав все, дойдя до эпилога, до последних страниц! Впрочем, до самой последней страницы – еще порядочно, эпилог-то – большой.
Итак, пришло время напомнить, что действие этого повествования относится к 90-м годам ХХ века и началу следующего – XXI-го. Время же действия в эпилоге – не столь отдаленное будущее. Ну, скажем, 2033 год.
Человечество, как ни странно, еще существует. Глобальное потепление, парниковый эффект, отравленная атмосфера, войны за нефть и все прочие «милые» последствия технического прогресса пока еще не привели к апокалипсису, но по-прежнему его обещали, и с каждым годом все настойчивее. Радостное умение человечества бесстрашно гадить себе на голову – сильно удивляло и удручало Создателя, но он, видно, все еще надеялся на то, что «венец творения» образумится, спохватится. Он давал этой гнилой цивилизации еще один шанс придти в себя и приостановить саморазрушение, поэтому огромный астероид, подлетавший к Земле, в очередной раз промазал. Кометы тоже пролетели мимо и унеслись на следующий круг. Природа возмущалась, но пока терпела. Окурки в море все еще бросали, но стихи снова начали не только писать, но и читать, что и давало некоторую надежду на исправление. Можно, конечно, совместить: и окурки бросать, и стихи читать, так многие и делают, однако замечено, что чем больше читаешь, тем меньше бросаешь, отчего-то становится стыдно. Поэтами стали понемногу интересоваться не только малохольные интеллигенты, но и другие, и даже телевидение.
И, стало быть, не так уж удивительно, что одним из известных, популярных телеведущих вот уже добрый десяток лет был поэт Александр Юрьевич Велихов со своей авторской программой «Не только интернет». Задыхаться в мегаполисе летом, в климате, несколько странном для средней полосы России, когда лето превращалось во влажное тропическое пекло, – было решительно невозможно. А интенсивный режим работы Александра Юрьевича тоже не способствовал здоровью. Возникли проблемы и с сердцем, и с давлением, и с ногами, и врачи настоятельно рекомендовали любимому телеведущему почаще бывать за городом, ходить, заставлять себя двигаться, грибы собирать и прочее.
Вот и сейчас он приехал собирать грибы в незнакомое место. Он всегда выбирал для этой цели что-нибудь новенькое, расширяющее круг знакомства с ближним Подмосковьем. Александр Юрьевич дисциплинированно соблюдал рекомендации врачей, потому и поехал в тот день импровизировать с природой в очередное новое место. Он любил ездить не на своей машине, а так, по старинке – на электричке с любого вокзала, с лукошком, в панаме и темных очках, чтобы никто не узнал. Проедет на электричке с час, смотрит в окно, если лес глянется, то он и выйдет на следующей остановке. Грибы были ни при чем, так он отдыхал и размышлял. В лесу, один! – Хорошо!
Старость, в ее цифровом значении, подползла, как всегда и у всех – незаметно. Впрочем, Александр Юрьевич относился к возрасту с аристократическим пренебрежением, справедливо полагая, что он и так хорош. Он видел, он знал, что им живо интересуются женщины разных возрастов от 18 и далее, вплоть до маразма, и объяснить их интерес только лишь его популярностью – было бы неверно. Он действительно нравился женщинам, сам по себе, а с годами даже более, чем прежде. Александр Юрьевич мало изменился с той поры, когда его звали Сашей или даже Шурцом. Он был красив, строен и импозантен, а кроме того производил впечатление человека надежного, умного, доброго и серьезного, да еще и обладающего незаурядным чувством юмора, и не только производил впечатление, а, собственно, таким и был! Мечта любой женщины, согласитесь. А еще он сохранил в себе этакое мальчишество, способность к озорству, а также своеобразную иронию по отношению ко всем особам противоположного пола, что приводило их в совершеннейший экстаз. Их внимание, переходящее подчас в тяжелое, напористое кокетство, Сашу (а мы некоторое время будем продолжать звать его, как прежде, хотя бы потому, что привыкли), так стало быть, Сашу – забавляло и только.
Но кое-что все-таки сильно изменилось в нем с того времени. Хроническая влюбчивость его куда-то исчезла, испарилась совсем, и он уже добрых три десятка лет был верен своей жене Виктории, Вике из Ижевска, которой сейчас хоть и было около 50-ти, но своей удивительной привлекательности она так и не потеряла. С каждым годом Саша к своему немалому удивлению влюблялся в жену все больше. Что ценил все больше – это понятно, там было за что, но что открывал в ней с годами все новые черты, новые грани красоты – вот что было удивительно, вот что бывший Шурец от себя никак не ожидал. У них было два сына, старший был уже совсем взрослым и сам недавно женился, а младшему недавно исполнилось 11 лет. Собственный пенсионный возраст Сашу, как уже было сказано, не беспокоил, даже с учетом того, что правительство недавно определило для пенсионеров – «сроки дожития», в течение которых о них, пенсионерах, обязаны заботиться. «И кто же это у них в правительстве слова такие придумал – «сроки дожития»? – размышлял Саша, гуляя по лесу, – в глаза бы посмотреть этому человеку. Надо будет в следующей программе про это поговорить».
Саша шел все дальше в лес, формально шевеля палкой под кустиками и упуская из виду грибы, которые прямо-таки бросались в глаза и просились в его корзинку. Корзинка была почти пуста. Сашу, как обычно, в такого рода прогулках посещали умные мысли и неожиданные ассоциации. Так и теперь (наверное, в связи с пенсионной темой) Саше припомнилось, как в ведомственной поликлинике Союза театральных деятелей он случайно подслушал разговор вахтера и гардеробщицы. Александр Юрьевич был приписан именно к этой поликлинике. Хоть он и не актер и не режиссер, но все же имел прямо отношение к театру. Из-под его пера вышло немало стихов, украсивших собою московские музыкальные спектакли, мода на которые все еще не иссякла. Киномюзиклы тоже не обходились без участия поэта Велихова, но театральная поликлиника была ближе к дому, поэтому Саша стал членом СТД и лечился в их учреждении.
В тот вечер, когда Александр Юрьевич явился на прием к кардиологу, вахтер с гардеробщицей «с высоты своего положения» обсуждали, как выглядят артисты, которые приходят сюда лечиться. Ну, как они могут выглядеть? Плохо, разумеется, иначе бы они сюда не ходили. Но ни намека на сочувствие не было в разговоре двух собеседников. Напротив, с видимым удовольствием охранник, бравый такой старикан в форме, говорил, что по телевизору они совсем другие, что он их тут не узнает: старые какие-то, больные. Гардеробщица довольно поддакивала. Высказавшись с необоснованным презрением по поводу всех этих народных артистов, охранник остановился перед зеркалом, молодцевато покрутил тощей шейкой, подмигнул гардеробщице, затем подскочил к ней этаким петушком, ущипнул за плечо и удало воскликнул:
– А мы-то с тобой, Симка, все еще ничего, а? – И сам себе ответил: – ничего, ничего-о-о!
Ассоциации нестройным роем перемещались в Сашином сознании, но он обожал эти моменты, они толкали вперед фантазию, гнали вскачь разные творческие идеи. Эпизод в гардеробе повлек за собой другое воспоминание тридцатилетней давности, но в чем-то главном схожее с этим. На Пушкинской площади, в сквере, возле летней пивной на спинке скамьи, как замызганные курицы на насесте, нахохлившись, сидели два явных бомжа. Спутанные, грязные волосы, случайная, видно, где-то на помойке подобранная одежда, ботинки из того же источника, запах, в радиусе пяти метров отпугивающий всех, кто случайно приблизился; такой запах, что знаменитый вонючка скунс удалился бы в кусты посрамленным, стыдливо поняв, что его популярность в этой области незаслуженна, что есть существа на земле, которые умеют вонять лучше. Лицо одного из бомжей было похоже на заднюю стенку автобуса, который долго ехал по грязным дорогам Тюменской области во время дождя. Лицо другого напоминало лицо плохого боксера-профессионала на излете карьеры, о котором перед поединком объявляли, что у него за плечами 86 боев и 70 поражений нокаутом. Александр Юрьевич с удовольствием громоздил одну на другую все сравнения и метафоры, возникающие в голове, сам себе улыбался, по-прежнему не обращая внимания на грибы, и шел все дальше в лесную чащу. Тропинка становилась все уже, но он этого не замечал. Он размышлял.
И почему это люди на садовых скамейках сидели тогда преимущественно на спинках, поставив ноги на сиденья? Так же неудобно. Ну ладно, допустим, сиденья уже все равно грязные и кто-то боялся запачкать брюки, джинсы, штаны. Но если даже чистые сиденья (Саша проверял), все равно сидят на спинках. И потом, тем двум бомжам – чего бояться-то? Запачкаться, что ли? Запачкаться можно было только об них самих. И все равно их ноги в рваных ботах покоились на сиденье. Они тогда не вызвали в Саше обычного в таких случаях сочувствия. И лишь по одной причине. Рядом со скамейкой, на спинке которой они примостились, стоял мусорный ящик, а в нем рылась в поисках бутылок или другого какого вторсырья – несчастная старуха, очень худая, но опрятно одетая. Оба бомжа с одинаковым выражением лиц смотрели на старуху. Они смотрели на нее с высокомерием! Оно в их, так сказать, общественном статусе выглядело уморительным. «Ну надо же, как опустилась!» – можно было прочесть на их изжеванных мордах. Снобизм бомжей по отношению к нищей старухе, стоящей, по их мнению, еще ниже на ступеньках социальной лестницы… Жуть какая-то! Но и Москва тогда была… вспомнить страшновато!
Мысли опять вернулись к поликлинике. Те гардеробщица и охранник ведь точно такие же, природа их высокомерия по отношению к больным знаменитостям была той же. Как и бомжей, только одно возвышало их в собственных глазах, что кому-то хуже, чем им. Смешно было, когда перед процедурным кабинетом он встретил одну из своих первых любовей, еще до Виолетты. О самой Виолетте, надо сказать, Александр Юрьевич теперь вообще почти не вспоминал, а если и вспоминал, то как о детской скарлатине, которая налетела и прошла. А сейчас вдруг вспомнил, да и то только в связи с тем, что это увлечение было как раз перед Виолеттой, перед его поездкой в Севастополь. Несколько лет не вспоминал, а сейчас вдруг… (Да вовсе не вдруг, господа, мы вскоре это увидим!)
Ненадолго обратившись к Виолетте, в том смысле, что интересно было бы узнать, жива ли она, где и что делает, – Сашины мысли вновь перескочили к той встрече с бывшей возлюбленной в поликлинике. Ну, она-то узнала его сразу – время от времени он ведь напоминал о себе по телевизору, а Саша узнал с трудом, после того, как она напомнила. Комизм ситуации заключался в том, что они оба пришли на укол. Причем, она выходила из кабинета, а Саша входил. Вот тут-то они и встретились.
– О, привет, – сказала она, будто они расстались только вчера. – Ты на укол?
– Да.
– Внутримышечно?
– Да, – застенчиво признался Александр Юрьевич.
– И мне внутримышечно, – усмехнулась бывшая подруга.
После медицинской преамбулы состоялся короткий разговор с элементами типа «а помнишь?» или «сколько лет, сколько зим». Но это не важно. Важно, грустно, но и комично было то, что встретились на уколах две старые жопы, которые когда-то воспринимались их хозяевами исключительно в плане эротическом, возбуждающем. Ну надо же было встретиться так!
Вспоминая про Виолетту и про бывшую подругу, Саша все больше углублялся в лес. Наверное, из-за Виолетты и связанного с ней драматического периода в своей жизни Саше захотелось переключиться на что-то противоположное, хорошее. Он стал с нежностью вспоминать о жене Вике. Он думал когда-то, что Виолетта для него – своего рода Мэрилин Монро, а Вика – Одри Хэпберн. Яркая, чувственная красота одной все же уступила в его жизни обаянию, чистоте и верности другой. Хэпберн в лице Виктории все ж таки победила в конечном итоге. Победила по праву…
Ну, да ладно, что там Виолетта, ужасная, роковая страница жизни. Лучше о сыне. О младшем. Ребенок с раннего детства обещал вырасти в поэта, что вызывало в Саше законную отцовскую гордость. Он совсем еще маленьким выдавал такое, что иным взрослым никогда в голову не придет. Талантливый ребенок, извалявшись однажды в снегу, например, сказал: «Я весь взъерошенный сосульками». Образное мышление у парня, это ясно. Или вот, в море купался, – гордо вспоминал счастливый отец, ему говорят: «Выходи скорей из воды, замерз весь, губы синие». А он в ответ: «У меня губы синие потому, что море синее». Логично же! Или, вот, говорил: «Я кудрявый мальчик. Вот у меня кудрик». Не кудряшка, заметьте, а чудный неологизм – «кудрик». Ведь куда лучше, чем кудряшка или даже локон! А вот еще, чудесное: «Зачем ты надел на голову коробку?» – «Я надел на голову коробку, чтоб мне веселее было». Ведь нечего возразить, действительно с коробкой на голове – намного веселее. А вот эта прелесть: «У волшебниц нет пистолетов, а есть волшебные палки».
Когда стал чуть постарше, удочку называл рыболовкой, а в зоопарке возле клетки с нутрией в 11 часов утра высказался: «Утренняя нутрия». Поэзия! Звукопись! Мегафон в руках у милиционера назвал «говорялкой». Смешно ведь, правда? Поссорились как-то с Викой, не всерьез, конечно, но разговаривали на повышенных тонах. И тут мальчик разумно вмешался. Сказал: «Вам не кричать друг на друга надо, а меня растить». Александр Юрьевич все вспоминал с умилением: «Когда я, вконец измученный, пришел с эфира, – улыбался он своим мыслям, – он что сказал? Он сказал: «Папа сегодня, как тушеная муха». И утром: «Папа, мне приснился кошмарный сон! – Какой? – Как будто у моей невесты нога подвернулась». Или чего стоит, к примеру, такое: «едрена вождь», или «не буду яйцо есть, противно. Желток меня возмущает». А город Владивосток назвал – «Вроде Восток». Но особенно вот это: «Папа, ты не переставай спортом заниматься. Мускулы будут сильнее и сильнее, ты все моложе и моложе, и вообще, можешь добиться того, что станешь мальчишкой – выйдешь в люди». А на прогулке: «Папа, а такс кто-нибудь покупает? Они такие низенькие, такие одинокие». И попозже: «Я знаю, где тут можно писать, чтобы никто не видел. Есть места, где страшное одиночество. Я там одно дерево спас от засухи, когда пописал». А «у Бабы-Яги третий глаз на подзатыльнике». Саша не все афоризмы сына помнил, и теперь жалел, что не записывал в свое время.
Однако умилению по поводу сына, которого тоже назвали Сашей по просьбе Вики, умилению по поводу того, что сын пошел в него, обладая завидным образным мышлением, да и вообще – всему этому нежному семейному сиропу пришел конец.
Александр Юрьевич огляделся. И понял, что заблудился. Испуга не было пока. Лес был весь белый от берез. Было свежо и пусто. Как-то незаметно тропинка кончилась. Куда идти, непонятно. Саша, мало того, что обладал, вернее, не обладал умением ориентироваться на местности, – у него и компаса даже не было. До этого он никогда так далеко не забредал и всегда знал, куда возвращаться. Сейчас не знал даже примерно. Он забеспокоился и пошел, как ему казалось, назад, но через полчаса понял, что зашел совсем не туда, а куда-то в сторону. Тревога росла, даже «ау» крикнуть было некому.
И тут ему показалось, что впереди, за деревьями, он видит дом, очертания какого-то строения. Саша бросился туда, ломая кусты и ветки. Перед ним оказалась небольшая поляна, а за ней металлический забор с воротами. А на воротах табличка: «Частное владение». За забором – красивый газон, сад, в глубине – дом, за ним – край какого-то водоема, может быть, искусственного пруда. И никого, ни одной живой души не видать. Саша не без иронии подумал о последнем афоризме сына, который он припомнил – про Бабу-ягу. Ну как же, как же, естественно, Баба-Яга. В избушке на курьих ножках. Только не избушка. Настоящая вилла посреди глухого, дремучего леса. Странно.
– Эй, хозяева! – крикнул Саша. Есть тут кто-нибудь? – Никто не отозвался. – Избушка, избушка, – пошутил он про себя, однако не заметил, как пробормотал это вслух, – повернись к лесу задом, а ко мне передом!
И вдруг ворота медленно, с глухим шумом стали раздвигаться.
«Что за чертовщина!» – подумал Александр Юрьевич, – пароль у них, что ли такой?»
Он осторожно вошел. Ворота за ним так же медленно закрылись. Никто не вышел навстречу. Ничего не оставалось, как пойти в дом. Он подошел к солидной массивной двери с бронзовой ручкой и в нерешительности остановился. Из-за двери раздался громкий хохот, женский, но басовитый, а затем голос:
– Входи, входи, не стесняйся. Чего уж там. Сам пришел, теперь входи.
Саша нажал ручку и вошел.
Все то время, пока он шел через поляну к забору, потом по двору, подходил к двери и топтался там – за ним следил глазок видеокамеры, и не одной. А внутри дома, увидев сначала, кто стоит у ворот, пожилая женщина со следами былой красоты на лице неспешно подошла к зеркалу и с отвращением посмотрела на себя. «Да, изнурительная борьба со старостью, в которой заранее известно, кто одержит победу», – подумала она. Сейчас ее внешность могла бы вызвать у кого-то только сочувствие , а у нее самой – злость и депрессию. На щеке – бородавка с волосками, а бывший когда-то легкий девичий пушок на прелестном личике постепенно превратился в заметные усики и вполне мужскую темную щетинку. Ладно, есть же эпиляторы, но это потом… А чтоб побыстрее – бритва «Филипс». Ничего, еще не вечер! Еще погуляем! Еще потанцуем на балу! Будет сегодня у меня бал, да какой! Она быстро пошла в ванную приводить лицо в порядок. А по пути крикнула уже вошедшему Саше:
– Эй, путник! Располагайся. Бар видишь? Наливай себе, что хочешь. Я буду через 5 минут.
Саша оглядел комнату, точнее, холл. Белая мебель, белые кожаные диваны, цветы в вазонах, бар со стойкой. Он подошел, но из боковой двери вышел спортивный такой парень и несколько женственно произнес:
– Присаживайтесь, я вас обслужу.
Саша в растерянности сел.
– Водка, виски, коньяк? – осведомился спортивный парень с женскими манерами.
– Нет, что-нибудь полегче, если можно, – отозвался Саша, все оглядываясь.
– Пиво, чай, кофе, – продолжал парень оглашать меню.
– Холодный чай, если можно.
– Можно, все можно. С лимоном? Сахар?
– Да… То есть, нет, только с лимоном.
Парень отошел за стойку бара.
– А где я нахожусь, чей это дом? – спросил Саша, впрочем, без надежды на ответ, что оказалось правильным.
– Частное владение, – голос сотрудника местного сервиса стал заметно суше.
– А чье? – продолжал настаивать Саша.
Парень промолчал, давая понять Александру Юрьевичу, что лимит его вопросов исчерпан.
– Мое, – раздался голос с лестницы, ведущей на второй этаж, и вслед за голосом появилась… Элизабет Тэйлор, которую Александру Юрьевичу в молодости доводилось видеть в телевизионных хрониках из Голливуда. Старая уже Элизабет Тэйлор, чей возраст уже не могли скрыть ни густой макияж, ни пластические операции. Разумеется, это была не знаменитая американская кинозвезда, но очень-очень похожая пожилая дама. Черные волосы и брови – это ладно, ничего необычного, но черные бездонные колодцы глаз словно втягивали в себя, тянули с неодолимой силой. Опять-таки, черное, свободное платье, скрывающее полноту, серьги из черного агата, а также неярко выраженные черные усики – еще более усиливали впечатление мрачное и даже жутковатое. Женщина черная и одинокая, как заброшенная угольная шахта, стояла перед ним на лестнице. Что она одинока, Саша понял как-то сразу. И то, что она приветливо улыбалась, никак не могло изменить ощущения чего-то инфернального и опасного, не могло унять озноба, внезапно пробежавшего по спине…
Еще бы! Дремучий лес, этот таинственный дом, ворота, открывшиеся на призыв Иванушки-дурачка: «Избушка, встань ко мне передом, а к лесу задом», затем безлюдье во дворе, женоподобный охранник-официант, черт его разберет – кто, и наконец хозяйка, от которой повеяло могильным холодом – все это кого хочешь может свести с ума, не так ли? И то, что Александра Юрьевича посетил озноб в подобных обстоятельствах – вполне объяснимо. «Элизабет» тем временем продолжала улыбаться, будто наслаждаясь Сашиной оторопью.
– Поставь все на столик, – обратилась она к охраннику-прислуге, – и уходи. Да!.. Мне виски, как всегда. Водички еще и орешки поставь, не забудь. Потом свободен. Ну что, путник, испугался? – она будто угадала ход Сашиных мыслей. – И правильно испугался. Ты сиди, сиди, потом познакомимся.
Она присела напротив Саши в кресло у журнального столика. Парень подошел с подносом, все переставил на столик и удалился. Саша заметил, что виски было налито в два бокала.
– Ворота открылись на обращение «избушка», да? Ну, ты верно угадал. Это – она обвела рукой комфортное пространство вокруг себя, – это моя избушка. Правда, курьих ножек нет, но и так ничего, да? А я, стало быть, Баба-Яга, – она подала Саше руку.
– Александр Юрьевич, – в свою очередь представился он и, привстав, пожал руку таинственной женщины.
– Ну, значит, Саша, – сказала она. – Давай, Саша, выпьем за знакомство.
Саша ослушаться не посмел и пригубил. Потом поставил бокал на столик и, пытаясь разрядить обстановку, спросил:
– Ну, а серьезно, вас как звать-то?
– Да зови Ягой, не ошибешься. А как звать-величать, – перешла она вдруг на тон сказительницы, – я тебе попозже поведаю. Когда познакомимся поближе, – она намекающе глянула на Сашу, и от этого намека мурашки на его коже стали значительно крупнее. – Да не страшись ты так, добрый молодец, – сказала женщина, от чьего внимания не укрылось состояние гостя, затем неспешно отпила из своего бокала. – Я тебя не съем. А могла бы. Как там в сказочке-то: садись, Иванушка, на лопату, и в печку. Ну, печки, положим, у меня нет, только камин, – она показала в глубину комнаты, где бесшумно появившийся второй охранник и вправду поджигал в этот момент дрова в камине. – Однако местечко, где сжигают разных добрых и недобрых молодцев, у меня имеется. Вернее, не у меня, у дружка моего бывшего, закадычного, ну ты о нем слыхивал, Сашенька, Кощеем его зовут. Вот он-то эту избушку и выстроил. И у него, злодейчика, моего друг-приятеля, тут свой домашний крематорий был. Знаешь, такой в виде баньки, только металл под деревянными полками, настилом, да вагонкой. Придут к нему, бывало, гости дорогие, которые в делах ему препятствуют, – охранник у камина насторожился и поднял голову. – Да успокойся ты, – заметила его движение женщина, – я же тут сказочку рассказываю, а ты чего подумал? Ну ладно, – продолжала она, – выпьют они с гостями, посидят, а потом – в баньку. У него их две там были. Одна нормальная, финская, а другая – крематорий. Зайдут гости туда, дверь снаружи закроется, и все там заполыхает. Ну, а потом пепел весь выметут, и по новой полочки отстроят и вагонкой стеночки обошьют. Вот и тебя, Иванушку, тоже можно бы так. Только давно ту баньку не топили, Кощея тут, почитай, лет 30 не было, да и снесли ее уже наверное, баньку-то эту. Я давно не смотрела. Снесли баньку-то, Володенька? – обратилась она к парню у камина. – Да он и не знает, он в те годы и не родился еще, верно, Володенька? Тут до него другие были.
– Болтаешь много, – неожиданно грубо для простой прислуги отозвался тот.
– Ой, болтаю! Много я, старушка-вострушка, болтаю. Так ить, с кем мне еще поболтать-то? С вами, хлопцами-мужеложцами, так что ли?
– Заткнись, – угрожающе выпрямился парень.
– А ты не грозись мне, голубой голубок. Вам меня трогать и обижать Кощей не велел. А то ить уволят, – дурашливо продолжала она, – и будешь потом в офисе у хозяина мусор выносить. Потеряешь работу на свежем воздухе. Да я и сама силушку еще не потеряла. Может, хочешь попробовать? – повысила она голос на парня. – Я ведь и с места не сдвинусь, а ты там окаменеешь, да в камин ненароком упадешь. Так что расслабься, мой хороший, и дрова подкидывай.
Грозная стать появилась во всем ее облике, она вдруг перестала изображать дурашливую сказительницу и вновь обратилась к Саше уже нормально:
– Да пошутила я, не волнуйтесь. Не было никакой баньки. А в Бабу-Ягу поиграть в одиночестве, отчего бы и не поиграть, да, Саш? Не Василису же премудрую мне тут изображать, верно? Была бы мудрой, не доживала бы тут оставшиеся годы. Хотя, чего жаловаться, сама виновата. Давайте-ка еще выпьем, Александр Юрьевич, за нашу с вами молодость, – и она пристально, очень пристально посмотрела ему прямо в глаза.
Саша завороженно смотрел на нее, и тут невероятная догадка заклубилась в его расширившихся зрачках.
– Да-да, именно за нашу с вами, Александр Юрьевич, молодость. Общую. Мы ведь давненько знакомы, Александр Юрьевич, не припоминаете?