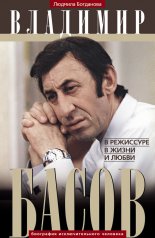Разлюбил – будешь наказан! Крицкая Ирина

…Так быстро стемнело… Ночь пришла, пока мы целовались. Южная, бархатная, вся увешанная золотишком, как восточная бабенка. Внизу на аллейке горели фонари. По первому ряду семенил Полуянов. Заметил нас. Поднял ко мне большие грустные глаза.
Нет, не в мою честь была его печаль. В тот вечер мэтр остался один. И все пытался вспомнить свой фильм, тот самый, первый и единственный, о котором мечтал. Он его не снял. А попробуй сними, шансов не было. Да и черт бы с ним, с фильмом. Но стало обидно – ведь забыл, забыл свой фильм! Сначала отказался от него, своевременно, благоразумно, потом закрутился, забегался, а теперь даже вспомнить не мог, «про что оно там было?». «И хорошо, – примерно так успокаивал себя Полуянов, – все сложилось удачно… Жалеть не о чем».
Да, все сложилось удачно. Если не считать этого неприятного ощущения – чего-то не хватает. Эта хроническая неудовлетворенность портила ему настроение. В тот вечер, в августе, на море, мэтр почувствовал себя стареющим вампиром. «Эх, – он подумал, – сколько ни пей молодую кровь…»
Антон взглянул на него сверху вниз. Глаза у него вспыхнули не по-детски. Даже в темноте я заметила азартную хищную усмешку. Тщеславный мальчишка до ужаса. Обскакал дяденьку и радуется. И опять меня целовать, целовать, целовать…
Я подставляю ему губы и думаю: «Все! Больше ни с кем никогда целоваться не буду. Только с ним».
20. Драные джинсы
Только с ним, только с ним… Да! Думала, никогда его не забуду, но… забывала. Ненадолго, на время. А потому что! Когда выпрыгиваешь из вагона под дождь и ветер – как-то уже не верится, что еще вчера ты не могла наступить на раскаленный песок.
Холод собачий. Всего лишь тридцатое августа, всего лишь тысяча километров к северу, а уже ветрище и дождь.
В нашем доме стоял глупый женский ржач. В гости приехала Машка, московская теть Маша. Та самая, которую подбросили моей бабушке во время войны.
Машка – женщина-ремонт, ненасытное благоустройство. Она уже успела оклеить нашу прихожую клеенкой с лебедями. С «лебядями», она шутила. Сама перла рулон из Москвы, из своего военторга при Генштабе сухопутных войск.
– Как мне стыдно! – Мама пытается разжечь печку. – Как стыдно! До чего я все с твоим отцом запустила.
Мы с тетей обиваем входную дверь синим дерматином. Из своей обсерватории спускается бабушка:
– О-о-о! Дверь-то как в райкоме, у первого секретаря.
– Эх, – выдает мама (что-то огонь у нее в печке не разгорается), – где бы найти себе тихого мужичишку и запрыгнуть к нему на горбушку. До чего ж надоело самой всю жизнь пахать!
– Много они тебе напахали-то, эти мужики? – пробасила Машка. – От них только вонь и хамство. Насрут в душу – и до свиданья. Природа у них такая, поганая. Пьют, гуляют, а руки у них из жопы растут. – Она с гордостью забила последний гвоздь.
– Ой, Мария! Ой! – согласилась бабушка и призадумалась. – Но у людей-то бывают…
– Смотри, Газманов, – Машка переключилась на экран.
- Есаул, есаул, что ж ты бросил коня?
- Пристрелить не поднялась рука…
Машка несколько раз подпрыгнула и сладко улыбнулась в телевизор:
– Я его люблю. У него всегда причесочка такая аккуратненькая. Не то что этот Оззи Озборн, – намекнула она на плакаты в моей комнате и тут же приказала: – Так! Щас дверь повесим – и к столу.
Мы взялись за дверь. Подняли. Я неудобно взялась и промазала, штырь соскочил с петли.
– А вот и помощь! – пропела Машка.
В проеме стоял Антон, Антон Николаич Страхов. Возник неожиданно, как муж из командировки. Несмотря на дождь и грязь, он был невыносимо чист. Хоть бы пылинка на него какая-нибудь села, хоть бы брызги случайные упали на его голубые джинсы. В одной руке букет, в другой пакет. Машка презрительно взглянула на вражеский арсенал.
– Здравствуйте, – распахнул он свои уверенные кошачьи глаза, протянул мне цветочки и неожиданно покраснел.
– Спасибо, – я понюхала красные розочки.
Смотрю на Страхова и не узнаю. Припоминаю, но не очень. Заполняю паузу:
– Это теть Маша…
– А мы уже знакомы, – хохотнула Машка, – он тут, пока тебя не было, веселил нас. На пианино нам играл…
– Антон! – выпорхнула из кухни мама и опять исчезла.
– Давайте помогу.
Страхов взял у Машки новую дверь. Раз – и штыри с дырками сошлись.
– Я цветочки поставлю? – Машка забрала букет и удалилась.
А что мне делать? Обнимать или нет? Целовать или не надо? Я его забыла! Он, кажется, помнит. Колет щетиной. Обнимает. Тянет меня в маленькую комнату. Это ничья комната, там папа ночует иногда зимой, в морозы, когда ему свою хибару топить нечем. И там Антон, точнее, черный толстый котяра, сжимает меня в своих лапах, как застывший холодный пластилин.
– Маладе-о-ошь! – Машка позвала нас к столу.
Ее хоть в Тобольск отправь, она везде с собой таскает банку красной икры. Без палки московской копченой из дома не выйдет. В женской сумке возит бутылку «Советского» шампанского и «канфетчки». Это целое состояние на фоне нашего продуктового магазина, в котором все полки забиты банками с кабачковой икрой. Столько закуски, а мужика нет.
– Ну, здравствуй, здравствуй, студент! Не голодуешь там в общежитии? – когда мы сели к столу, спросила бабушка свою любимую жертву.
Глядя на румяные страховские щеки, мама усмехнулась. Положила нашей старушке котлету и поставила тарелку поближе к носу, чтобы поменьше разговаривала.
– Ты ешь-ешь, – не отступала бабуля. – Ну, говори, студент, куда пойдешь работать? А! Дожили до чего… Биржа труда! Как в Америке! Безработица!
– Ничего, Валентина Карповна, мы не пропадем, – Антон открывал шампанское.
– Не пропадем! Будем скоро жить как при царе. Советская-то власть хоть образование дала бесплатное. А то б сейчас бегали все в юбках раздуванных. Как девки крепостные.
Мама с тетей ойкнули, когда чпокнула пробка, но шампанское не брызнуло, вышел аккуратненький дымок, и мы подставили хрустальные фужерчики, последние, случайно уцелевшие, из свадебного гарнитура моих родителей.
– Ну, за встречу! – Антон всех осчастливил своей яркой театральной улыбкой.
– И чтоб наше поганое правительство нас не доконало! – вставила Машка.
– А подарки! – вскочила мама. – Смотри, что тебе теть Маша привезла. Меряй!
Я скинула в спальне свою рванину. Выхожу в презентабельном и пою:
– Спасибо! Спасибо, теть Маша! У меня как раз ничего приличного нет. И неприличного тоже нет.
Бабушка подхватила козьим голоском:
- Хороша я, хороша, да плохо одета.
- Никто замуж не берет девушку за это!
– Я надеюсь, ты теперь свои джинсы выбросишь? – директорским тоном спросил Антон. – А то мне говорили: «Видели твою на улице, шла вся драная». Стыдно слушать. Неудобно на людей смотреть…
– Вот если бы чуток пошире, то было бы совсем хорошо, – влезла бабушка.
– Что?! Стыдно слушать?! – Мама резко развернулась к Антону и метнула в него отравленным копьем.
– Вы же сами были против всего этого ее… авангардизма…
– Ой, Сонька, да сняла б ты этого Ози Озбарна. – Машке не давал покоя мой жуткий плакатик, на котором Оззи кусал за голову живую мышь.
– Я?! – Мама загорелась. – Я никогда не была против моей дочери!
– Да, но джинсы с дырками? Разрисованные… И булавки… Для чего? Это некрасиво, небрежно. Людям непонятно, – еще упирался Антон.
– Доесть-то дай ему, ну? Дай доесть, – вступилась бабушка, увидев боевой прицел.
Мама нажала на гашетку:
– Да! Ее не все понимают. И ты не поймешь никогда!
– Извините, – Страхов поднялся из-за стола. – Вынужден откланяться. Это моя проблема.
Антон Николаич, как многие мужчины, любил готовые обтекаемые формулы, хотя и не всегда понимал, куда их присобачить.
Только новая синяя дверь за ним захлопнулась, Машка начала кривляться:
– «Это моя проблема». Твоя, твоя, не наша. Ага… Им лишь бы женщину в лужу посадить. – Она взглянула на букет и ехидно добавила: – А на цветочках-то сэкономил.
Мама откусила конфету и швырнула ее в сторону:
– Нет, ну какой хам! Прибежал тут ко мне, на диван бухнулся: «Я хочу женщину». И ты пойми его еще, с такими глазищами.
Все! Машка открыла рот. Сейчас весь вечер будет вспоминать своего бывшего мужа:
– Ты посмотри, как они все похожи! И Семенов тоже мне грит: «С тобой стыдно, грит, в люди выходить. Газет ты, грит, не читаешь». Ага! Как выходной, так у них партсобрания. А тут мне женщина одна сказала: а ты знаешь, что у них премиальные в несколько окладов? А я ни сном ни духом! Он все к той бабе перетаскал…
Машка замолчала, почесывая левую ладонь. Прикидывала, сколько ее бывший умыкнул.
– Зря ты Антона прогоняешь… – вздохнула бабушка. – Он на отца Михаила похож.
– Сколько можно! – зашипела на нее мама. – Какой отец Михаил? Когда это прекратится?
В последнее время нашу бабушку глючит. Она постоянно вспоминает священника, который сто лет назад служил в нашей церкви. Даже разговаривает с ним иногда, в забытьи.
– У нее этих Антонов будет еще сто штук, – заявила Машка.
Говорит, сто, – а сама всю жизнь про одного Семенова вспоминает. После развода она два месяца лечилась у психиатра. Стала убежденной мужененавистницей. С тех пор прошло лет двадцать, но Машка до сих пор не отошла. У нее есть тайник. В журналах по вязанию она прячет семеновские фотографии и вырезки из газет с его статьями про «партию наш рулевой».
– Маш, а что у вас там творилось-то, в Москве, 19 августа? – спросила мама.
– Ты про путч, что ли? – Машка любовалась на новую клеенку с «лебядями». – Да ничего. Я в своей норе просидела. У меня как раз выходные были.
– А мы тут перепугались. А вдруг война?! Сонька-то не с нами. Мало ли что! Антон прибежал ко мне. Поехали и поехали, надо ее срочно забрать. Чуть не уговорил. Мы с ним все три дня на нервах варенье варили.
– У вас там ничего не слышно было? – спросили меня.
– Ничего, – говорю, – дождь был сильный, я спала.
21. Путч
В ночь с 19 на 20 августа я спала на поляне, на вершине горы, у северной границы с Абхазией. Потащилась для отчета. А то потом обязательно какая-нибудь сволочь спросит: «Ну что ж ты на юг-то съездила и даже в горы не сходила?» И вот я из-за этой неизвестной сволочи мучаюсь, иду. Антон внизу остался, со своей делегацией, в лагере.
Инструктор всем пообещал:
– Специальный маршрут. Будем горную речку пересекать пятьдесят три раза. На вершине поляна – неописуемая красота! Вы такого нигде больше не увидите!
Я поверила, но мое веселье кончилось быстро, только и порадовалась, когда армейский вездеход протащил по воде через ущелье. У подножия горы мне вручили связку железных кружек, и сразу захотелось обратно. Вот спасибо! Нет, не тяжело, но гремят, собаки, на каждом шагу.
Дошла я до этой волшебной поляны, и что? Красиво? Да, наверное. Только ничего не видно. Туман густой, стоишь, как в облаке. Мальчишки стали шутить, кричали: «Ложись! Стреляют!» Накаркали, дураки. Через пару месяцев там правда начали стрелять.
Как я была рада тучкам! Утром с моря конкретно дунуло, мы свернули палатки и вернулись в лагерь под дождем. Волны заметно выросли и стали черными, как антрацит. Что, думаете, я не знаю антрацит? Я все детство печку протопила этим антрацитом, так что точно говорю, вода как антрацит. Страшно выбегать на ветер, забирать с веревки сырые полотенца.
Люди были одеты как ку-клукс-клан, передвигались в синих непромокаемых плащах с опущенными на лицо капюшонами. В наш домик сунула нос тетенька из администрации:
– Добрый вечер, девочки.
– Ничего себе добрый! Нас тут смоет всех сейчас. Гляньте, вода уже под сваями…
– Может быть, и смоет. С природой не поспоришь, – улыбнулась тетенька, – у меня объявление: наши врачи приглашают всех на просмотр нового американского фильма об интимной жизни.
Она сообщила это веселым ласковым голоском, как будто позвала нас посмотреть «В гостях у сказки». Озабоченных не нашлось, интимную жизнь все предпочитали изучать по индивидуальной программе. Русским девочкам не нравилась эта новая западная мода – публично заглядывать в чужие трусы.
Дождь лил и лил. Мы сидели под сваями, от ветра завернувшись в одеяла. Кое-кто курил, запивая чаем, кое-кто вином. Мальчики перебрасывались в картишки и были похожи на заговорщиков. Послышалось странное: ГКЧП, Форос и смешное слово «путч».
– …государственный переворот, – долетело ко мне, – прикиньте, вернемся домой, а там опять коммунизм.
– Да он и не кончался еще…
– Я вам говорю – гражданская война начнется.
– Горбачева не выпускают…
– А может, и нас отсюда не выпустят?
– Кому это вы нужны?
– А что? Удобно. Собрали всю будущую прессу в одном месте – и пух.
– Вы что, не слышали? Из Москвы приехал цензор Сидоров. Башкирский дайджест закрыли. Сегодня ни одна газета не вышла.
– А пойдемте в главный корпус! Там «Свободу» ловят!
Сначала я даже внимания не обратила на эти разговорчики. Здесь никому верить нельзя – кругом одни журналисты. Никакое радио «Свобода» я слушать не пошла. Мне весь этот путч – трактором. Что мне ГКЧП, что мне арестованный Горбачев, когда мой летний роман заблокирован? Я же говорила – я ребенок из Красного пояса России. В этом регионе никогда ничего не происходит. У нас все до сих пор крепостные. Затоптать, если что, могут, а насчет революции – обращайтесь в Москву.
Ночью ливануло такое! Море взбесилось. Волны подошли вплотную к террасам. И гром – как будто горы взрываются. Погулять не получится, в знак протеста я легла спать.
А утром – солнце! И повсюду бегают мальчишки с пачками листовок: «Правда и только правда о государственном перевороте! ГКЧП арестован!» После завтрака в актовом зале была пресс-конференция журналистов Первого канала и самые свежие кадры с места событий. Ой, да что вы! Я иду со всеми смотреть хронику, которую еще нигде не показывали. И, кстати, до сих пор так и не показали.
В стеклянном холле толпа будущих знаменитостей стояла в длинной очереди за автографами к действующим телезвездам. Я ненавижу автографы. И тем более очереди. После того как меня будили в шесть утра, чтобы затариться стиральным порошком (две пачки в одни руки), я ненавижу очереди. Стою в сторонке. Оглянулась – в другом конце холла на пластиковом кресле сидит Антон. Он заметил меня и раскрылся, как автоматический зонтик. Какое чудо! Не забыл меня за целых три дня!
Мы сидим в темном прохладном зале. Антон глядит на экран и греет мои руки. Подносит к губам и целует пальцы. Сам не замечает, как целует. В эти моменты я перестаю дышать. На экране идет хроника: толпы бушующих людей, реплики, вопли, ругательства, Ельцин, солдаты, танки, трое погибших парней… Все мимо, все мимо меня. Ничего не слышу. Жду, когда он еще раз поцелует.
Мы выходим из зала и направляемся под сосны, на трубу теплотрассы, протянутую по горе, над морем. Антон взял с собой кучу свежей политической макулатуры. Глаза у него загораются, когда ему приходит на ум что-то интересное, взгляд оставляет ощущение спрятанного сюрприза. А в официальной версии у него спокойный, даже слегка отсутствующий взгляд. Иногда он читает мне вслух по нескольку строчек, я слушаю, нет, не текст, а его голос, его играющую интонацию, его легкое северное «о», и смеюсь.
Под попой тепло, на спине его рука, над головой густые сосновые ветки, перед глазами море, поднимешь лицо – и вот они, его губы. Антон бросает в траву свое чтиво, загребает меня в охапку, а я опять ухохатываюсь. Смеюсь над чайками – визжат, как поварихи.
22. Перепих для галочки
И муж целовал мне руки. На нашей свадьбе за столом. И тоже бессознательно. Его губы сами тянулись к моей ладони. Мама втихаря посмеивалась, когда он беседовал с кем-то и при этом облизывал мне пальцы. Теперь я точно знаю: пока у мужчины проявляются такие порывы – все пучком. Как только он начинает себя контролировать – все, считайте его коммунистом.
Я, конечно, слышала, что страсть проходит… Но чтобы у меня? Прошла страсть? Я-то думала, страсть проходит у асексуалов, у амеб, у сонных мух, у фригидных кошелок, у обжор, у тех, кто никогда не любил… И, надо же, вчера меня настигла та же участь. Супружеский долг! Перепих для галочки!
Мы даже не трудились скрывать отвращение. Смотрели друг на друга – и морщились. Зевали. Отворачивались. Закрывали глаза. «Надо! – сказали мы себе, – надо!» – и нехотя стянули трусы.
Целоваться не могли – не лезло. Касались друг друга лениво, как будто переключали скорости на заезженной колымаге. Мой муж раздраженно сбросил мою руку со своей шеи. Я выплюнула его пальцы изо рта. Господин директор разлегся как в борделе: руки за головой, ноги в разные стороны, пузцо кверху. Нашел себе оправдание: «Мужчина любит, чтобы его соблазняли». Решил не тратить время зря и заодно вспоминал список дел на завтра. Сдал мне в лизинг свое тело, а сам придумывал механизмы личной мотивации для менеджеров дилерской сети. Нет, я не привередничаю, что дают, то и ем, просто засыпаю на ходу. Зеваю… Сил нет, как спать хочу, не могу, извините, зева-а-а-ю…
Опа! Вздрогнул! Понимаю – лежит себе человек в постели, прикидывает, как ему завтра через таможню документики протащить, и вдруг глядь – какая-то баба на нем валяется. Узнал меня. Силой мысли заставил свою правую руку проехаться по моей спине. На полдороге остановился – вспомнил, что у него в кассе недостача.
Может, думаю, дерзнуть все-таки, поцеловать его в губы для разнообразия? Нет, не целую. Не хочется встречаться. Да и губы у него на замке. Попробовала взломать их языком, раз уж приползла по его аппетитному, между прочим, животу. Нет, не пропустил. Сползаю вниз, тем же маршрутом, через шерстяную грудь, и размышляю: «Что лучше: хороший фильм на пиратском диске или плохой на лицензионном?»
Работаю под напряжением и все равно засыпаю. Ничего, думаю, сейчас насобачим в эту стряпню чего-нибудь остренького. Какой-нибудь пальчик в самое нежно место всунем, куснем где-нибудь аккурантенько… А можно еще представлять себе разные мерзости, чтобы скорее отделаться.
Только вот странно… Неужели эта тошнота не считается грехом? А за вдохновенный мимолетный эпизодик кое-где до сих пор камнями закидывают. Тогда давайте и за обжорство закидывать. И за мат при детях. И за курение в общественных местах. Бросить бы все и уснуть, но нет, нельзя. Мы ответственные люди, мы все должны доводить до конца.
«Пора кончать это безобразие!» – мы так подумали и одновременно открыли глаза. Ага! Наверняка он уже обнимает вместо меня эту свою черненькую из попсовой группы. А я сейчас тогда представлю, что сзади ко мне подошел… Какое у Антона утомленное раздраженное лицо! Как ему надоело бить в одну точку! Так… ладно… Мне нужно сосредоточиться. Ко мне подошел… Нет, лучше подошла… Подошла наша фотомодель Оля, испачкала ему спину своей губной помадой, разлеглась и не уходит, сучка! Ага! Так вот для чего она мне нужна! Образ врага – вот что меня сегодня возбуждает.
Я откатилась на северо-запад нашей кровати. Мой тигр обиделся!
– Вот, – говорит. – Ты получила все, что хотела, и сразу от меня отвернулась. Вот так вот, Антон Сергеич, попользовались вами и оставили лежать у дороги.
– И что, мы правда будем разводиться? – Это все, что я могла сказать.
– Раньше ты эту крамолу вслух не говорила… – уклончиво ответил мой тигр.
– А вдруг дальше будет еще хуже?
– Может, и хуже…
– Зачем давиться друг другом? Мы не жадные.
– Да, не жадные… Не надо давиться… – Он прячется от меня под своим одеялом.
– Вот и надо признать – мы себя исчерпали.
– Да, исчерпали, – зевает Антон.
Я злая. Мне хочется сделать контрольный выстрел:
– Тогда придумай, пожалуйста, оптимальную концепцию нашего развода, – говорю со всей противностью, которая только у меня есть.
– Ладно, – отвечает и через минуту уже спит.
А я не могу уснуть! Я опять ухожу к своим синим шторам. И снова прожектор в окно, и снова шумит трасса, и машины летят к морю… И я опять хочу туда, на кучу лет назад, на пляж.
23. Концерт окончен
Спускаюсь по ступенькам. Антон уже ждет. Как хорошо он на меня смотрит! Глядит, как в соболью шубу кутает. Откуда он мог такому научиться в пятнадцать лет? От его игривых глаз я распускаю хвост и превращаюсь в пушистую рыжую лису.
Мы идем по набережной, мимо стенда с объявлениями. Там висит большая таблица. Что это? График разъездов. То есть?
– Так… – он читает расписание. – Я уезжаю тридцатого утром, а ты вечером.
– А сегодня?
– А сегодня уже двадцать седьмое.
– Да?!
Оказывается, через три дня нас увезут в разных автобусах. Меня обманули! Мне не сказали, с какой скоростью пролетает время. Я – крепостная девка, скоро меня продадут в другую деревню. Кого-то мне хочется во всем этом обвинить, но кого? Я прислоняюсь губами к его рубашке, носом на вторую пуговицу.
– Ты что? – Антон улыбнулся и покрепче обнял. – Ты что? Плачешь?
Он вдруг оживился, даже обрадовался, лицо мое поднял к себе, целует щеки, попадает губами на соленое и радуется, мерзавец.
– Не плачь! – Чего он сияет? – Все хорошо. Ничего страшного.
– Я не хочу плакать! Слезы не кончаются… Сами текут…
– Пойдем, умоешься. Вот фонтанчик.
Я брызгаю на глаза холодной водой. Антон почти смеется.
– Ты только подумай, – говорит, – мы могли бы вообще сюда не приехать. Я в последний момент собрался…
О, да! Это была бы страшная трагедия, и возражать нечего. Болото, а не жизнь.
– Ты можешь поверить, что я не знал тебя всего месяц назад? Совсем тебя не знал! Я не могу. Нет, не могу, правда.
Вдоль дорожки стояло много фонтанчиков, у каждого я умывалась. Меня с детства приучили: реветь нельзя, ревут одни неврастеники, а я шла и ревела. Сколько хочу, столько и буду реветь. Пусть утешает!
– А мне приятно, что ты так плачешь. Значит… я для тебя не просто так…
– Но… я же тебя больше не увижу никогда…
– Все, – его теплые губы отпечатались на моем лбу, – успокаивайся. Я с тобой. Ничего не случилось. Все живы. Мы пока еще вместе. Увидимся еще, посмотришь. Нам знаешь как повезло? А то ведь я мог бы жить и в Магадане или в Мурманске. А так, сколько там от тебя до Москвы?
– Пятьсот километров.
– Всего пятьсот! – Он взял меня за плечи. – И от меня до Москвы пятьсот. Тысяча километров – ерунда для нашей страны.
Я подумала: «А если бы в Мурманске? Тогда все? Уже не ерунда?»
– Хочешь, сегодня не будем расставаться? – он спросил.
– Как?
– Останемся на пляже. Возьмем одеяло. Будем встречать рассвет.
Ах, как это романтично! Но только часов до двух, не больше. Потом песок безжалостно остывает, и начинается марсианский холод.
Мы не одни нашлись такие лиричные, чуть дальше еще одна пара, и еще. Под террасами горят маленькие костры, и слышен смех, и кто-то в воду полез, и звякнуло стекло, шашлыком издалека пахнуло, и башкирская гитара провыла свое программное «Все идет по плану-у-у».
Погасли звезды, луна заснула, все стихло, и мы остались одни на берегу. Заснули, свернувшись в комок, на ледяном песке, у воды. С неба, из-за черных облаков, было видно нас, двух замерзших детей на верблюжьем одеяле. А вокруг монстры: море, небо, время, расстояние. Они казались огромными, сильными… Мы же не знали тогда – есть чудовища пострашнее. Склероз и комплексы – вот чего надо бояться!
Я просыпаюсь от холода. Мороз! Иголки по спине. Открываю глаза – темно. И не поймешь, то ли час до рассвета остался, то ли еще ждать и ждать.
– Антон, пойдем спать, – я его растолкала, – Анто-о-он…
– Да. – Он открывает глаза, оглядывается спросонья и быстро смешно говорит: – Завтра опять попробуем.
Мы разбежались по своим норам, по теплым постелям, и утром даже не услышали обычную латино.
На следующую ночь случилось то же самое: замерзли – и разбежались.
– Ага, сдалась! – говорил он с утра.
– Если бы ты попросил, я бы дотерпела.
Честно, Антон! Дотерпела бы!
24. Пух и перья
На песке стояла фанерная избушка, так же как другие, похожая на большую бочку. Окошки заколочены досками – это склад, там свалена куча матрасов и подушек. Закрыто на большой висячий замок. Ха! Замок… Дверь собрана из четырех опилочных панелей. Нижняя висит на двух гвоздиках, и, если надо, легко выбивается, а потом так же символически вешается на место. Народ скрывался там весь месяц с сигаретами и банками изабеллы.
Мы с Антоном, как бездомные коты, залезаем в эту пыльную нору. Кажется, сегодня никого. Вместо кровати стопка матрасов. Мы падаем в мягкую гору подушек и даже в темноте чувствуем, как поднимается пыль.
– Представляю, на кого мы утром будем похожи… – говорю тихим шепотом.
Антон не отвечает. Опять притих. Осторожно провел по моему телу ладонью, вдоль бедра, до ремешков на босоножках и констатирует:
– У тебя красивые ноги.
Он лег на спину, перекатил меня к себе на живот, и через шорты… Да мало ли что там у него через шорты! Мне не нужен секс в пятнадцать лет. Мой эротизм – его руки и губы. Гладь меня и целуй. Гладь, целуй и прячь в своих мягких черных лапах.
Ах, да… Я опять вспомнила про свой неудачный эксперимент, ну… про вишни и полотенце, и начала мямлить:
– Ты знаешь, я должна сказать, наверно… Или не должна… Я не знаю… Если это некрасиво, я не буду говорить… У меня уже было… Я не знаю, зачем… Но если ты…
Нет, не могу такое говорить. Пусть что хочет, то и делает. Я буду просто лежать в его руках, потому что мне нравится лежать в его руках.
Антон молчал. Мне даже показалось, он ничего не понял. Но его шорты меня смущали. У меня вырвалось:
– Презерватива нет. Я не знаю, как без него.
Он перевернулся на бок, обнял и говорит:
– Не обращай внимания. Давай поспим.
Я слушаю, как он дышит, как шумят волны, и засыпаю. Антон еще полночи ворочался и незаметно гладил мое лицо и волосы. Я разлеглась у него на плече, он не мог пошевелить рукой, перевернуться на другой бок, ему было неудобно, он не выспался, вспотел, рука затекла. Утром очнулся хмурый, сонный, весь в перьях и в пыли. Счастье невозможное! Спал с девочкой! Мы услышали латино и пошли собираться.
Автобус с костромской делегацией уже отъезжает. Все давно расселись, только Антон еще нависает надо мной с красным сумариком через плечо и говорит всякие глупости про «напишу». А я отвечаю, «не надо», «не надо», но адресок даю. Хотя вполне понимаю своими детскими мозгами, что вся эта любовь, да еще на расстоянии – такой тяжелый рюкзачок для юного яркого мальчика… вряд ли он его дотащит. А он бумажку в карман и губы мне облизывает.
Ни одного письма у меня не осталось. Сейчас бы посмотрела на его каракули, хоть посмеялась бы с вами… Представляю, сколько вранья мы отправляли друг другу. Мы же гуманитарные дети, журналисты, у нас вся жизнь – сплошные эротические фантазии. «Я счастлив, что ты есть» – главный тезис Антона. «Это чудо, что мы встретились. ЧУДО, – долбил он мне, толкушке, – об этом нужно помнить».
Я, конечно, помнила. Иду себе, например, в парке, гуляю со своей подружкой, с Вероникой… Плечи опустила, задницу отклячила, ноги заплетаются. И вдруг вспоминаю, что он есть, и он сейчас тоже где-нибудь идет по улице, и только так подумаю – сразу начинаю улыбаться и дефилировать. Вероника спрашивает:
– Что это ты? Ты кого увидела?
– Так… Просто… Никого, – говорю и вижу его, впереди, в деревьях, за желтыми кленовыми листьями. Антон сидит на скамейке и поджигает мое письмо, чтобы мама случайно не прочитала.
…Я не стала ждать, когда тронется автобус. Отворачиваюсь и ухожу. Убегаю. Говорю себе: «И хорошо, что я не устроила никакого секса. А то бы точно приехала из пионерского лагеря домой беременная! Вот бы девки мои поржали». По пути натыкаюсь на колготную тетеньку из администрации.
– Сонечка, вы хоть попрощались с молодым человеком?
– Да.
– Жалко, – она вздохнула, – какой приятный мальчик…
Приятный. Но что поделаешь? Счастье по карманам не распихаешь. Хоть и маленькая, а уже знаю: сколько дали – столько и бери, и никто тебе не отвесит больше, чем сможешь унести.
В нашем домике Наталья воет над чемоданом. Смотреть противно:
– Не могу до сих пор поверить, что через каких-то два часа я уеду и никого никогда больше не увижу. Смотри, сейчас вот сижу, говорю с тобой, а потом – все… – Она припустила еще сильнее. – Ведь это рай! Это и есть настоящий рай, когда кругом все умные, воспитанные, талантливые люди…
– А пойдем купаться! – говорю.
Мы побежали на пляж. С нами собралась целая толпа. Все орали:
– Купаться! Скорее! Последний раз!
Ветер был удачный, легкий. Волны добрые, с ажурным белым гребешком. Вода прозрачная, видно гофрированный песок под ногами. Мы держались за руки, прыгали на волну всем кагалом и ржали, как лошади… Я хохотала громче всех. Никаких принародных сантиментов. Топлю в себе неврастеничку и кричу в небо: «Господи! Спасибо! За все!»
25. Я – бревно
Я топаю под зонтом. В свою мерзкую школу. Автоколонна бастует – иду пешком. И опять разбитый асфальт, серый штакетник, тополь татарский, тополь пирамидальный, а я-то вся в золотистом загаре, и поцелуй его все еще у меня на губах.
– Как похудела! – В раздевалке меня встречает Вероника.