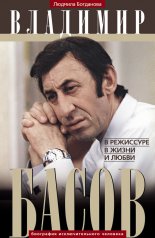Разлюбил – будешь наказан! Крицкая Ирина

– И отдай мое вино. – Я поставила бутылку у своей тарелки.
– И вообще… – Он упустил бутылочку и развел руками. – Это не мой уровень. Не может запомнить элементарные вещи. Нет, пожалуй, я не смогу смириться с тем, что баба дура. Даже… если она красивая…
– И новая! – Я подлила себе еще, а его продинамила.
– Ты живешь со мной уже десять лет и до сих пор сомневаешься. Почему?
– Потому что я живу с тобой уже десять лет!
– Если бы я хотел с ней поехать, я отпустил бы ее на больничный, ты бы ничего и не узнала, – он снова посягнул на мое бордо.
– Ага! Продумал варианты! – Я его опередила и сцапала винчик.
– А сама! – Он наконец-то заорал на меня, как положено. – Где ты шлялась после обеда? Я знаю! Твоей машины не было на парковке. Ты сдала детей на площадку и шалавилась! Сын мне все рассказал!
– Смотри! – Я показываю ему свои ножки и ручки с ядреным красным лаком.
– Ты хочешь сказать, что такая ерунда занимает три часа? Говори правду! С кем встречалась?
– Ты что?! – Мне становится весело, чувствую, он затеял какую-то игру. – Хватит… Считай, что я посмеялась. Ха-ха-ха! Давай выпьем.
– Я знаю! – он зарычал абсолютно серьезно. – Ты встречалась с первым встречным и занималась сексом в извращенной форме. Говори! К каким армянам ты каталась?
– Все! – говорю. – Меня это уже утомляет!
– Да! – Антон выставил подбородок. – Так вот и меня это уже утомляет! Ты теперь понимаешь, как я себя чувствую?!
Я выскочила из-за стола. Тигр схватил меня за плечи и заорал:
– И нечего лезть ко мне! Со всякой фигней!
Я типичный невротик. Мой эгоцентризм переходит все границы. Кротость и смирение для меня так же недоступны, как тангенс и котангенс. Таких, как я, надо лупить вожжами. С нами нельзя дружить, с нами невозможно договориться, нам нельзя ничего объяснять. Своевольных баб нужно учить, как щенков, – на лакомство или носом в лужу.
Он природы мы прекрасно знаем: мужчина – царь. Мы сажаем его на трон и целуем ему ноги, но при первой же возможности свергаем с престола. И поэтому я завизжала и швырнула в Антона бокал.
– Ах, так! Ты меня решил воспитывать!
Он стоял в окровавленной рубашке. Секунду стоял – а потом схватил меня и потащил в спальню. Придавил и хрипит:
– Когда ты прекратишь пить мою кровь?!
– Иди и соблазняй! Иди! Только не надо уничтожать меня! Каждый день! Убивать своей кривой рожей!
– Я тебе последний раз говорю. Мне эта девка не нужна. Я с ней не спал и спать не буду. Тебе ясно?
– Мне плевать! – Я вцепилась новыми красными ногтями в его спину. – Я тебя ненавижу!
– Что ты от меня добиваешься? – Он придавил меня намертво. – Что тебе надо от меня?! Стерва!!!
– Ты меня не любишь!
– Это я тебя не люблю?! – Он схватил меня за горло. – Я убью тебя!
Все это время в доме было подозрительно тихо. Выглядываем – дети играют в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Открыли шкафы – и все оттуда на пол. Максик развалился на диване, лениво махнул мне хвостом.
– Мам, смотри.
Сын поставил маленькую на ножки. Она отпустила руки и сделала шаг.
– Пошла! Сама пошла!
Максик оторвал голову от подушки. Зевнул, посмотрел на меня как философ. «В холодильнике, – он сказал, – лежат две маленькие сосисочки. Не дай бог, их кто-нибудь сожрет!»
33. Чао!
Чудеса! По утрам, когда пуританка Марь Ляксевна на работе, Антон приходит в мою спальню, садится на мою кровать, играет моими волосами. На подносе появляются два кофе, сыр и конфеты. Это мама заходит поболтать.
– Не завидую я вам, не завидую, – говорит, – журналистика – такая мерзкая профессия. Брехня, беготня и нищета.
– Ничего, – отвечает Антон, а сам целует мои пальцы, – нам нравится.
– А уж сколько их перестреляли в последнее время… Да разве в нашей стране дадут варюшку раскрыть!
– Ну… к этому тоже нужно быть готовым, – Антон запивает сыр кофеечком и гладит мои спутанные волосы, – информационные войны в любой момент могут превратиться в настоящие…
Я валяюсь у него на коленках и думаю: «Куда бы нам сегодня прогульнуться?»
Нас вынесло на Государственную думу. Мы прошли парадный подъезд, свернули за угол, и за спиной послышался глухой тяжелый звук.
– Слышала? – Антон спросил.
– Что? – Я как раз в этот момент отвлеклась от дороги, я за ним наблюдала.
Он рассматривал припаркованные машины, в провинции тогда еще не ездили такие крутые депутатские тачки.
– Взрыв? Только что?
– Не может быть… – я улыбнулась. – Это покрышка лопнула.
– Ничего себе покрышка!
И правда, приезжаем домой, а в новостях репортаж: «Взрыв у Государственной думы». А я гуляла и ничего не замечала. Даже не знаю, что сейчас можно выпить, чтобы вернуть эту легкость? Чтобы рядом взрывалось, а мне хоть бы что.
Верните мне эти кадры! Может, пустят меня когда-нибудь в самую главную монтажную, к самым лучшим режиссерам? Так я попрошу тогда: из трехсот шестидесяти пяти дней 1992 года оставьте мне пять, тех самых, когда мы шлялись с Антоном по Москве, без денег и без паспорта. Да, скажу, и верните мне, пожалуйста, еще одну ночь, ту ночь перед отъездом, которую мне испортила добродетельная Марь Ляксевна.
Каждую минуту она зовет меня спать. А я в ночной рубашке, у Антона. Обнимаемся, да. А что? Он говорит: «ну все, иди», а сам держит за руку, не отпускает. Как сейчас отпустить? Почему? Потому что паспорта нет? Нет денег на гостиницу?
– Ну, сколько это может длиться? – орет наивная Машка. – Два часа ночи!
– Ладно, иди, – Антон целует меня в губы, – они нам все равно не дадут покоя.
В комнате темно. Только в окнах огни рекламы и полоска света под дверью. Машкин сервант поблескивает стеклами. Мне захотелось его разбить.
– Да, – я встаю с дивана, – да, я пойду…
Да, я пошла! Потому что я крепостная и дочь крепостной. И всю жизнь такой буду. Даже Машкин сервант не смогла грохнуть. Смирная девочка, от рождения.
– Как это называется? – занудила моя правильная тетя. – В спальне! С мужиком! Ночью!
– Правда, Соня… Должен же быть какой-то суверенитет тела, – мама всегда прикрывается обтекаемыми абстракциями.
– Там у нее один, тут другой! – Машка любит порядок, ей надо, чтобы все лежало на своей полочке.
– Ну и что? – я огрызаюсь.
– Ты посмотри, какой он лось! – пискнула Машка, не предполагавшая степень моей распущенности. – У тебя таких Антонов будет еще сто!
– Да! Если вы так хотите, пусть будет сто! И жизней у меня тоже будет сто!
– Что ты в него так вцепилась? Это же мужик! Животное!
Тогда я придумала свою коронную фразу и сказала теткам:
– Вы уничтожили этот вечер! Вы украли его из моей жизни!
Утро. Долгий завтрак в гробовом молчании. Рассматриваю похабные красные занавески. Антон держит меня за руку. Чувствую его колено под столом. Тетки осуждают, завидуют, не верят в мою интуицию, подозревают в разврате, развратницы. Машка просит меня строгим вредным голосочком:
– Порежь батончик.
– Сейчас, – отвечаю ей вслух, а про себя добавляю: «фригидная пуританка».
Мама не может размазать замерзшее масло. Я говорю:
– Давай помогу, – и добавляю про себя: «предательница».
Заходим в метро. Мы с Антоном, конечно, в обнимку. Тетки прыгают сзади и шепчутся у нас за спиной.
– Ничего, они ей в душу еще пока не насрали, – Машка потирает ручки, – она думает, он человек, а он мужик – эгоист, животное и сволочь.
Животное не выпускает меня из рук. Сейчас, в вагоне метро, Антон прислонился к надписи «Не прислоняться» и целует мое лицо. Машка брезгливо отворачивается. Мама за компанию делает козью морду. Антон долго-долго держит губы у меня на лбу и дует горячим ветерочком. Этот поцелуй у меня так и остался. Не стирается. Только вспомню – и опять горит.
Платформа. Наш вагон. «Прощание славянки». Антон сажает, шепчет в ушко: «Я тебя люблю». Я еще вижу его в окно. Он идет по перрону широкими быстрыми шагами. За ним семенит и болтает сумчонкой маленькая мужененавистница Машка. Ее легендарная грудь размера ХХXL резво подпрыгивает на бегу.
Через восемь часов я выхожу на нашей маленькой грязненькой станции. Кстати, здесь останавливалась перекусить Марина Цветаева. Перед тем, как повеситься.
– Ой, мам, смотри – бомжи. Как в Москве. – Я увидела их на перроне. – Ну, надо же, развиваемся.
– Антон! – заметила мама.
Господин Страхов приближался к нам, медленно и сурово, как большая черная туча. В тот день он встречал все московские поезда.
А я решила рассказать ему всю правду. Не с порога, конечно. Сначала нужно сумки распаковать. Мама ему рубашенцию купила, с крокодильчиком, последний писк колхозной моды. Он померил и глядит придирчиво, шмоточник несчастный.
– Спасибо… – И ко мне подошел. – Хорошо погуляли?
– Хорошо. – Я обняла его за плечи, вдохнула привычный парфюм, чмокнула сизую щетину.
Сейчас я ему все скажу. Не сейчас вот прямо, а после душа.
А после душа был обед, после обеда – чай, а после чая он закрыл дверь моей спальни на крючок.
Антон раскручивает на мне полотенце привычным хозяйским движением. Смотрит трепетно вниз на свои джинсы, расстегивает пуговицу, освобождает пузцо. С пафосом раскрывает руки и падает на кровать. А там мой кот, он его придавил. Кот заорал и метнулся в форточку. Я смеюсь, но Антон Николаич серьезен. Он пылесосит мои губы и заводит старую шарманку:
– Где твоя страсть? Ну, где твоя страсть? Ты что, не соскучилась?
Антон был красавцем в то лето. У него была такая тяжелая народная красота, румянец, черные глаза и яркая улыбка. Мощный, как трехлетний бычок. Любая бабенка в нашем городе умерла бы от счастья, увидев его «брандспойт». А я не бабенка! И я отдергиваю руку, когда он кладет ее на свои драгоценности.
– Уходи.
– Что ты говоришь? Почему?
– Я с тобой задыхаюсь! Ты все делаешь не так!
– А как надо? – Он царапает щетиной мой живот. – Научи…
– Поцелуй сюда, – я ему даже показала, раз уж он попросил.
– Извини… – отвечает он деловым тоном… – у меня еще есть психологический барьер… Я буду над этим работать.
– Уже не надо. Просто уходи.
– Ты с кем-то встречалась в Москве?
– Да!
– Это он тебя так целовал?
– Уходи насовсем! – Я отвернулась носом в подушку.
– Ты что, всерьез воспринимаешь эту свою пионерскую любовь? Дорвался до секса – все, будет там у себя по девкам орудовать…
– Откуда ты знаешь? Ты нашел мои письма?
– Они у тебя по всему дому! Что он такого мог с тобой сделать? Что он с тобой сделал? – Антон развернул меня к себе и стал рассматривать лицо и тело, начал искать, что во мне изменилось, где следы.
– Ничего он не сделал. Я не могу объяснить.
– Пойми, я просто мужчина. И все такие же. Все одинаковые. Я хочу быть честным с тобой. Я мог бы вешать тебе лапшу, как он… Да, я грубый, тяжелый, я знаю. Но может быть… в душе… – он замолчал, подыскивая штампик, – я тоже бабочка?..
Вы видели такую бабочку? С пузом, с блестящими сизыми щеками, с красными крыльями в белый горох, как фартук его мамы.
– Уходи, – я сказала.
– Нет… – он снова схватил меня за плечи. – Я не могу просто так, в один день, уйти. Я привык к этому дому. К тебе…
Я выдвинула его в прихожую. Он поймал мои губы, я чмокнула его в нос. Он пригладил волосы на макушке и, обернувшись, спросил:
– Ничего у меня причесочка?
– Ничего, – говорю и хлопаю его по заднице, на прощанье.
34. Пожар
Во всей этой экзальтации есть один противный момент: если вдруг что-нибудь случится – письмом не отделаешься. Станешь делиться слезами, планами, водкой, закуской с теми, кто рядом. Хочешь, не хочешь – начнешь любить ближнего. А потом ночью, при свечах, любви своей, самой-самой настоящей, письмо напишешь. И почта донесет и смысл, и чувства, но… В общем, я не успела рассказать Антону, что мой отец сгорел на даче. Думаю: «Сейчас, подожду недельку, успокоюсь, а потом напишу или лучше позвоню». Вам я тоже не буду об этом рассказывать, только так… в двух словах: мой папа заснул с сигаретой.
Мне еще сон такой накануне странный приснился, про сон я Антону рассказала. «Представляешь, – говорю, – Антон, я еще летаю по ночам. Только как-то странно летаю…» Я неслась по воздуху вдоль своей улицы, рассматривала сверху цепочку домишек, мысленно регулировала высоту и скорость, видела крыши и железнодорожное полотно, поля и речку, а потом оглядываюсь, а подо мной дома загораются один за другим, и хвост огненный тянется.
В день похорон мне вручили тряпку. Стою на лестнице и тру перила на одном месте. В доме холод собачий. На зеркалах белые простыни, и солнце в комнате, и пыль, пыль кружится, как снежинки в метель. А в воздухе что-то гудит, ненавижу этот звенящий подыхающий звук…
По стежке через огород притопала добрая корова Татьяна. Привела маленькую рыжую девчонку. Года три было девчонке, не больше. Кажется, я ее уже видела.
– Жалко папу-то… вашего, – Татьяна включает газ на нашей кухне, ставит на огонь нашу сковородку. – Царство ему небесное. – Она крестится, и с пальцев у нее капает вода.
Две секунды, хочу притормозить на Танюхе. Идеальная женщина! Как говорит мой муж, чем проще конструкция, тем надежнее она работает. Улыбочка у нее хитренькая, но добрая, без подлянки. Юмор у нее крестьянский, до меня не всегда доходит. Однажды она попросила яда: «Юрачкю сваво травануть хочу. Телевизор, сволочь, пропил. Ребятишки плачуть…» Отраву просит, а сама улыбается.
Почему? Потому что у Танюхи нет напрасных ожиданий. Нет ожиданий – нет обломов, нет обломов – слава тебе, Господи. Поет, что видит, живет на земле, и никакие абстракции не плавят ей мозг.
– Крястина. – Это она так по-модному свою дочку назвала, хорошо хоть не Альбина, – Крястин, садись-ка, не мешайси. – Она воткнула ее в бабушкино кресло.
– Сейчас игрушки принесу. – Я поднимаюсь наверх.
В мансарде в ящике остались мои детские куклы. У меня их было вагон. Мои родители никогда не жлобились на игрушки.
На кухню приползает бабушка. Второй день она бубнит: «Ох, Витька, Витька… Что ж ты с нами сделал… Хоть я тебя и не любила…» Делает паузу и опять поет это все по кругу.
– С добрым утречком, – повернулась к ней Танюха, – чай, еще не завтракали?
– Ох, и кусок теперь в горло не лезет, – прохныкала бабуля.
– Да то! – Танюха подмигнула. – А вот блинец-то скушать?
– Ох, вкусны!
Старушка улыбнулась на Танькины блинчики, и кусок уже в горло полез. Она устроилась за стол. Ей очень хотелось с блеском отыграть роль скорбящей тещи. Бабушка обожает траурные церемонии. Особенно с прямой трансляцией по Центральному телевидению. Это у нее с пятьдесят третьего началось. Когда умер Сталин, она рыдала в голос: «Отец! Отец!» Этого я, слава богу, не видела. А когда хоронили Брежнева, я стояла за занавесочкой. По телевизору шла панихида. Бабуля держалась за дверной косяк. Глаза у нее были красные, как у кролика. И она завывала: «Отец! Отец!» Если я совалась под руку, она шикала «Не мешай!» и опять начинала, с чувством: «Отец! Отец!» Потом хоронили Андропова. И бабушка опять подошла к дверному косяку. Я слушала, как она выдает: «Отец!», и хохотала. Потом умер Черненко, и я валялась от смеха у себя в комнате, бабуля, хотя уже и с меньшим жаром, но все-таки опять скорбела: «Отец! Отец!»
И я положила себе пару блинов. Медом полила. Меня всегда тянет поесть на нервной почве. Что поесть! Нажраться! Нажраться и уснуть. Я рублю на автопилоте пышный Танюхин блин и смотрю в одну точку. Навожу фокус на рыжую девчонку. Опа! Я знаю, на кого она похожа, на меня!
Ну, точно! Я сгоняла назад в мансарду. Открыла старый альбом с черно-белыми фотографиями. Вот мой отец. У него острые глаза, прямой нос, высокий лоб и нервные губы. Надо было ему сходить на какую-нибудь войну, а он тут, в нашей сонной редакции, про какой-то ямочный ремонт дорог писал. Вот я, на руках меня держит. Я еще помню это детское ощущение, когда тебя несут на руках, а ты ногой болтаешь, сандаль соскакивает, а ты сидишь высоко-высоко…
Привезли гроб. Страхов, как всегда, командовал: «Сюда, сюда, проносим». За ним вошла мама, в черном платье, в бабской нелепой черной косынке, она ей совсем не идет. Редактор к ней подошел, бывшие коллеги толпились в нашей маленькой гостиной, проходили соседи и куча других незнакомых людей… А я смылась. Да, сбежала. Запахло свечами, деловые тетки-читалки раскладывали псалтырь. Я прошмыгнула у них за спиной, только слышу, бабушка к ним пристает: где отец Михаил, да где отец Михаил.
Я не хочу стоять в толпе как чужая. Я хотела подойти одна, заорать погромче… Не знаю, что… Ну, может быть… «Папа! Мы даже не попробовали сделать эту сраную газету!» Поговорить не успели. Гроб закрытый, душа улетает, и я бегу из дома. Бегу к своему другу Зильберштейну.
Счастливый человек Зильберштейн! Его родители все время где-то далеко. Вечно у них то собачьи выставки, то какие-то деловые поездки. Дом и сад свободны. Там живут красивые черные ньюфаундленды, шныряют драные коты, скрипит старая, почти старинная, мебель, бьют часы. Я хочу себе такой же дом, с яблонями, с цветами, с собаками, с котами… Да! С котами! Но лучше без часов. Часы меня нервируют. Толкают в спину, бьют по мозгам…
– У тебя никого? – я спрашиваю Зильберштейна.
– Да, никого, никого. – Он мерзнет на ветру в одной рубашке и открывает мне калитку.
Я прохожу в сад. Достаю сигареты. Он выносит чай. Накинул куртку на плечи.
– У нас похороны, – говорю ему.
– Я знаю. – Он щелкает зажигалкой.
К столу подходит растрепанная черная сучка и глухо рычит на меня.
– Что это она?
– У нее щенки вон там, за столом. – Зильберштейн погладил собаку. – Глэдис, не ругайся. Это хорошая девочка, не рычи.
Он поднял одеяло, открыл большой деревянный контейнер. Там было шесть щенков. Пушистые, вонючие. Собака на всякий случай отодвинула меня в сторону.
– А хочешь, возьми себе одного, – улыбнулся Зильберштейн. – Возьми!
– Но это же дорогие собаки… – я потрогала одного за ушко. – Неудобно…
– Я хотел тебе подарить. – Зильберштейн серьезный, он со мной не кокетничает, просто кивает: – Правда хотел подарить, бери.
– А какого?
– Какого хочешь. Сейчас выпустим, пусть побегают.
Щенки раскатились по траве. Собака загоняла их в кучу мягким носом. Они подпрыгивали за танцующими желтыми листьями. Зильберштейн вытянул ноги и спрятал нос за высоким воротником. Это единственный человек, с которым я могу спокойно выпить чай. Просто молчать, пить чай и смотреть на старый продрогший сад.
– Можно, я этого возьму? Его все кусают.
– Ты кто у нас? – Он подобрал щенка и развернул теплым черным пузом. – Мальчик.
– Спасибо, – говорю. – А родители ничего? Твоя мама меня не прирежет?
– Да когда ж это кончится! – Он положил щенка мне на руки.
Я притащила его в свою комнату и опустила на пол. Мама сидела в кресле на кухне. Рядом настойчиво вампирила бабушка. Бубнила монотонно: «Ох, Витька, Витька… Что ж ты с нами сделал… Хоть я тебя и не любила…» Она совсем испортила монолог скорбящей тещи. Видимо, все актерское мастерство было потрачено на генсеков.
– Мам, а ты девчонку Танькину видела? – спрашиваю, а сама шарю глазами, что бы такое сожрать.
– Да, видела, – она вздохнула. – Завидую я этим простым бабенкам. Муж алкаш, сама пашет с утра до ночи, детей куча, денег нет, а ей плевать, ничего не боится, рожает себе от кого хочет – и все дрозды до… – до конца она не договорила, нет, не стеснялась меня, просто не договорила, уставилась в одну точку и задумалась.
Я прожевала котлету. Бабушка в десятый раз захныкала:
– Витька, Витька… Что ж ты с нами сделал… Хоть я тебя и не любила…
– Ну сколько можно! – заорала на нее мама. – Иди уже к себе! Проводи ее, Соня, отсюда!
Я увожу бабушку. Помогаю ей влезть на лестницу. Наверняка она специально выбрала себе мансарду, чтобы все с ней нянчились.
В моей комнате горит ночник. Я кладу на коленки Пушкина. На Пушкина белый листок. Начинаю: «Антон, у меня случилось»… Нет. Начинаю: «Мой папа…» Нет – швыряю бумагу на пол.
Щенок заплакал. Написал мне на ковер. Беру его в постель. Достаю новый лист и пишу: «Антон! Представляешь, мне подарили щенка! Он похож на тебя…»
Я и сама не понимала, до какой степени мне была необходима его близость, его физическое присутствие. Идешь так иногда под дождем, и вдруг ни с того ни с сего захочется взять его за руку. Или сидишь у себя в студии, передачу монтируешь и вдруг думаешь: «А плюнуть бы на все и понюхать, как он пахнет».
Антон далеко. На поводок я цепляю щенка. Выхожу с ним в поле и там отпускаю побегать. Он несется по черной земле, его уши смешно отворачиваются. Вороны всей ордой шарахаются в небо, каркают, как старухи, и солома разлетается на ветру золотыми нитками.
«Антон, – я сажусь за письмо, а руки еще с холода не согрелись, – скоро снег выпадет – вообще красота будет! Черный ньюф на белом. Ты представляешь?»
И почтальонша уже ковыляет, несет мне ответ из Костромы: «Соня, что со мной творится! Как только увижу на улице девушку с черной собакой, сразу догоняю и смотрю… Знаю, что я похож на ненормального, но все равно думаю: «А вдруг!»
Этого щенка Антон не увидел. Мне не везло в том году – собака умерла. Зильберштейн сразу показал мне ветеринарный справочник: «Энтерит. У щенков до года смертность восемьдесят процентов».
– Нет, ты что, – говорю, – это у каких-то там щенков, не у моего. За ночь откачаем.
На рассвете, в половине пятого, Зильбершейн вышел на кухню к моей маме. Они пили чай и ждали – скоро уже закапывать. Я потрогала ледяные черные лапы и легла на пол рядом со своей несчастной собакой. Глаза у него были совсем не щенячьи, и у меня, наверно, тоже. Мы смотрели друг на друга и понимали, что до смерти осталось несколько минут.
Да, я сообщила об этом Антону. Я хотела ему рассказать, что в последнюю секунду собака увидела в воздухе что-то страшное, и все услышали громкий обреченный, совсем не звериный, нет, почти человеческий вой… Хотела рассказать, но не смогла. В письме не получилось.
Неделю я пила какое-то старушачье успокоительное, позвонила, когда все прошло.
– Как жалко, что я далеко… – он сказал. – Ты не очень там? С тобой все нормально?
– Да, я уже веселенькая, – говорю.
– А я пролез на наше телевидение!
– Да? Молодец!
– Молодежная редакция, – он завилял хвостом, – начнем свою программу делать. Вот сейчас название придумываю… Надо из песенки что-нибудь… Простенькое… «С чего начинается родина…»… Покатит? Не слишком наивно?
– Нет, – засмеялась я, – не слишком. Я рада за тебя.
– И я рад. Но… это все ерунда. Главное – я тебя люблю.
Мы еще стояли у своих телефонов, еще бубнили друг другу «я тебя люблю» и не знали, что нас уже давно несет по реке, как два бревна, и какие-то сволочи толкают нас баграми – грузить на разные баржи.
35. Первая любовь моего мужа
Что творится – сегодня вечером меня не гонят из офиса. Погладили по спинке! И я, скромна, как лань, вытягиваю несколько купюр у тигра из борсеточки. Обожаю это легкое скользящее движение, когда новые банкноты сами переползают ко мне в ручку. Целую черные кудри – и бежать, бежать, бежать, подальше от барской милости.
– Подожди, крошка, – муж меня удержал, – я тебе хотел прикольный сайт показать. Смотри. Поисковая система, можно кого хочешь найти.
Он открыл свою страницу, там уже висели наши общие фотографии. В окошке появилось сообщение: «Привет, как дела?» Это Вероника, наша, так сказать, одноклассница. Тигр ответил: «Все ок. А у тебя?» Ах вот какие появились штучки! А я-то, домработница, не в курсе.
– Сейчас, Софья Викторовна, мы найдем всех ваших мужиков. – Тигр показал мне кулак. – Вот они, вот тут вот все у меня будут!
– Каких мужиков? Не было у меня никаких мужиков…
– Давай, давай, – он посадил меня к себе на коленки, – диктуй…
Я обняла его за плечи. Прислонилась щекой к щеке и говорю по слогам: Дмит-ров-ский.
– О, это новый какой-то. Я уж думал, всех знаю.
Муж нажал «поиск». Появилась всего одна строка, всего одна фамилия и фото. Лоб… глаза… Это он! Нос… губы… Он!
– Что это у тебя так сердечко забилось? А?
– Ничего у меня не забилось. – Я ныряю в монитор.
Живой Антон! Я хотела превратить его в туман, убедила себя, что он мне только снился, а он и вправду был. И даже есть! Вот, полюбуйтесь. Глядит из-под бровей, глазами хватает, лоб наморщил, усмехается, руки крестом на груди, плечи в пиджак не помещаются, волосы сбриты, в ухе серьга … Таких раньше в бурлаки брали.
– Брутал… Брутал… – протянул мой тигр. – Крошка! Что ж тебе всю жизнь гиббоны-то нравятся?
– Да это он снимал что-нибудь… для работы… Про бандюков про каких-нибудь… Это постановочная фотография!
Какая постановочная? Это он, то, что из него получилось, то, что я почувствовала еще там, на море, когда нам было всего пятнадцать. Пятнадцать! А сейчас тридцать. И что? Я не заметила, как прошли эти годы. Я слышала, что время быстро пролетает, но думала, это чье-то там время, не мое.
– Жми сюда, здесь еще фотки, – подсказывает Антон, – что-то он разный везде какой-то. Темная личность.
Я листаю альбом. Вот его сын. Жена толстушка. Еще одна жена. Антон в костюме! Я падаю! Сидит в каком-то подозрительном ресторанчике. Полы в шахматную клетку. Опять на нем дурацкие очки! Вот его студия. Командует, висит над пультом. Кошмар! У него шерсть на груди! У него живот!
– Ох, а покраснела-то вся! – Тигр смотрит на меня, как на приболевшую собачку. – Смотри, какие у него тут постики прикольные.
Тигр сделал серьезное лицо и начал читать с выражением:
– «Я рожден в дремучих лесах… меня кормили салом с кровью, а не молоком»… Оно и заметно. «Ни одна женщина от меня никогда не уходит…» – Тигр пошевелил бровями. – Мечты, мечты… «Я ломаю судьбы, я талисман, несущий счастье, я фокусник»… Он фокусник! – Тигр усмехнулся и вынес свой вердикт: – Журналисты херовы!
– Смотри, Антон, у него музыка, та самая, латино, там включали, на море.
Я жму на «play». Мне душно. Да, сердце и правда бьется. Я прошу своего тигра:
– Сделай мне тоже такую страницу.
– Давай, – говорит, – мы тебя сейчас нащелкаем. Только губы накрась, бледная ты у меня какая-то.
Домой подниматься лень. Я пошарила немножко в Олином ящике, достала вишневую помаду из вражьей косметички.
– Дай, я сам накрашу. – Муж отодвинул кресло к той стене, где висит маяк. – Садись сюда. Повыше. Ножки вытяни. Так, прекрати мне тещины морды строить. Улыбайся. Подумай про что-нибудь приятное.