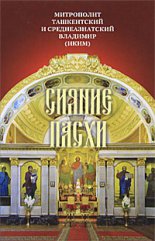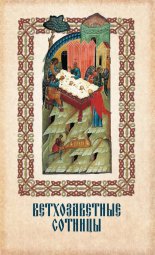Три блудных сына Марнов Сергей

– И?
– Горазд же ты врать, Еремей Ульяныч! У тебя написано, что царь Иван Грозный построил 155 крепостей и триста городков… да на Руси их всего, от силы, двести – и новых, и старых. Тебе поверить, так он всю державу застроил! Интересно, кем? Тогда полстраны с голодухи вымерло…
– Не мог я этого написать, сам понимать должен… чем могущественней Русь, тем значительней была моя роль в политике, тем больше чести всему роду.
– А правда значения не имеет?
– В политике? Конечно, не имеет; только впечатление что-то и значит.
– Но и врать надо умеючи! Вот, ты пишешь, что Иван Васильевич убил в Новгороде 700000 человек. Это что же получается?! Государь согнал в Новгород, чтобы убить, население всех русских городов, вместе взятых?!
– Ну… европейцу трудно понять, почему поселение в пятьсот человек у вас городом называется. Что еще не так?
Нагой помялся, потом прямо взглянул в глаза собеседнику и тихо заговорил:
– Ты, Еремей Ульяныч, почти двадцать годков на Руси прожил, вон, как по-нашему шпаришь. Добра твоего никогда не забуду… как прятал меня от ищеек годуновских, как сам при этом жизнью рисковал, а не выдал! Тогда убивали не только тех, кто видел убийство царевича Димитрия, но и тех, кто самовидцев слушал. Все помню! Как грохотали в твою дверь сапоги, а ты меч свой из ножен потянул… закрою глаза, и слышу этот шорох – сталь о кожу!
– Перестань! Я дяде твоему, Федору Нагому, тоже многим обязан. Да и ты, Михал Михалыч, не раз мне спину прикрывал. Квиты.
– Нет, не квиты! То на тайной службе было, Лизавете-королеве, да Якову-королю. За службу я поместье с гербом получил и живу припеваючи. Детишкам есть что оставить… детишки, правда, ни гу-гу по-русски, ну да ладно. Я к тому, что тебя, Еремей Ульяныч, благодетелем своим считаю и другом, а сказать должен – грех на тебе!
Появление слуг с подносами прервало разговор. Многолетняя привычка разведчиков заставляла быть осторожными даже тогда, когда существовала почти абсолютная гарантия, что русского языка в радиусе многих миль вокруг не знает никто. Останавливало это неуловимое «почти».
Позавтракали с аппетитом, под традиционный стариковский разговор: «Там болит, здесь стреляет». Лишь когда слуги унесли последний поднос, а сэр Джером раскурил трубку с длинным тонким чубуком, он благодушно спросил:
– Какой еще грех?
– Клевета, Еремей Ульяныч. Половины тех гадостей, что ты написал про царя Ивана, не было.
– Знаю. Но ведь другая половина гадостей – была?
– Было гораздо больше и страшнее, чем ты написал, но это – его грех, и сейчас он за то ответ держит, а вот клевета – твой. И так человек тяжкий груз на тот свет потащил, а ты ему еще добавляешь. За что ты его так ненавидишь? Лично тебя он просто осыпал милостями…
– Дай-ка подумать, – сэр Джером задумчиво уставился в прошлое, которое видел в клубах табачного дыма, и надолго замолчал. Наконец разглядел что-то, усмехнулся и удовлетворенно кивнул головой. – Чтобы объяснить это как следует, Шекспир[134] нужен. Помнишь того лысого поэта, с которым я тебя знакомил лет десять-пятнадцать назад? Недавно вышел в свет фолиант его пьес, очень занятно, почитай. А! Ты же и не читаешь ничего, кроме Библии…
– А больше ничего человеку и не нужно… еще жития православных святых, да здесь их и не достать, – Нагой не отводил от Горсея испытующего взгляда. – Да ты говори, хошь сам, хошь через Шекспира своего лысого…
– Ну, если всю правду, то это страх. Я бывал в разных переделках, во многих – вместе с тобой, и никогда никто не называл меня трусом. Но после встреч с вашим царем мне пару раз приходилось штаны менять, и не в переносном смысле. Я встречал в книгах такие сильные выражения, как «застыл от ужаса», «смертный страх охватил его», и так далее. Пробегал глазами и не обращал внимания, думал, это просто так принято у литераторов. Так вот, когда я увидел Ивана Грозного, вспомнил все эти выражения, еще и свои придумал.
– Поэтому ты и написал, что он тысячу девиц растлил, да тысячу младенцев, детишек своих, собственными руками задушил?!
– Положим, это он сам мне сказал, я ничего и не придумал!
– А показать тебе, как?
Нагой встал, сделал «страшное» лицо и начал дико вращать глазами. Пальцы вздетых над головой рук зашевелись, как лапки у паука, а из оскаленного рта послышались заунывные, мертвящие звуки:
– Я тысячу девиц растли-ил!!! Я тысячу младенцев задуши-ил!
Когда Горсей подавился дымом от хохота, Нагой со смешком добавил:
– Да, любил государь пошутить, покривляться, что и говорить! Перед крымскими послами такое устроил[135], что вся Москва смеялась… сквозь слезы. Но надо же отличать шутку от правды!
– Ага! – легко согласился Горсей. – Шутник был государь! Я его шуточки хорошо помню.
Он выпустил целое облако сизого дыма и начал задумчиво что-то рисовать в нем чубуком трубки. Наконец, рисунок окончательно сложился в старческой памяти, и сэр Джером веско сказал:
– А вот еще хорошая шутка: приказал повесить князя Овцына, а рядом с ним настоящую овцу; вроде как, две овцы рядом висят. Меня еще локтем в бок тыкал, предлагал вместе посмеяться; в гробу вспоминать буду.
– Но он же и много хорошего сделал: татар усмирил, постоянное войско создал, а уж управление державой придумал такое, что благодаря ему Русь пережила Смуту!
– Ну да, ну да. Только никой бы Смуты и вовсе бы не случилось, если б царь Иван своими «шуточками» страну не разорил!
Нагой сел обратно в кресло, плечи его бессильно опустились; ответить было нечего.
– Бог ему судья, Ульяныч, – тихо сказал он. – Бог, а не ты. Царь Иван каялся, он старался вырваться из греха, подняться над собой. Он, как моя родная страна: сил – немерено, света хочется, добра, а вместо этого – пьянство, разгул, мордой в грязь; и снова на ноги, и к свету, к свету! Вам, европейцам, не понять этого, хоть и сотню лысых Шекспиров вместе соберете. Вот ты, умнейший из англичан, встречался с нашим святым, Микулой Псковским, и что увидел? «…Мошенника или колдуна, жалкое существо, нагое зимой и летом…»[136] Вот уж поистине: «уста имут, и не возглаголют; очи имут, и не узрят»[137]! Ты каждый день видел, как мучается царь Иван, и не пожалел.
– Но разве можно жалеть упыря, тирана, кровопийцу?!
– Можно, Еремей Ульяныч, и нужно, если тиран кричит, просит тебя о жалости, умоляет, руки к тебе тянет! Милосердие Божие выше человеческой справедливости, а нам всем стоять перед Высшим Судом, никто этого не избежит. Может быть, тогда и зачтет нам Господь капельку жалости к тому, кого и пожалеть-то невозможно? Может быть, эта капелька окажется решающей для нашей судьбы?..
Блаженная помоги!
Повесть из недавних времен
Имена и некоторые названия изменены, так как живы еще дети и внуки непосредственных участников событий. Особую благодарность за уникальные сведения о блаженной Матроне Анемнясевской автор выражает Бугаенко Татьяне Андреевне, поделившейся воспоминаниями своей бабушки, Урклиной Домны Александровны (1890–1977 гг.)
Глава 1
«Ну и дорога! Это не дорога, это издевательство над самим понятием перемещения в пространстве! Что это за дорога такая, которую в некоторых местах надо лесом объезжать?! Нет, в социализм по такой дороге не въедешь!» – так размышлял сотрудник УНКВД по Московской[138] области, старший лейтенант госбезопасности[139] Маузер.
Свою природную фамилию – Хамерклоп – он поменял еще во время гражданской войны, что в те времена делалось исключительно легко, и старорежимные свои корни вспоминать категорически отказывался.
Что это еще за «клопы» такие во время грандиозной революционной бури?! Правда, многие в руководстве смеялись, прочитав его анкету, и не раз этот смех становился на пути карьеры, но… где они теперь, те, кто смеялись? Исчезли куда-то… у Маузера даже примета сложилась, верная примета: если кто из начальства уж очень веселится по поводу его фамилии-имени-отчества, значит, исчезнет скоро.
А ему что? Пусть люди смеются, коли весело им. В далеком детстве мудрый дедушка не раз говаривал: «Не огорчайся, Изя, если люди смеются над тобой. Смеются – значит, радуются, а если радуются, то и не обидят!» Его, и правда, не обижали.
Пусть служба в рязанской глухомани, в медвежьем углу; пусть его считают глуповатым и карьерный рост, видимо, достиг потолка, пусть! Зато и спецпайки, и путевки в лучшие санатории страны он получает исправно, а вот некоторые весельчаки почему-то машут кирками на дальних стройках социализма. Говорят, недавно сам Генрих Ягода[140], нарком внутренних дел, чуть не лопнул от смеха, читая личное дело старшего лейтенанта Маузера: «Был клоп – стал Маузер. Растут люди!» Жалко будет, если и Ягода исчезнет. Все-таки, нарком до благоразумной смены имени назывался Енох Иегуда…
– Далеко еще? – раздраженно спросил чекист, в очередной раз крепко приложив тощий зад о жесткое сиденье «полуторки»[141].
– До поворота с шоссе на проселок еще пять километров, товарищ старший лейтенант, – ответил шофер.
– Какое шоссе?! Где?!
Дорога, будто испугавшись, стала ровней, и мысли Маузера опять потекли плавно:
«Не знал я, когда брал боевую фамилию, что у товарища Маяковского есть стихотворение «Левый марш»[142], а то еще бы подумал. Долго не мог понять, почему простое обращение председателя на партийном собрании: «Ваше слово, товарищ Маузер!» – всегда вызывает нездоровое веселье аудитории. Надо же, как подгадил Маяковский! И ведь не холомозер[143] какой, а великий пролетарский поэт! Зато после Гражданской, во время кампании по изъятию церковных ценностей, никто из церковников не улыбался, услышав грозное имя: «Изя Гадович[144] Маузер». Товарищ Ленин тогда приказал, пользуясь уникальным историческим шансом, расстрелять как можно больше попов, и чекисты выполнили его приказ! Жаль, что не всех…»
На это дело старший лейтенант мог и не ехать, не по чину ему заниматься такими мелочами, как изъятие сельской религиозной кликуши, но… захотелось вспомнить боевую молодость, тряхануть мракобесов! Любить надо свою работу, как любил ее товарищ Ленин! Вот был человечище!
– Поворачиваем, товарищ старший лейтенант! Теперь два километра, и мы на месте!
Узкая дорога пошла лесом, ветви деревьев иногда задевали крышу грузовика. Охрана в кузове встречала каждую ветку веселым смехом… молодежь! И ухабы им нипочем… впрочем, ухабами это назвать трудно, скорее – волнами. Вверх – вниз, вверх – вниз… опытный шофер притормаживал на спуске и давал газ на подъеме, получалось плавно… слишком плавно…
– Стой! – крикнул Изя Маузер, едва успев выпрыгнуть из кабины. Тошнота подступила внезапно, он ухватился за ствол березы, наклонился и весь свой завтрак выложил на землю.
– Укачало, товарищ старший лейтенант? – слышались из кузова участливые голоса вохры[145]. – Сухарика пожуйте ржаного… помогает.
Чекист утерся носовым платком, сухарик послушно взял и засунул в рот. Действительно, помогает… до окраины деревни доехали без приключений.
Глава 2
Тошно было на душе у председателя сельсовета Петра Аркадьевича Троицкого, так тошно, что не помог бы никакой сухарик. Сегодня заберут Блаженную, и никто на всем свете не поймет, что означает это событие для села, для людей, для него лично. Не одно поколение выросло рядом с Чудом, к Чуду привыкли, о нем говорили просто, без страха… знали, и все. Знали, что Блаженная может заглянуть в будущее, может вылечить от любой болезни, может сказать слово – и отступит беда. Не все к ней обращались, но даже партийным было легче жить от сознания, что Чудо рядом, только шаг сделай, один шаг! Партийные – они тоже люди…
Много лет назад маленького мальчика Петю вылечил камушек, один-единственный камушек, который передала его матери Блаженная… мать не знала, что делать с камушком, просто отдала его сыну, и все. Петя зажал подарок в кулачок, сунул под подушку и тут же крепко уснул, без боли и жара, первый раз за несколько дней!
Петр Аркадьевич тяжело вздохнул, припомнив ощущение надежной твердости камня в детском кулачке. Еще вспомнилось, как ходил благодарить Блаженную, как мама подтолкнула его под занавеску, которой была закрыта кроватка… и как потом, обижаясь на недоверчивые смешки, он рассказывал взрослым:
– Она не слепая, она же смотрит, и глазки открыты! Синие-синие, как небо!
Потом Петр узнал, что многие дети видели ее вот так – зрячей… Однажды он, став уже совсем большим парнем, шел ночью по лесу. Решил немного срезать, свернул на знакомую тропку – и неожиданно заблудился. Страшно стало: в лесах Мещеры полно волков, да и медведи не редкость. Уже и вой отдаленный почудился, отчего совсем плохо сделалось; уже и звезды, сквозь черноту сучьев мерцающие, стали казаться волчьими глазами… Вот тут-то первый раз в жизни и крикнул Петя два слова, которые в трудные минуты повторяли, шептали, стонали и орали все его односельчане:
– Блаженная, помоги!
Страх отступил, а над головой вдруг звонко запел соловей, которому было и не время, и не место. Птичка мелькала перед самым лицом, садилась на кусты и звала, вела за собой; вскоре тропинка под ногами стала широкой и удобной, послышался собачий лай, а между черными деревьями показались отдаленные огоньки окон родной деревни…
А позавчера они, сельские активисты, во главе с председателем сельсовета Троицким, приняли постановление просить органы НКВД изъять Блаженную. О том, что такая просьба со стороны селян весьма желательна, председателю усиленно намекали уже давно, чередуя намеки с угрозами. Неделю назад его вызвали в район и сказали прямо: больше тянуть нельзя. Или-или. Делать нечего – собрал актив, рассказал все как есть, проголосовали единогласно. Вся деревня потом вслед плевала…
Из леса выскочил зеленый грузовичок и бодро побежал через поле к деревне. На окраине начинался крутой подъем, который надо было одолевать с ходу, но шофер этого не знал и разогнался недостаточно. Машина замедлила ход, противно завизжала двигателем и встала, увязнув по брюхо в песке. Охранники попрыгали из кузова – выталкивать, а из кабины вылез маленький и тощий человечек в синих галифе, сверкающих сапогах и зеленой гимнастерке, на рукавах которой пламенели, издали бросаясь в глаза, красные звезды. На голове человечка чудом держалась огромная голубая фуражка с малиновым околышем… да. Крупный чин; может, даже из самой Москвы.
– Как мне найти председателя сельсовета, товарищ колхозник? – спросил офицер, отдуваясь после подъема.
– Я председатель, – уныло сказал Петр Аркадьевич.
– Троицкий Петр Аркадьевич? А я – старший лейтенант госбезопасности Маузер, будем действовать сообща. А что это за бумагу вы нам прислали, товарищ Троицкий?
– Постановление… эта… сельсовета, значит.
– Как же так, товарищ? Вот это постановление, у меня с собой, послушайте: «Данная гражданка является вредным элементом в деревне, она своей святостью сильно влияет на темную массу. Ввиду этого задерживается ход коллективизации…»[146]. Как это понимать? Получается, что она действительно святая? И чудеса творит?
– Творит. Ох и творит… не остановится никак.
– Наша задача, товарищ Троицкий, объяснить и наглядно показать «темной массе», что никаких чудес и никаких святых не бывает. Я вот своими руками вскрыл десятки так называемых мощей – и ничего, жив и здоров, как видите.
– Вижу…
– Ну так и перепишите свое постановление!
– Опять актив собирать… не получится. Запил сильно.
– Кто?
– Эта… кворум.
– Да, товарищ Троицкий, много еще пережитков проклятого прошлого нам мешают! Пьянство – еще не самое страшное. Ага! Вот и машину вытащили. Далеко отсюда до места расположения… э… объекта?
– Рядом совсем. Вон, дуб виден… там.
– Что же, пройдем пешком, авто следом поедет. А постановление вы, все же, перепишите, нехорошо получается.
– Тудыльча…
– Простите, не понял.
– Эта… скоро, значит. Как только кворум протрезвеет, так и сразу.
Грузовичок обогнал их: шоферу, видимо, подсказали, куда ехать. Старший лейтенант выругался, глотнув пыли, но сердиться не стал: понимал, что песочные ловушки надо преодолевать на скорости. Вдруг из облака пыли проступило видение, от которого чекиста замутило, еще хуже, чем от лесной дороги.
– Не может быть… этого не может быть, – прошептал Маузер и даже на шаг отступил назад.
Существо, родившееся из пылевого облака, было проклятьем всей служебной и личной жизни чекиста Маузера, его ночным кошмаром, его неизбывным горем! Старший майор[147] госбезопасности Клим Собакин был бы весьма удивлен, узнав, какие эмоции вызывает у человека, которого считал своим старым другом и соратником…
…Они познакомились еще в двадцатом, когда Маузера прислали комиссаром в отдельный отряд ЧОНа[148] к бесшабашному и вечно пьяному Климу Собакину – дисциплину подтягивать и генеральную линию партии обеспечивать.
С первой же встречи Клим почему-то решил, что его комиссар – «свой в доску», «настоящий мужик», «другая», «братишка» и «кореш», и поэтому просто обязан в огромном количестве поглощать зловонный, омерзительный самогон. Жалкие попытки комиссара держаться официально воспринимались Климом как остроумная шутка и заканчивались всегда одинаково: каскадом дружеских тычков, шлепков и затрещин. Если учесть, что кулаки у Собакина были размером с комиссарскую голову, а рост и стать – поистине богатырские, легко понять, почему Маузер соглашался, в конце концов, «выпить капельку».
– Ха-ха-ха! – грохотал Клим Собакин. – Знаем мы твою капельку! Ща стаканищу засосешь!
Облапливал за плечи несчастного комиссара и тащил к столу, на котором, посреди тарелок с огурцами и некошерным салом покоилась огромная бутыль с мутной жидкостью, от одного вида которой начинались спазмы в желудке и боли в печени. Если при этой сцене присутствовал еще кто-то, Клим объяснял с суровой дружеской нежностью:
– Это же Гадыч, корешок мой… мировой мужик!
Миновали грозные годы, ушли в прошлое лихие налеты на монастыри, но возможность встретить в коридорах Лубянки «старого друга» по-прежнему повергала чекиста Маузера в ужас, и не без основания. В каждый свой приезд в Москву, подходя к уродливому гранитному сундуку ВЧК – ГПУ – НКВД Изя шептал, как заклинание:
– Только бы не Клим, только бы не Клим…
Заклинания не помогали: Клим его как сердцем чувствовал и тишину грозного учреждения в клочья рвал восторженный рев:
– Ты где пропадал, скотина?! (По плечу – хлоп!) Чтоб ты сдох, свинья! (По другому – хрясь!) Сдавай скорее свои бумажки, и – ко мне! (Кулаком – в пузо!)
И пусть генеральский чин позволял Собакину заменить самогон дорогим коньяком, объем «стаканищ» по-прежнему был убийственным…
…Из облака пыли проявился Клим, но в каком виде! Голый по пояс, жирное брюхо переваливается через резинку грязных сатиновых шаровар, лысину прикрывает расшитая узбекская тюбетейка.
– Гадыч, скотина, чтоб ты сдох! – Клим сгреб его в потные объятья и принялся тискать, время от времени бросая реплики угрюмым зрителям, стоявшим около своих домов: – Это же Гадыч, дружок мой закадычный! Мы с ним еще в Гражданскую попов душили!
– Что с тобой, Клим? – осторожно спросил Маузер, потихоньку высвобождаясь из объятий. – Почему в таком виде?
Безумная надежда, что «старого друга», наконец, выгнали из органов за пьянство, наполняла душу тайным ликованием.
– А! В отпуске я, у тетки гощу. Надоели эти курорты: режим, кислятина вместо вина – тьфу! Самогон здесь – не поверишь, как в молодости! Заканчивай скорее дела и гульнем, вспомним Гражданскую!
У Маузера подкосились ноги, печень заныла тоскливо.
– Не могу, прости, никак не могу: должен сопровождать арестованную…
– Блаженную? Брось, без тебя сопроводят. Парализованная слепая старушка метр ростом – куда она денется? Вот, председатель и сопроводит… правда, Петька?
– Эта… бумагу пусть. Приказ.
– Напишет тебе Гадыч бумагу, не волнуйся. Что-то все пугливые стали, с Блаженной этой… Честно говоря, и я не в своей тарелке. Если бы не самогон…
Глава 3
Домик, где уже несколько десятилетий лежала Блаженная, расположился в кругу вековых дубов и старых, но еще плодовитых яблонь. Плотная толпа людей окружила полуторку и охранников, но никаких внешних признаков агрессии не выказывала. Напряженное молчание сковало и местных, и приезжих. Надвигалось не просто событие – близилось Свершение, один из тех редких моментов бытия, когда временное соприкасается с Вечным. Тоскливо стало старшему лейтенанту Маузеру, так тоскливо, что почему-то захотелось завыть по-собачьи.
– Мистика, – досадливо бормотал чекист. – Если даже я это чувствую, то каково темным массам?
– А ты им речугу толкни, Гадыч, – почему-то шепотом сказал Клим. – Раньше у тебя это здорово получалось…
– Может, лучше ты?
– Ага! – хохотнул Клим. – С голым пузом и в тюбетейке!
Делать нечего. Изя прокашлялся, зачем-то снял фуражку и крикнул:
– Товарищи! Сегодня мы делаем еще один шаг на пути к светлому социалистическому будущему, избавляясь от груза проклятого, рабского прошлого! Мы изымаем так называемую Блаженную, которая годами морочила вам головы сказками о так называемом Боге! Она…
Слова застряли в горле чекиста, будто кто-то заткнул ему рот. Факты из «дела» Блаженной вереницей потянулись в сознании: исцеления, исцеления, исцеления… Возмутительное, противоестественное бескорыстие и терпение, сверхчеловеческое терпение, какого и быть-то на свете не может! Что сказать, что?!
– Она своей святостью задерживает ход коллективизации! – сказал Маузер и сам ужаснулся сказанному. И как его угораздило?! Хуже всего то, что Клим раздвинул похабной улыбкой свою пропитую рожу и показывает большой палец, сволочь. Изя сделал вид, что закашлялся и сурово приказал командиру конвоя:
– Приступайте к изъятию, товарищ старшина.
Никто не двинулся с места, лишь командир конвоя улыбался смущенно. Неповиновение, невыполнение приказа! Ярость охватила чекиста, пальцы сами потянулись к деревянной кобуре с наградным маузером – единственной неуставной вещью, которую он себе позволял и называл ласково «братишка».
– Погоди, Гадыч, не горячись, – прошептал на ухо Клим, удерживая его руку на полпути к оружию. – Попробуй сам подойти к дому поближе, поймешь, в чем дело.
Изя решительно пошел к избе, но больше трех шагов сделать не смог: лютый, безнадежный страх скрутил его, полностью парализовав волю. Старший лейтенант осторожно перевел дух и отступил назад. Страх отпустил, осталось лишь ощущение мертвящей тоски.
– Что за чертовщина?!
– Нет, Гадыч, там – по другому ведомству, – Клим горько усмехнулся. – А чертовщина – это мы с тобой. Я несколько раз пытался к ней подойти, охота поглядеть было – не смог. Ни пьяный, ни трезвый. Видно, у нас слишком много за спиной такого… ну, ты помнишь, какого. Всякого.
– И ты во все это веришь?
– А ты – нет? Против чего же мы боролись, против пустоты?
– Ну… суеверия, поповские сказки, – жалобно проблеял Маузер.
– Узко мыслишь, поэтому генерал я, а не ты. Ладно, Гадыч, не боись, прорвемся. Петька, сходи, возьми Блаженную! Видишь, кроме тебя некому.
– Эта… не пойду.
– Как это не пойдете?! – вскинулся Маузер. – Я вам приказываю, товарищ председатель сельсовета!
– А я в органах не служу, – огрызнулся Троицкий.
– Петька, – ласково проговорил Клим, – с огнем играешь. Вот арестует тебя Гадыч за саботаж важного политического мероприятия, скоро ли домой вернешься? Дети без папки вырастут! А про деревню вашу новую разнарядку напишут – на раскулачивание. Сочувствующих там, подкулачников всяких…[149] Три-четыре семьи наскребем, да за Урал вывезем. Хорошо будет? Иди, вытаскивай Блаженную, не артачься.
Петр Аркадьевич обвел глазами угрюмую толпу, пытаясь найти сочувствие в лицах односельчан. Куда там! Отвращение, ненависть, страх – только не жалость. Слезы потекли по лицу председателя, он наклонил голову и пошел к дому.
Глава 4
В темной каморке стояла маленькая кроватка, которую можно было бы назвать детской, если бы не крошечная слепая старушка, которая в ней лежала. Старушка непрерывно перебирала недоразвитыми ручками предметы, лежавшие у нее на груди, при этом тихонько напевала что-то церковное, давно забытое Петром Аркадьевичем. Голос Блаженной был удивительно чистым, и пела она красиво, правильно, будто училась этому всю жизнь. Рядом с кроваткой, на низкой скамейке, две женщины в черном окаменели от горя.
– Петя? – спросила вдруг Блаженная, прервав пение. – Что не шел так долго? Помог тебе мой камушек?
Петр Аркадьевич попытался ответить, но лишь слабый хрип вырвался из перехваченного спазмом горла.
– Ты не отвечай, Петя, если не можешь, – вздохнула Блаженная. – Жалко мне тебя, жалко. Глупый ты, заблудился совсем, упал, в грязи валяешься, а встать не хочешь… и соловушку уже не слышишь, бедный.
– Да как встать-то?
– Трудно, трудно, а ты потрудись, потрудись… Как совсем тяжело станет, благодари скорей Господа, это Его подарок; и проси помощи у Пресвятой Богородицы. Трудна жизнь, трудна; помоги, Господи, крест понести… А если невмоготу терпеть станет, меня вспомни да позови – услышу, помолюсь.
– Ты добрая. А я пришел, чтобы…
– Знаю. Как вытаскивать меня будешь, не дергай сильно, тихонько бери. Больно мне, Петя, очень больно, и Слава Богу! Только… могу не переневолиться, закричать: жар в голове, и слабость. Ну, что же ты? Бери скорей!
Петр Аркадьевич послушно шагнул вперед и наклонился над кроваткой.
Глава 5
– Брось, Гадыч! Отлично ты понимаешь, против Кого мы боремся! Это и здорово, аж дух захватывает! И пусть все наше только здесь и сейчас, зато все, что здесь и сейчас, – наше!
Маузеру стало не по себе. В звенящей тишине, сомкнувшейся вокруг домика Блаженной, пьяная богоборческая проповедь Клима звучала особенно жутко; но и не слушать его было невозможно.
Вдруг тихий, на высокой ноте звучащий крик послышался из дома, и как бритвой обрезал разглагольствования Собакина; все возможные слова, которые он мог нагромоздить, оказались жалкими, праздными и неуместными перед этим криком. Распахнулась дверь, и будто солнечным огнем резануло по глазам Клима и Маузера; они невольно попятились назад.
На пороге дома стоял Троицкий с небольшим черным свертком на руках. Председатель жалко улыбался и растерянно повторял:
– Какая легкая… легкая какая!
– И твои детки, Петя, такими легкими будут, – послышался мелодичный, почти детский голосок. – Им и тебе это не в наказание, а как памятка: помнить будете – спасетесь, Господь милостив!
Этот голос будто плеткой хлестнул Изю. Чекист распрямился и хорошо поставленным, «командирским» голосом отчеканил:
– Арестованную – в машину! В кузов!
Мгновенно откинули борт, положили деревянные сходни со ступенями-планками; председатель сельсовета Петр Аркадьевич Троицкий поднялся в кузов и сел на скамейку, стараясь поудобнее устроить Блаженную, которую так и не выпустил из рук. Конвой запрыгнул следом и в полной тишине стал устраиваться на скамейках – без привычной суеты, без мата и сальных шуток. Один боец сел рядом с председателем и робко попросил:
– Можно, я подержу?
Петр Аркадьевич отрицательно помотал головой.
– Потом. Как устану, – и с тоской спросил, ни к кому конкретно не обращаясь: – Неужели и такого, как я, можно простить?!
Через некоторое время послышался тихий голос Блаженной:
– Можно, Петя.
Изя одел фуражку, расправил под ремнем гимнастерку и сурово сказал Климу:
– В следующий раз Гражданскую вспомним – сам видишь, что творится. Поеду.
Коротко и мужественно сжал руку «старого друга» и пошел, чуть ли не чеканя шаг, к кабине «полуторки». На полдороге вдруг стал плавно заворачивать влево, пока прямая не превратилась в дугу, а направление движения не изменилось на противоположное. Лицо пламенного чекиста было бледным как полотно, а в глазах плескался первобытный ужас.
– Держись, Гадыч, темные массы смотрят, – прошипел Клим в ухо Маузеру, приобняв его за плечи. Генерал – он и в тюбетейке генерал, поэтому полуторка послушно взревела мотором и тронулась, когда он крикнул:
– Езжай! Старший лейтенант остается, дела у него! На моей машине поедет, завтра… или послезавтра.
Полуторка покатила вниз по песчаной дороге, сопровождаемая странным звуком. Только вслушавшись, можно было понять, что это плачут выстроившиеся вдоль дороги жители деревни.
А чекист Изя Маузер удивил своего старого друга и соратника. Ворвавшись в дом тетки Клима, он рванул ворот гимнастерки так, что на пол посыпались латунные пуговицы; затем кинулся к накрытому столу, налил себе полный стакан крепчайшего самогона и выпил, как воду. Налил еще полстакана и снова выпил.
– Оба-на! – крякнул Клим, поднося ко рту товарища соленый груздок на вилочке. – Так и надо, братишка-бес. Наше с тобой – только здесь, только сейчас, а что потом – суп с котом, и не бери в голову.
– Значит, бес? Уверен? – спросил Маузер, стремительно пьянея.
– Не сомневайся, братишка, и не думай. Когда такие, как мы, думать начинают, они из окон бросаются или в психушке подыхают. А кто социализм строить будет?! Лучше давай-ка еще по стакану, а тетка нам яичницы с салом сообразит…
Глава 6
– Только бы не Клим, только бы не Клим, – привычно повторял Изя, подходя к зданию НКВД на Лубянке. Хотя, если честно признаться, лукавил чекист, сам себя обманывал.
Страшная, переполненная ужасом пропасть возникла в душе Маузера после «дела» Блаженной.
Легче становилось только в присутствии тех, кто был сопричастен к «изъятию»: с ними можно было поговорить о ней, с болезненным любопытством заглянуть в глаза – а нет ли у каждого своей, личной пропасти? Потом – обязательно принималось внутрь «лекарство Клима», немного, но… возникала потребность. Словом, мысль о генеральском коньяке не вызывала прежнего омерзения.
Изя развернул при входе удостоверение, назвал причину визита, подождал, пока часовой созвонится с нужным кабинетом и получит приказ пропустить провинциального сотрудника. Он не обижался, когда мимо него в дверь-«вертушку» пробегали рядовые, отделенные, старшины – порядок есть порядок. Наконец его пропустили, и строгая тишина знакомых коридоров успокоила, укрепила сознание собственной значимости. Власть! Здесь живет настоящая, а не парадная власть; недаром звания в госбезопасности на две-три ступеньки превышают армейские. Это – официально, а в жизни, пожалуй, и побольше…
Но где же Клим? Ему давно пора выпрыгнуть и орать свои похабные фамильярности. Маузер чуть было не остановил пробегавшего мимо сотрудника, но вовремя спохватился, обругав себя последними словами. А вдруг Клим «исчез»? Об исчезнувших спрашивать не положено…
Проходя мимо кабинета старшего майора Собакина, он скосил глаза на табличку и похолодел: на ее месте выделялся пустой прямоугольник. Исчез Клим, скотина, и тем подставил старого друга! Так вот чем объясняется срочный вызов в Москву! Пожалуй, могут и не выпустить… у Изи от страха подкосились ноги.
– Вам плохо, товарищ? – раздался рядом участливый голос.
Изя поднял голову, и сердце его остановилось: в петлицах вопрошавшего сияли золотом четыре звезды. Впрочем, остановилось сердце, или нет, а когда спрашивает начальник спецотдела Главного Управления Госбезопасности НКВД Глеб Иванович Бокий[150], отвечать надо.
– Никак нет, товарищ комиссар госбезопасности второго ранга!
– А! – обрадовался Бокий. – Товарищ Маузер! Это я вас вызвал в Москву. Пройдемте-ка в мой кабинет, там будет удобно. Вы уверены, что не нуждаетесь в помощи врача?
– Так точно, товарищ комиссар госбезопасности второго ранга!
Интеллигентное, утонченно-красивое лицо Бокия тронула чуть заметная брезгливая гримаса.
– В моем отделе, к которому вы, Изя Гадович, временно прикомандированы, принято обращаться друг к другу по имени-отчеству и без званий. Привыкайте.
– Слушаюсь, Глеб Иванович!
– Да уж постарайтесь, сделайте милость. Вот сюда, пожалуйста, в эту дверь… садитесь в кресло. Вам удобно? Сейчас принесут чаю… вы предпочитаете китайский, я знаю.
Маузер, сраженный радушием великого человека, беспомощно хлопал глазами, не в силах сказать ни слова. Его имя-отчество Бокий выговорил естественно, без всякой иронии – одним этим он навсегда купил душу простого рязанского чекиста.
– Я вас вызвал, Изя Гадович, в связи с делом Блаженной. Должен вам попенять: с ее арестом вы поторопились, поторопились. Надо было установить наблюдение, сообщить в Москву и ждать указаний. Ведь вокруг этой женщины происходило столько удивительного, необычного… вам не приходило в голову, что все это можно использовать?
– Она своей святостью мешала колхозному движению! – выпалил Маузер и покраснел. – То есть, я хотел сказать, мнимой святостью…
«Глуп, – подумал Бокий с досадой. – Безнадежно глуп. Все дело провалит».
– Но ведь можно же поместить ее в лабораторию, изучать…
«Не так уж и глуп; скорее то, что в народе называется словом «придурок». При Собакине был чем-то вроде любимого шута… любопытно, любопытно… – настроение Бокия немного улучшилось.
– Можно использовать, если не слишком перенапрягать его мозги…»
– Подобные объекты, – сказал он вслух, – надо изучать в естественной обстановке, иначе они сворачиваются и на контакт не идут. Не помогают даже… э… специальные методы. Но это к нашему делу не относится. Вот вы, Изя Гадович, тоже подверглись воздействию Блаженной, но сохранили рассудок, поэтому вам поручается специальная операция по установлению с ней контакта. Поедете в лазарет Бутырской тюрьмы, поговорите с Блаженной, успокоите. Важно, чтобы она вам поверила. Можете прибегать к любым обещаниям, но помните: лично ей ничего не нужно. Обещайте облагодетельствовать ее знакомых попов, ее почитательниц, ну, на месте сориентируетесь. Вопросы?
– А кто еще… подвергся?
– Друг ваш, старший майор Клим Собакин. Сошел с ума, сейчас находится в лечебнице; врачи говорят – безнадежен. Ходит по коридорам с вытянутыми руками и повторяет: «Легкая какая, легкая какая…» Вам понятно, о чем это он?
– Да…
– Э, да вы, похоже, боитесь ее?
Хотел старший лейтенант ответить бодро, молодцевато, но вместо этого сознался:
– Боюсь, Глеб Иванович.
– И правильно! Силы, с которой мы столкнулись, надо опасаться, но в меру, чтобы страх делу не мешал.
– Не помешает, Глеб Иванович! – запоздалая молодцеватость пришла к Маузеру, но какая-то натужная, ненатуральная.
«Идиот? – подумал Бокий и сам себе ответил: – Временами похож, но скорее, все-таки, придурок». Вслух же сказал: