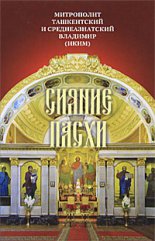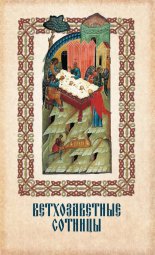Три блудных сына Марнов Сергей

– В таком случае, отправляйтесь прямо сейчас, я позвоню, предупрежу. Вы ведь знакомы с начальником тюрьмы?
– Да.
– Передайте ему привет от меня; отправляйтесь, машина ждет вас у подъезда. Черный «Опель-Капитан», в нашем гараже один такой, новейшая модель, не спутаете.
Когда за старшим лейтенантом закрылась тяжелая дверь, в кабинете как бы сами собой возникли разномастные и разновозрастные люди в штатском. На улице увидишь – мимо пройдешь и не вспомнишь.
– Наблюдайте за ним, – Бокий стоял у окна и смотрел, как старший лейтенант садится в сверкающий черным лаком автомобиль. – К тюрьме приедете раньше, шофер «опеля» получил соответствующие инструкции. К лазарету объект наблюдения, скорее всего, подойти не сможет. Фиксируйте точные расстояния, на которых он почувствует дискомфорт, замедлит шаг, остановится. За лицом следите: фиксируйте мельчайшие изменения в мимике. Завтра утром – подробнейший письменный отчет мне на стол, от каждого. Отчеты друг с другом не согласовывать. Ну… идите, товарищи, работайте.
Глава 7
Во внутренний двор старинной тюрьмы автомобиль не пустили, несмотря на принадлежность к грозному ведомству. Зато Изе сразу дали в провожатые молодого сержанта-охранника.
– Тюрьма у нас старая, здесь еще Пугачев сидел, перед казнью, – тараторил сержант, быстро входя в роль экскурсовода. – В подвале во-он той башни. Клетку в музей увезли, а кольцо в стене, к которому цепь крепилась, осталось. Если хотите, покажу, когда закончите свои дела.
– Видно будет. А где начальник тюрьмы?
– Ждет вас в лазарете. Лазарет у нас хороший: смертность самая низкая по Москве; вообще наша тюрьма по условиям содержания заключенных – лучшая в стране. Правда, последнее время сильный наплыв арестованных, в камерах приходится содержать вдвое больше предусмотренного, зато питание стараемся поддерживать на уровне…
– Я вижу, вы гордитесь своей тюрьмой?
– А как же! Здесь и отец мой служил. При царизме тут сам товарищ Дзержинский[151] сидел; отец рассказывал, очень доволен был и режимом, и питанием. Все шутил: «Меня тут нарочно откармливают, чтобы на виселице долго не мучился».
– Да как же вас взяли на службу с таким происхождением?!
– Мой отец – член партии с 1903 года, подпольщик, выполнял самые опасные поручения. Я в анкетах так и пишу: «Из семьи профессионального революционера».
– Извините…
– Ничего, ничего… Здесь я временно; вот закончу юридический, пойду в следователи.
Изе стало не по себе: через несколько лет этот мальчишка сядет высокопоставленным пауком в самом грозном кабинете, а он, старший лейтенант Маузер… Нет в мире справедливости!
– А вот и наш лазарет! И товарищ Попов, начальник тюрьмы, в беседке вас поджидает, видите? Ой, он опять закурил! Бросил же… все папе расскажу, пусть его отругает!
От размеров авторитета неведомого папы Маузеру стало совсем плохо, но, вспомнив, чье особое поручение он сейчас выполняет, чекист приободрился. А сержант, между тем, вскинулся и сделал стойку, как охотничий пес.
– Прислушайтесь! – как-то даже радостно предложил он. – Опять начинается! Такого больше нигде не услышите, только у нас! И главное, не сговариваются ведь – проверено…
Повисла тишина, и вдруг зазвучал из открытого окна лазарета уже знакомый Изе чистый голосок:
– Ангел предстатель с небесе послан бысть рещи Богородице: радуйся, и со бесплотным гласом воплощаема Тя зря, Господи, ужасашеся и стояше, зовый к ней таковая…
Находившийся рядом тюремный корпус отозвался дружным и слаженным хором:
– Радуйся, Еюже радость возсияет; радуйся Еюже клятва исчезнет!
Хор становился все мощнее, все крепче. Пение подхватили соседние корпуса, и для Изи Гадовича Маузера это стало нестерпимой пыткой.
– Радуйся, падшаго Адама воззвание; радуйся, слез Евиных избавление! – пела сама Бутырская тюрьма. – Радуйся, высото неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино неудобозримая и ангельскима очима…
От каждого «радуйся» начальник тюрьмы дергался, как от удара, и раскачивался, зажав уши ладонями. Из зажатой в зубах папиросы клубами валил дым, летели искры.
– Вам плохо? – сочувственно спросил сержант Изю. – Многим из наших становится плохо, а мне вот – ничего. Это у церковников называется «акафист», минут на тридцать, не больше; придется потерпеть.
– И давно это началось?
– Как Блаженную привезли, так и началось. Главное, такие у нас иногда матерые попы сидят, целые епископы, и ничего! А старушка слепенькая приехала – и на тебе! Массовое религиозное помешательство! Начальник тюрьмы извелся весь: куда ее девать?! Товарищ Бокий трогать запрещает, говорит, «феномен», а папа мой ему так и врезал: «Тебе, Глебка, – феномен, а по-нашему – контра!»
От растущих масштабов сержантиного папы Маузеру стало почти также тошно, как и от гремящего со всех сторон «радуйся!». Он не мог двинуться с места, ноги как будто приросли к булыжной мостовой тюремного плаца. Румяный сержант сочувственно хлопал ресницами, прикрывавшими ярко-голубые глаза, время от времени отмечая: «О! Уже десятый икос, теперь совсем немного осталось!»
Когда акафист закончился, сержант предложил:
– Пойдемте же скорей к начальнику тюрьмы, он ведь специально ради вас пришел, неудобно…
Изя вдруг хрипло и невпопад выпалил:
– Кончать надо всю эту поповщину! Под корень кончать!
– Товарищ Сталин говорит, что в этом деле нельзя рубить сплеча. Я вот недавно его спрашиваю: «Дядя Иосиф, а почему нельзя закрыть все эти церкви?» А он и отвечает…
Что ответил вождь мирового пролетариата тюремному охраннику, чекист Маузер не расслышал: он временно отключился. А когда включился, сержант настойчиво уговаривал его продолжить движение по направлению к лазарету:
– Ну что же вы, товарищ старший лейтенант, идемте же скорее, пожалуйста…
…Как и во время первой попытки подойти к дому Блаженной, старший лейтенант испытал скручивающий внутренности страх, происходящий из ясного осознания собственного ничтожества. Комар, букашка, пылинка – никакое сравнение не могло бы передать ощущение бесконечной малости старшего лейтенанта перед лицом огромной, вселенской силы, находящейся впереди. Припомнилась надпись на иконе, которую он в юности изрубил шашкой и растоптал ногами: «Дивен Бог во святых Своих». «Дивен Бог… дивен Бог… дивен Бог…» – похоронным звоном стучало в висках, и сделать шаг вперед было вовсе не трудно, нет – абсолютно невозможно!
– Товарищ старший лейтенант, обопритесь на меня, пойдемте вместе, – уговаривал сержант, впившись голубыми напряженными глазами в лицо. Почему это раньше Изе казалось, что глаза у сержанта цвета васильков? Это же цвет стали, и руки у него стальные… «дядя Иосиф»…
Маузер вырвался из рук сержанта, развернулся и быстро пошел к выходу из тюрьмы. Никто его не задерживал, и на КПП пропустили, не спросив документов. Водитель «опеля» предупредительно распахнул дверцу, но услышал невнятное:
– Поезжайте, поезжайте… пешком пройдусь, погуляю…
Глава 8
На Малой Дмитровке он вдруг вспомнил директора тюрьмы, остановился около табачного ларька и купил пачку папирос «Герцеговина Флор»[152]. Сел на скамейке в сквере, раскрыл пачку, и к нему тут же подскочил приблатненный подросток с зажженной спичкой:
– Прикуривайте, гражданин начальник! Разрешите угоститься?
Полпачки исчезло разом, но Маузер этого даже не заметил. От волнения тряслись руки, дым с первой затяжки вошел в легкие неудачно, на выдохе он мучительно закашлялся. «В Гражданскую… махорку с корой…» – мелькнула привычно-хвастливая мысль, но тут же исчезла, растаяв перед фактом огромной правды, которая только что ему открылась. Стыдно врать самому себе в такой день. Бог есть. Оказывается – Бог есть! И что теперь с этим делать?!
…Тогда, в глухой рязанской деревне, он сумел отмахнуться от этой правды, залить ее самогоном, убедить себя, хотя бы наполовину, что все происшедшее можно объяснить «естественными» причинами. Теперь же никакие объяснения не действовали, да они просто не были нужны. Потому что пришло точное знание, пришла беспощадная, трезвая ясность. Бог есть, и Он осудит Изю Хамерклопа, более известного под собачьей кличкой «Маузер», на срок, который и не снился прокурору Вышинскому[153]. Страшно стало Изе, ох, как страшно!
Конечно, по долгу службы, Изя неплохо разбирался в основах христианского вероучения, но Бога представлял себе больше по рассказам старого Сруля Хамерклопа, нищего портняжки в еврейском местечке, и почтенного ребе Ицхака. «Накажет, покарает, накажет, покарает…» – звучало нескончаемым рефреном. Когда в тюрьме политические заключенные объяснили мелкому мошеннику Изе, что Бога нет, он испытал небывалое облегчение, как будто для него отменили неизбежную порку.
Оказывается, будет порка, причем такая, что мало не покажется! Перед глазами проходили яркие картины боевой молодости, одна страшней другой. Расстрелянные попы, разоренные храмы… Чего стоил один женский монастырь, где они с Климом разрешили погулять своим ЧОНовцам, да и сами не стояли в стороне. Придется отвечать, придется отвечать… Бог есть! Причем не тот, о котором в детстве рассказывал ребе Ицхак, а Тот, против Кого Изя боролся всю сознательную жизнь, Христианский Бог! Изе вдруг вспомнился строгий лик с иконы, которую он когда-то рубил шашкой после Климова «стаканища»…
Неужели ничего нельзя сделать?! Христианский Бог – он же добрый, он всех любит! «Помоги! – взмолился вдруг бывший еврейский мальчик, сам не зная, Кому. – Помоги!»
И внезапно к Изе пришло озарение, открылась яркая картина возможного варианта его дальнейшей жизни. Вот Глеб Иванович Бокий встречает его приветливой улыбкой, затем улыбка сходит с аристократического лица, на нем проступает брезгливое выражение. Вот он, Изя, избитый до полусмерти, валяется на цементном полу тюремной камеры… вот стылый барак, в щели которого пурга заметает колючий снег… заключенный священник читает молитву над алюминиевой кружкой с водой, а потом поливает ему голову… Крещение! Яма, пробитая в мерзлоте, из которой в беспорядке торчат перепутанные человеческие конечности… И теплой волной накрыло Изю. Обещание, Слово, Завет, тверже и вернее которого не бывает. Это – избавление, это – выход!
А как же спецпайки, которым так радуется его пышнотелая подруга Зина? Санаторий в Гаграх, куда он собирается через месяц? А там – нежные и страстные подруги Маша, Асият и Медея? Отказаться от всего этого?! Променять на ежедневные издевательства уголовников?! Нет! Должен быть другой выход, должен!
И тут Изю осенило. Христианская притча о работниках, нанятых в последний час, но получивших равную плату с теми, кто работал весь день! Вот оно! Он будет жить прежней жизнью, он поедет не в Магадан, а в Гагры; когда же почувствует, что умирает, тогда и крестится! Хорошо, все-таки, что не всех попов истребили; хорошо иметь умную еврейскую голову.
Он встал со скамейки, властным щелчком пальцев подозвал давешнего приблатненного пацаненка.
– Держи, шкет! – небрежно протянул черно-золотую коробку с папиросами, – Но курить лучше бросай. Вредно!
– Я постараюсь, товарищ командир!
Ага! Не «гражданин начальник», а «товарищ командир»! То-то! Неужели еще несколько минут назад он выглядел такой кислятиной? Изя расправил под ремнем складки гимнастерки, застегнул все пуговицы, поправил фуражку и щелкнул «шкета» по носу. Четким шагом по направлению к центру Москвы шел уже не запуганный отсталым дедом-портняжкой еврейский мальчик Изя Хамерклоп, а старший лейтенант госбезопасности Маузер, коммунист и неутомимый борец против всякого мракобесия.
На пересечении Малой Дмитровки с Бульварным Кольцом водитель «хлебовозки» не успел затормозить перед пешеходом, который переходил улицу, даже не повернув головы в сторону приближающегося грузовика. Задумался, наверное. Толчок был несильным, но уж очень неудачно упал пешеход-растяпа: виском на угол каменного парапета. В общем, когда водитель вылез из кабины «полуторки», ругать было уже некого. Да и слова застряли в глотке несчастного шофера, когда он увидел на рукавах гимнастерки трупа красные звезды старшего офицера НКВД.
Глава 9
Агенты наружного наблюдения стояли в кабинете Глеба Ивановича Бокия, опустив головы. Вины никакой за ними не было, и начальник самодурством не грешил, но… на всякий случай. Докладывал агент, сыгравший роль сержанта-охранника в Бутырской тюрьме.
– Факт воздействия можно считать установленным, Глеб Иванович! Критическое расстояние – пятьдесят метров, дальше он не смог сделать ни шага. Глаза были предельно раскрыты, лицо бледное, речь бессвязна.
– Может быть, самовнушение, психологический настрой? – спросил Глеб Бокий, задумчиво потерев пальцами гладко выбритый подбородок.
– Исключено, Глеб Иванович. Я применил вариант «Хлестаков»[154], и всякие мысли о Блаженной покинули голову объекта, там поселился мой величественный образ. Было воздействие, это несомненно.
– Не переиграли? Объект был не так глуп, как казался.
– Поверил! Я смог бы убедить его, что президент США Рузвельт прилетает на самолете сапоги мне чистить.
– Кто же, все-таки, мог убить старшего лейтенанта? Ваши предположения?
– Глеб Иванович, а несчастный случай вы совсем исключаете?
Бокий прошелся по кабинету, заложив руки за спину, подумал.
– Не верю я в такие случайности, – с тоской сказал он. – Кто-то копает под меня, но кто, кто?
Никто из присутствующих не посмел даже предположение высказать, и Бокий мысленно отругал себя за распущенность. Такое ляпнуть при подчиненных! Он сел за стол, достал папку с делом Блаженной, всмотрелся в ее фотографии, в который уж раз перечитал агентурные донесения:
«Объект «Д» в доверительной беседе утверждала, что Блаженная может оживлять некоторые предметы. Так, однажды она оживила игрушечную рыбку, и та плескалась в ладонях у разных людей. Тем Блаженная, по ее утверждению, проверяла силу веры. Я хотел выкрасть эту рыбку, но подойти к дому Блаженной по-прежнему не могу. В другой беседе «Д» рассказывала о методах, которые Блаженная применяет при воздействии на людей. Это, конечно, так называемая «молитва». Как я понял, в «молитве» она просит для людей только самого лучшего, но если человек не соответствует церковным стандартам, молитва причиняет Блаженной страдания. В полушутливом тоне я попросил у «Д», чтобы она похлопотала за меня перед Блаженной, и получил соответствующее обещание. О результатах «молитвы» доложу позднее».
Далее шла приписка, сделанная другим почерком:
«Это последнее донесение агента «Деций», вскоре после этого он исчез из нашего поля зрения. По неподтвержденной информации, похожего человека видели в Сарове и Дивеево, проверить пока не удается».
Бокий вздохнул и проговорил в своей обычной любезно-бесстрастной манере:
– Блаженную переводим в обычную больницу при доме престарелых, всякое наблюдение снимаем. Дом престарелых должен быть лучшим в Москве: не для тихого умерщвления, а с нормальной медициной и уходом.
– Осведомителя вербуем среди персонала больницы или внедряемся? – тихо спросил «сержант».
– Нет, ничего этого не надо. Вы, Александр Иванович, гуляете около дома престарелых, знакомитесь с какой-нибудь симпатичной медсестрой, ненавязчиво ухаживаете, слушаете ее милую болтовню о больничных новостях. Все.
«Сержант» заметно повеселел, остальные агенты завистливо на него поглядывали.
– Вы, Владимир Геннадьевич, займитесь шофером «хлебовозки». Проследите все связи, даже, на первый взгляд, случайные. Но главное, не допустите, чтобы его обвинили в теракте. Ни в коем случае! Стечение обстоятельств, и только. Все остальные – в подчинение Владимиру Геннадьевичу. Свободны, товарищи.
Когда все вышли, Глеб Иванович Бокий глубоко задумался: «Копают под меня, копают – к гадалке ходить не надо. Но кто? Кто мог осмелиться на такое? Неужели?!..»
* * *
Всякое государство должно себя защищать, для того и создаются спецслужбы. Если их нет, или если они работают плохо, государство гибнет стремительно и неизбежно. Не следует думать, что органы НКВД только и делали, что боролись с «религиозным дурманом», с остатками царской интеллигенции, с лучшими военачальниками, просто умными людьми. Органы эффективно очищали страну от уголовников и делали жизнь советских людей, на бытовом уровне, одной из самых безопасных в мире.
Но логика массового государственного террора, развернувшегося в тридцатые годы, лишала разума даже талантливых людей из руководства НКВД. Они «копали» друг под друга азартно, самозабвенно и с наслаждением. В процессе этого «копания» получат свою законную пулю в затылок и Глеб Бокий, происходивший из семьи русского дворянина, и Генрих Ягода, происходивший из семьи местечкового еврея, и многие, многие другие. Машина террора перемалывала кости всем подряд и даже не замечала, если в мясорубку попадал кто-то из ее создателей или механиков.
Между тем, в страну почти беспрепятственно проникали настоящие, непридуманные враги. Немецкие шпионы и диверсанты закреплялись на местах, готовились, составляли для немецкой армии карты, которые будут лучше и подробнее советских. В роковой день 22 июня 1941 года они перережут линии связи, внесут дезорганизацию в работу тыла, полностью обеспечат «товарищу Гитлеру» то, что на языке военных называется «стратегическая внезапность». Впрочем, это всего лишь абстрактный термин, в реальной военной практике такого почти никогда не бывало. Если точнее, то это самое «почти» полностью укладывается в день 22 июня 1941 года.
«Товарищ Гитлер» и генералы его штаба разжижением мозгов не страдали, и план «Барбаросса» не был глупостью. По всем законам военной науки гибель Красной Армии представлялась неизбежной; она и состоялась. Почти. Ветераны войны, ценой огромных, несопоставимых с немецкими потерь отбившие чудовищный натиск нацистов, часто говорят: «Все висело на волоске!» Кто же удержал этот волосок?
В мемуарах немецкого солдата, воевавшего в 1941 году под Ленинградом, есть интересный эпизод. В ночном небе появился «огромный портрет русской Мадонны»; по мнению того солдата, именно Она и остановила немецкое наступление.
Кто знает? Нация «блудных сыновей» тысячами убивала священников, превращала храмы в места разврата – под пение дурацких частушек, написанных дурацкими «поэтами». Чем эта нация заслужила такую милость? Да ничем! По человеческой справедливости, она заслужила уничтожение; но Милосердие Божие – выше любой справедливости.
Чудо произошло по молитвам святых исповедников и мучеников, которых в России первой половины XX века оказалось больше, чем за предшествующую историю христианства во всем мире.
И в хоре этих молитв звучал чистый, прозрачный голос слепой с детства старушки, отошедшей к Господу 29 июля 1936 года. Место ее захоронения неизвестно; предположительно, где-то в районе метро Владыкино, недалеко от храма Рождества Пресвятой Богородицы. Проезжая мимо этого храма, почитатели святой старицы обязательно осенят себя крестным знамением и крикнут, шепнут, подумают:
– Блаженная, помоги!
И помощь приходит.
Глава 10
Дети председателя сельсовета Петра Аркадьевича Троицкого почти совсем перестали расти. Перепуганная жена пыталась водить их по врачам, но Петр Аркадьевич лишь качал головой и тихо говорил:
– Эта… не надо. Никакие доктора не помогут, потому – памятка это, от Блаженной. Лучше им маленькими в… хорошее место, чем рослыми в плохое…
Даже в разговоре с домашними коммунист Троицкий опасался произносить слова «Царство Небесное», «Ад», но мысленно представлял себе «плохое место» и очень боялся. После «изъятия» Блаженной он вообще стал осторожным и старался никого не обижать, никого не задевать. Шел по жизни, как по стеклянному лесу, где за каждую разбитую веточку придется непомерную цену платить.
Каким-то чудным стал Петр Аркадьевич. Когда ему жаловались на трудности, он всегда произносил странную фразу:
– Но это же хорошо! За трудности благодарить надо! А как совсем тяжело станет, надо скорее, скорее благодарить!
Одни крутили ему вслед пальцем у виска, а другие с недоумением и вопросом в голосе произносили:
– Блаженный?
Услышав от врачей страшный диагноз, по существу, приговор, Петр Аркадьевич повеселел и даже внешне как-то помолодел. Быстро привел в порядок свои земные дела, написал заявление об уходе с работы «в связи с предстоящей скорой смертью» и лег умирать.
Странная это болезнь – рак. Одни считают ее проклятием рода человеческого; другие – милостью Божией. Действительно, какая еще болезнь задолго до смерти предупреждает: «Готовься, ты получил повестку»?
Причем при одних и тех же обстоятельствах боли могут быть такими чудовищными, что и наркотики не помогают, а может их и вовсе не быть; после появления первых признаков заболевания прожить можно и полгода, и год, и пять лет, и больше… В общем, каждому – свое. Очень странная болезнь!
Петр Аркадьевич Троицкий умирал мучительно. Жена освоила несложные навыки медсестры: сама делала ему уколы, ставила капельницы, но самое большее, чего ей удавалось добиться, – несколько часов тревожного забытья. Не помогали даже сильнейшие лекарства – те самые, после использования которых пустые ампулы полагалось сдавать под расписку.
По случаю жаркой погоды окна в избе были раскрыты, и вся деревня могла слышать, как кричит от нестерпимой боли умирающий председатель. Бывший председатель.
Двое мужчин остановились недалеко от избы председателя и слушали. Тот, что моложе, злобно сплюнул в песок и сказал:
– Кричи, кричи! Это тебе не Блаженную поднимать!
Старший покачал головой и укоризненно ответил:
– Что ты такое говоришь?! Ему же больно! Разве Блаженная учила нас чужой боли радоваться?!
– Прости, дядя Макар. Просто… сердце заходится, как вспомню, что он сделал. Я ж три года мучился: горб на спине рос, помнишь? Врачи ничего понять не могли, не то что сделать. Ходить не мог, лежать не мог… уже и дышать не мог! А больно-то как было! День, ночь – без разницы.
Три года, дядя Макар! Помазали мне горб маслицем из лампадки Блаженной – сразу дышать смог, а через полгода и вовсе от горба избавился![155] А этот ее с кроватки сгреб и потащил. Слышал, она кричала от боли?
– Один раз крикнула, потом успокоилась. Погоди, погоди… давай послушаем, что он кричит.
А между тем, вопли больного становились все громче и пронзительнее. Они разносились по деревне, и многие жители затыкали уши, закрывали окна, чтобы ничего не слышать.
– А-а-а!!! Не могу больше, а-а-а!!! Слава Богу!!! Слава Богу!!! А-а-а-а-а! Сил уже нет никаких, а-а-а-а!!! Слава Богу, слава Богу, слава Богу, а-а-а-а-а!!!! Помоги, Блаженная, помоги-и-и-и-и!!!!
Крик внезапно оборвался, и побледневший молодой мужчина схватил старшего за рукав рубахи.
– Дядя Макар, давай помолимся о нем, скорее! Пусть он больше не мучается!
Макар согласно кивнул, вытащил из кармана старенький, потрепанный молитвослов и раскрыл заранее заложенную страницу: «Канон молебный при разлучении души от тела»…
…А в избе высохшая от постоянного недосыпания женщина кинулась к постели мужа, готовясь увидеть покойника. Но тот был еще жив, находился в сознании, смотрел весело и спокойно.
– Тебе лучше, Петя? Что-нибудь принести?
– Лучше, лучше. Эта… совсем хорошо. Ты бы послала за священником, а? Я потерплю еще чуток, но тудыльча помру, скорей бы попа…
– Да я уж послала, Петя, давно. Должен скоро приехать…
– Умница! Ты, Катя, пригляди, чтобы дети коммунистами не стали… глупость это – социализмы всякие строить, одна только глупость. Вот моя жизнь и кончилась, а что осталось? Ничего не осталось, как и не было ничего. Вчера еще босиком на речку бегал, пескарей для мамки ловил, а сегодня вот ухожу… Хорошо как, и не болит ничего. Ты мне, Катя, верь, я подсмотрел, что там, дальше! Нет для человека ничего важнее смерти, ничего…
Он откинулся на подушку и немного отдохнул. Жена собралась было отойти по своим нескончаемым делам, но голос мужа послышался снова, причем звучал более уверенно и твердо.
– Домой иду, Катя. Как меня там примут, не знаю, но что ждут и любят – это точно. Ох и заблудился же я! Куда ходил, зачем – и сам не знаю; устал в чужих краях, измучился… Колхозы какие-то, сельсоветы… Ничего этого не нужно, ничего! Вот пескариков маме принести, чтобы она их на сковородку и яичком залила и похвалила: «Молодец, Петя, добытчик, кормилец», это – нужно… Все, в чем есть любовь, – нужно. Уколы твои, Катя, слезы твои – нужно; чтобы дети смеялись – нужно, чтобы старики не плакали – очень нужно. А планы соцсоревнований – нет, с ними туда не пустят. Там – любовь, а она никаких социализмов не терпит… Вот Блаженная любить умеет! Она меня встретит на границе, поможет перейти туда… обещала.
– Когда обещала, Петя? Когда ты ее нес?
– Нет, сейчас, когда я кричал. Она откликнулась, боль убрала, помочь обещала. Раньше, вишь, камушки давала, маслице, свечки… с любовью давала, любовь через них и действовала. А теперь так может, без камушков. Ей Господь большую силу дал… а красивая стала, глаз не отвести! Смотрит ласково, и всякая боль проходит!
– Смотрит?! Она же слепенькая была!
Петр Аркадьевич немного подумал и уверенно сказал:
– Это мы слепенькие, вся страна. А Блаженная всегда была зрячей.
Крошечный мальчик вбежал в комнату и затараторил «страшным» шепотом:
– Папа! Там поп пришел! Огромный, страшный, с крестом на пузе! За дверью стоит, тебя спрашивает!
Петр Аркадьевич Троицкий приподнялся на локте и крикнул, напрягая последние силы:
– Входите, батюшка! Я готов!
Павловский Посад, апрель-август 2013 г.