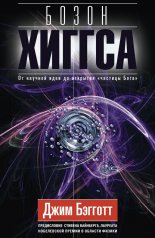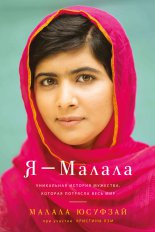Влюбленные в Лондоне. Хлоя Марр (сборник) Милн Алан
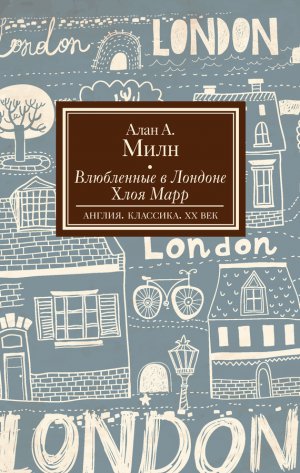
– Если совершенно очевидно, что она над ним посмеется?
– А она над ним посмеется? Она над ним посмеется, когда он скажет, что вот уже пятнадцать лет он ищет ее общества и счастлив только в ее обществе, всегда счастлив в ее обществе, однако такой дурак, что ему ни разу не пришло в голову сказать: «Будь со мной всегда, потому что ты всегда нужна мне»? Она слишком добра, чтобы посмеяться, Эсси, но, испытывая жалость к нему, все же может сказать: «Уже слишком поздно, я жизнь прожила без тебя». Она может сказать: «Всегда было слишком поздно. Я никогда не испытывала нужды в тебе». Но смеяться над ним она не станет… – Он взял ее руку в свои. – Правда ведь, Эсси?
– Альфред, вы ума лишились?
– Лишился, дорогая Эсси. Совершенно и окончательно. То есть я был без ума. А теперь наконец окончательно и бесповоротно его обрел.
– В мои годы! После стольких лет! Нелепость какая!
– Только что, дорогая Эсси, нелепым был возраст Хлои. Ты чуточку капризничаешь с возрастом, дитя мое.
Эсси молчала, стараясь – но как же это трудно! – сосредоточиться на внезапном новом мире, о котором и не мечталось.
– Я долго тут жила, – сказала она наконец. – Я старая дева со своими привычками и причудами. Хочу ли я перебираться в новый дом и начинать жизнь сызнова?
– Да! – тут же отозвался пастор. – Очень хочешь. Ты хочешь забрать из старого дома все любимые вещи и перевезти их в мой, и от души позабавиться, обустраивая целый дом, и вдохнуть новую жизнь в запущенный сад, а под твоей опекой, Эсси, он станет самым прекрасным на свете. И ты хочешь сказать потом Перси и Мейзи, что они могут поселиться тут, как только поженятся. Сама видишь, как замечательно все складывается. – Он взял обе ее руки в свои и подался к ней. – Разве нет, любимая?
– Ну… – протянула с внезапной улыбкой самооправдания мисс Уолш, – я бы сказала, кое-какой резон в этом есть…
Полчаса спустя, когда они возвращались в дом, пастор сказал:
– Ты сегодня необычайно хорошенькая, моя Эсси. У тебя новое платье или шаль? Кажется, я их раньше не видел.
Вот вам и Эсмеральда Уолш, подумала Эсси. Она не знала, радоваться ей или сожалеть. Но она радовалась, что у нее гостит Хлоя. Ей, пожалуй, надо выплакаться на чьем-нибудь плече, пусть и неизвестно, от горя или от счастья. Возможно, Хлоя разберет.
Глава XII
1
Барнаби как редактору серии «Ваш мальчик», составителю «Еще вопросы есть», главе отдела образования и, по сути, «мистеру Рашу “Проссерса”» полагался, само собой разумеется, собственный кабинет. Как большинство помещений в «Проссерсе», этот кабинет представлял собой выгородку из много большего помещения – в данном случае Библейской библиотеки, как она называлась во времена основателя. Доктор Проссерс никогда не пренебрегал принудительной помощью тружеников на общей ниве и любил, чтобы они были под присмотром. Если собираетесь толковать «Книгу Бытия», разумеется, призовете на помощь автора Ветхого Завета; и если Ветхий Завет зиждется на том краеугольном камне, что возможно только одно истинное его толкование, то все прочие интерпретации неизбежно будут следовать одной и той же заданной схеме, то есть любой более поздний толкователь движется по вашим стопам, как и вы по стопам более раннего. Соответственно в интересах истины любые теории или открытия, сформулированные или сделанные писателями прошлого, но пропущенные вами, могут и должны быть включены в ваш собственный труд с уместными благодарностями. Разумеется, тщетно и глупо писать «Как прекрасно заметил в своем эпохальном труде «Свет, пролитый на “Бытие”» преподобный Дж. Р. Хигнетт-Тейлор», – это значило бы уделять достопочтенному слишком много внимания. Достаточно переписать отрывок собственными словами с каким-нибудь вступлением, вроде «часто указывалось» или «общее место толкователей», или, возможно, еще лучше «как должно было прийти в голову всем серьезным исследователям данного текста», тем самым избегая необходимости отвлекаться на скобки или несущественные примечания.
Библейская библиотека не вполне соответствовала своему названию. Она содержала несколько сотен томов по теологии, надо думать, составлявших сливки анализа библейского экзегезиса, выдаваемые на дом книги, посвященные странствиям святого Павла и в каком-то смысле призванные эти странствия олицетворять, и некие тщательно оберегаемые труды более общего плана французских авторов, не укладывавшихся на момент написания в общепризнанный канон. Но комната была длинная и давала работавшему в ней доктору Проссерсу шанс совершать моцион, который, как известно, проясняет и просветляет ум автора. Сложив за спиной руки и вздернув фалды сюртука, он расхаживал (как он выражался) по квартердеку своего флагмана, перебирая (чтобы продолжить неуместную метафору) рулевое колесо, брызги от которого его секретарь затем преображал в упорядоченную прозу.
С кончиной доктора Проссерса почила и Библейская библиотека, но возродилась, когда две фанерные стены разделили ее на три помещения, из которых два внешних служили кабинетами Барнаби и миссис Прэнс, а средняя – складом для изданий фирмы. Еще она являлась своего рода изолирующей воздушной подушкой между внешними комнатами, так что грохот пишущей машинки Барнаби или неистовый голос миссис Прэнс, ободряющей печатника или поэтессу, пропадали втуне на ничейной земле.
Но сегодня через стенки библиотеки проникал голос. За перегородкой говорили по телефону. Вспомнив, что кто-то выдвинул идею составить каталог изданий, Барнаби с некоторым изумлением сообразил, что в складской комнате имеется телефон. Значит, туда посадили какую-нибудь машинистку снизу или, возможно, пригласили кого-то более опытного, с образованием библиотекаря со стороны, и сейчас, оторвавшись от трудов, временная сотрудница делит досуг с равно досужей подругой.
– Да? – говорил голос премиленьким тоном. – О да!.. Приходи посмотреть… Вот как? – Низкий смешок. – Возможно, я сама… говорю, возможно, я сама. – Вопросительные шумы сквозь сжатые губы. Или это смешок с закрытым ртом. – Так ты… Это хорошо… О нет! – Опять смешок, на сей раз более саркастический. – Ммм?.. Ну конечно, если имеется в виду… Что? А, уловила, не так поняла. – Рябь смеха. – Что?.. О нет, тебе надо узнать… Да, так я и думала… Ну, увидим… Никогда ведь не знаешь, правда?
А Барнаби тем временем думал, что у всех женщин, говорящих по телефону – будь то княгиня, говорящая по прикроватному телефону с любовником, или горничная, говорящая по телефону хозяйки с приятелем, – одни выраженьица, одна манера. Они смеются на один и тот же низкий провокационный лад, они издают те же поощрительные, вопросительные и прочие воркования. Одинаковыми уловками они возбуждают, ласкают, подталкивают или сдерживают слишком нерешительного или чересчур пылкого представителя противоположного пола. Это был голос Женщины вообще. «Никогда не замечал этого раньше, – думал он, – но теперь я знаю, что сотни раз слышал или случайно подслушивал его мельком».
И с этой догадкой внезапно пришло понимание, что он никогда не слышал такого от Хлои.
Поначалу, задумавшись, почему от нее никогда не слышал такого воркования, он подобрал ответ, какой находят все влюбленные: мол, она отличается от всех прочих женщин и гораздо их выше. Потом, понимая, что это не ответ, он нашел другой: мол, будучи столь красивой, столь желанной, она – единственная среди женщин, кто не нуждается в подобных женских ухищрениях. Но и это был не ответ, поскольку для каждого влюбленного любимая прекрасна и желанна превыше других женщин. А потом ему показалось, что он знает истинный ответ: Хлоя была уникальна в том, что не извлекала удовольствия из «охоты», что мимолетное и единственное удовлетворение ей приносило само завоевание.
Что это означает? Он и сам частенько подумывал (и тут же яростно это отрицал), что она ненасытна в своей жажде очаровывать и ищет все новые жертвы, чьи скальпы можно повесить себе на пояс, но не желает терять время на охоту как таковую. Нет, он никогда в это не поверит.
Для обычной женщины (думал он) прелюдия к завоеванию: подманивание, бегство, промедление, авансы, псевдопоражение – есть прощание с юностью. По какой-то причине в подсознании женщин укоренилось, что, выйдя замуж, они автоматически становятся верными женами и преданными матерями. Не будет больше никаких ухаживаний и флирта, никаких притворных ссор и расставаний. А поскольку девушка твердо намерена выйти замуж, возможно, за этого самого человека, который ухаживает за ней сейчас, период ухаживаний необходимо продлить, пока не будут удовлетворены все до единой ее эмоции, все до единого противоречия ее натуры.
Но для Хлои брак как будто не являлся желанной тихой гаванью, и с юностью она попрощается только тогда, когда юность и красота ее оставят. Какой толк затягивать ухаживания одного мужчины, если наготове ждут десять других и при этом ни один ей не нужен? Если она, как ему часто казалось, инстинктивно избегает любых страстей и в любом мужчине готова видеть лишь друга, то у нее есть причина стремиться взять верх при первой же стычке, ускоряя его неминуемое поражение: чтобы, услышав ее условия, он больше не беспокоил ее любовью. Но это не означало, что она решительно против постоянства своих воздыхателей, что искренне сожалеет, что покорила их сердца. В конце-то концов она женщина.
Она женщина. Как бы нелепо это ни прозвучало, она приревновала к Сильви. Не в обычном смысле слова, но приревновала к тому, что кто-то другой может претендовать на место в его жизни. Была ли та просьба приехать, бросить все и прибежать к ее постели просто женским утверждением власти? А обещание выйти замуж – просто предостережением, мол, она вольна распоряжаться им по своему усмотрению? «Ты не должен думать о других, дорогой, только обо мне, и тогда, возможно, когда-нибудь я за тебя выйду». Это давала понять? Не сознательно и вслух, но думала так: «До сих пор он всегда отдавал мне все. А теперь вдруг предпочел другую женщину». Сильви была несчастна, нуждалась в утешении, «да, знаю, дорогой, очень мило с твоей стороны. Но я тоже несчастна, меня тоже нужно утешить. Приходи ко мне. Да, я выйду за тебя, дорогой, а теперь, когда я наконец это сказала, ты должен приходить ко мне, когда бы я ни захотела, и не позволяй ничему встать у тебя на пути».
Барнаби обладал природной скромностью, не позволявшей ему думать, будто он имеет для кого-то большое значение. Если он полагал, что важен для Хлои, то только потому, что считал себя весьма незначительным для остального мира: ни имени, ни денег, ни внешности, ни необычных качеств, и она уделяет ему столько времени только потому, что высоко его ценит.
С того утра они дважды ходили на ленч. В первый раз они встретились в баре «Эмбасси», и едва сели за столик в углу и заказали коктейли, она весело спросила:
– Как Мой Гумби?
Ему не хотелось говорить про Гумби. Ему хотелось спросить: «Ты помнишь нашу прошлую встречу?»
– Замечательно. А как ты, дорогая? «Тогда ты не могла спать. Я обнимал тебя, пока ты не заснула».
– Спасибо, прекрасно, мистер Раш. А вы как?
– Спасибо, прекрасно, мисс Марр. Что вы думаете о погоде? Или вы о ней не думаете?
– Стараюсь не думать. Как книга?
– Закончена.
– Как интересно! Вы ею довольны?
– Более или менее.
– Очень рада. Почему мы так разговариваем? Ты вообще знаешь? – В ее голосе звучал холодок, словно бы говоривший: «Я тут ни при чем, это твоя вина».
– Есть смутное подозрение. – Принесли коктейли, он расплатился. – Скажу через минутку. – Когда официант ушел, он поднял бокал и сказал вполголоса: – От всего сердца пью за тебя, моя красавица.
Взглядом она дала понять, что слышала, но промолчала.
– Знаешь, – продолжал он, – всякий раз, когда мы оказываемся близки, я ожидаю, что мы уже не будем так близки в следующий раз, когда встретимся. Потому что слишком часто так выходило. Знаю, что выходило. Думаю, иногда виновата была ты, а это означает, что иногда я этого ожидал и боялся – боялся оказаться к тебе слишком близко и сам держался отчужденно. То есть случалось, я намеренно замыкался, и тогда это была, конечно, моя вина. Думаю, в этом дело.
– А чья вина сегодня? – спросила Хлоя холодно – ох как холодно.
– Моя, наверное, но у меня такое чувство, что что бы я ни сказал, прозвучит скверно.
– А у тебя есть причина для таких мыслей?
– О черт, не знаю. Временами я от себя самого впадаю в депрессию, и у меня такое чувство, что я для тебя просто докука.
Тут Хлоя расслабилась и сказала:
– Я дам тебе знать, дорогой, когда ты мне наскучишь.
– Обещаешь?
– Честное слово.
– Просто черкни словечко на клочке оберточной бумаги обугленной спичкой и пошли мне в конверте без марки. Тогда я буду знать, от кого письмо, и почтовые расходы к тому же оплачу.
– Можно написать «кука»? Так писать гораздо легче. А то я не знаю, есть ли дефис после «до».
– Я как раз к этому веду. Дефиса нет, но пиши «кука», если так легче. А я отвечу на другом клочке оберточной бумаги «сама кука», и нам больше незачем будет друг друга беспокоить. Я, возможно, напишу кровью – больше чувства собственного достоинства.
– Ах, Барнаби, милый! – воскликнула Хлоя, тая и приникая к нему. – Я тебя люблю, никогда бы тебя не отпустила!
– А я люблю тебя, дорогая Хлоя.
В таком настроении они принялись за ленч. Но про брак ничего не было сказано.
Прошло еще две недели, прежде чем они встретились на ленч снова, и на сей раз пошли в маленький ресторанчик на Грик-стрит. Он принес с собой головоломку Гумби и быстро об этом пожалел, поскольку та почти полностью поглотила внимание Хлои. Только под самый конец он не выдержал:
– Мы ведь однажды поженимся, верно? – Ему было интересно, что же она ответит, а она, не поднимая взгляда, сказала:
– Конечно, дорогой, когда я с этим закончу.
То есть в общем и целом все осталось по-прежнему.
2
Раздался громкий стук в дверь, и вошла с мундштуком миссис Уиллоби Прэнс.
– Раш, старина, вот уж не думала, что что-то станет между нами, и пожалуйста. – Она ткнула большим пальцем в сторону кладовой. – Вон там.
– Вам тоже ее слышно?
– Слышно? Да последний час она всю свою любовную жизнь выкладывает. В сравнении с ее фразочками то, что я говорю детям про аистов, покажется сущим лепетом. Кто она такая?
– Машинистка снизу?
– Определенно нет. Я пошла сказать ей, что была замужем всего два раза и остальное могу получить в упаковке без бантиков, а она просто махнула мне уходить. Я так удивилась, что ушла. Если я снова пойду, то переброшу ее через коленку и отшлепаю, а она окажется леди Эрминтрудой, помолвленной с одним из «проссерсов». Будьте добры, попытайтесь с ней сладить. Отведите на ленч и просветите по поводу реальной жизни, а? Как мы тут работаем, как функционирует редакция и все такое. Оставляю это на вас, Раш. Будьте здоровы.
Она вышла.
В кладовой воцарилась тишина. Раскурив трубку, Барнаби сказал себе, что если воркование раздастся снова, он пойдет туда. Нет, лично ему не на что жаловаться: что за стеной кто-то говорит, он осознал только пару минут назад. Но если так тянулось все утро и мешало Прэнс работать…
Неужели Прэнс действительно дважды была замужем? Экстраординарно. Двое мужчин огляделись по сторонам, изучили всех женщин и сказали: «Хочу вот эту».
Дверь внезапно открылась, и вошла владелица голоса.
– Мне просто любопытно, – поинтересовалась она, – вы поведете меня на ленч или нет?
– А, привет! – отозвался Барнаби.
– Привет.
Они смерили друг друга взглядом. Она была молоденькой, чуть больше двадцати лет и со странной уверенностью в себе нахального подростка: точно она все еще староста школы и капитан теннисной команды, а большой мир – это ее маленький мирок, где она занимает свое законное место. Не слишком хорошенькая, подумал сначала Барнаби, но на удивление привлекательная: высокие скулы, миндалевидные глаза и решительно вздернутый носик. Он попытался придумать определение для ее фигуры и общей манеры держаться и решил, что «непреклонная» не вполне воздает им должное.
– Входите, входите. Что это за новость про ленч? Вы девушка из соседней комнаты?
– Да? А сами вы кто?
– Я Барнаби Раш.
Она кивнула:
– А я – Крошка Нелли[78].
– Раш, девушка, не Радж, как в романе, а Раш.
– Простите. Ваш отец что, Диккенса не читал?
– Не только читал, но и знал лично. Вы удивитесь, но, надеюсь, будете заинтересованы, услышав, что свидетельство о рождении мне выписывали на имя Дэвид Копперфильд Раш. В последний момент, после слезных мольб матушки меня окрестили Барнаби, тем самым оставив Диккенса в семье, но не так явно.
– Крайне интересно. Я Джилл Морфрей. – Она словно бы говорила «Та самая Джилл Морфрей». – Диккенс был вашим крестным? А экземпляр с автографом «Барнеби Радж» он вам подарил?
– Только экземпляр с автографом. Мой другой крестный, Чосер, подарил мне «Кентерберийские рассказы». Как по-вашему, сколько мне лет?
– Понятия не имею. И я не знаю, когда умер Диккенс. – Прислонившись к его столу, она достала пудреницу. – Кто это только что у вас был? Я краем глаза что-то увидела, потом оно исчезло.
– Послушайте, мисс Морфрей, а вы-то кто, если уж на то пошло?
– Вы про мое фамильное древо или про то, зачем я тут?
– И то и другое. Что угодно. Ничего. Расскажете мне за ленчем. – Глянув на часы, он встал. – Очень удачная вам пришла мысль.
– Не мне. А ей. С чего это она взяла, что она дважды была замужем?
– Вы действительно слышали все, что она говорила? – Он постарался вспомнить, что именно говорила Прэнс и – что важнее – что он сам сказал.
– Если вы оба слышали, что я очень тихим голосом говорила по телефону с… с…
– Вашим дядюшкой?
Подсказке она отдала должное намеком на улыбку в уголках миндалевидных глаз.
– С моим дядюшкой… Естественно, я слышала, как ваша приятельница кричит во всю глотку. Как такая женщина смеет говорить… Ну, идемте на ленч.
– Ладно. Кстати, если захотим упомянуть ее снова, хотя ума не приложу зачем, ее зовут миссис Уиллоби Прэнс.
– Тоже подруга Диккенса?
– Моя уважаемая коллега, которая возглавляет отдел подростковой литературы в «Проссерсе».
– Книги про зайчиков буду отныне покупать в другом месте, – холодно парировала мисс Морфрей.
Ленч они ели, это было почти неизбежно, в «Савойе». Мисс Морфрей спиртное не употребляет. Мисс Морфрей не курит.
– А вы едите? – несколько обеспокоенно спросил Барнаби. – Надо же, чтобы ленч удался.
– Есть я могу что угодно. Заказывайте себе, и я буду то же самое.
– О!.. Быстро переводя на человеческий язык, я буду дюжину устриц и филе говядины с гарниром. Вам подойдет?
– Да, спасибо. Когда будете управляющим «Савойя», подарю вам «Мысль дня».
– Ах, пожалуйста. Никогда не знаешь, что может случиться.
– Закажите в типографии два варианта меню, один с ценами и один без, и велите официантам, пусть подают платящему меню с ценами, а гостям – без. Всегда неловко продираться через меню со множеством блюд, и когда одни стоят три шиллинга шесть пенсов, а другие пятнадцать шиллингов шесть пенсов, и если не знаешь, какой доход у приглашающей стороны, становится тем более неловко.
Барнаби посмотрел на нее удивленно.
– Не хотите же вы сказать, что вы то и дело задаетесь вопросом, а сможет тот счастливец, что удостоился привилегии вас пригласить… к черту фразу, становится слишком длинной… Неужели вас интересует, останется ли у него достаточно, чтобы дотянуть до конца месяца?
– Конечно.
– Пригласить вас воистину привилегия, мисс Морфрей. Одно это делает вас уникальной среди женщин. Вы уверены, что не поможете мне с бутылкой «шабли»? Это не «спиртное» в самом распутном смысле слова.
– О, вино я, разумеется, пью. Полбутылки, и я выпью полбокала. Нам после работать.
Барнаби сделал заказ и, кашлянув, сказал:
– Я тоже, знаете ли, работаю. Э… когда вы говорите о «работе», мы имеем в виду одно и то же?
Мисс Морфрей на него посмотрела. Мисс Морфрей взглядом ясно дала понять, кто капитан теннисной команды, а кто нет.
– Послушайте, мистер Раш, – дружелюбно сказала она. – Я не в школе и не обязана отчитываться за каждую минуту. И вообще, поскольку за работу я получаю фиксированную плату, то сама могу распоряжаться своим временем. Разумеется, знай я, что в «Проссерсе» стены из картона, не стала бы разговаривать по телефону и даже дышала бы, наверное, осторожнее. Я себе пометила, что должна мистеру Стейнеру два пенса за телефонный звонок.
– Раздавлен, – отозвался Барнаби. – Не смею больше взглянуть миру в лицо.
– Извините, та женщина вывела меня из себя.
– С ней такое бывает. И если хотите знать мое мнение, мы оба обошлись с вами очень грубо. Забудьте, простите, и давайте поговорим о нас самих. Тема гораздо интереснее.
Ее отец (никто, в сущности, не знал почему) был священником. У преподобного Квентина Морфрея был приход в тысячу душ в Уорвикшире, конюшня с полудюжиной лошадей, три дочери и стадо джерсийских коров. Но смысл его существования, которому он был предан душой и телом, составляла конюшня. Из трех дочерей Джилл была самой младшей, а потому оказалась «выделена среди сестер». Сестры, которые были гораздо старше ее, практически жили с лошадьми и ради лошадей, и если вообще выходили из денника, чтобы заглянуть в классную комнату, то лишь для того, чтобы спросить мисс Тригг, очень ли Джилл занята. «У нас алгебра», – нелепо отвечала мисс Тригг, точно это могло равняться с приготовлением припарки или полировкой мундштука, и алгебра склоняла голову или ее выводили выгуливать на корде. Послеобеденные часы принадлежали самой Джилл. Она могла проводить его за мальчишеской работой по ферме или катя на велосипеде в деревню с запиской или поручением.
Ездить верхом она в целом любила, но пастор мог себе позволить держать верховых только для двух дочерей, поэтому Джилл обходилась стареньким пони, которого давно уже отправили щипать травку. Жеребцов Птолемея и Тита пастор Морфрей считал инвестицией в брачный рынок: если Берил и Гермиона должны выйти замуж, их акции повысятся в результате обмена охотничьими навыками, а не любезностями в бальных залах или подачами на теннисном корте. О таких вещах ему пришлось думать с той минуты, как умерла мать девочек. Джилл могла подождать. К тому времени, когда она вырастет, у нее будут иные достоинства, помимо хорошей посадки, твердой руки и неспособности говорить о чем-либо, кроме лошадей. Но случались моменты, когда она почти обещала вырасти красивой. Две старшие дочери внешностью походили на мистера Морфрея: в этой катастрофе он – чуток несправедливо – всегда винил жену.
Когда Джилл исполнилось пятнадцать, мисс Морфрей (тетя Клара) вспомнила о своих привилегиях и обязанностях крестной.
– Почему девочка не в школе, Квентин?
– Моя дорогая Клара, я никак не могу себе этого позволить.
Что было чистой правдой. Весь его личный доход уходил на конюшню.
– Ты мог бы послать ее в школу, нет, я не говорю, что это будет школа для избранных, за ту сумму, что ты платишь мисс Твигг.
– Мисс Твигг очень полезна в других делах.
И Джилл тоже, мог бы добавить он. На пару они с мисс Твигг управлялись по хозяйству.
Но мисс Морфрей приняла судьбоносное решение.
– Возьму ее за половину платы, – сказала она, тихонько вздохнув об утрате второй половины.
Школа мисс Морфрей была и остается до сих пор знаменитой. Экзамен для родителей будущих учениц там самый суровый во всей стране.
– Ты очень добра, Клара, но ты мне далеко не по средствам.
– Ты несправедлив к девочке.
– Она очень счастлива.
– Это не имеет ни малейшего значения. Более того, я сильно сомневаюсь, что это правда.
Внутреннюю борьбу она переживала молча. Пастор же, стоя спиной к камину, сгибал и разгибал колено и вновь благодарил Господа за крепкое здоровье. Сколько мужчин его лет…
– Квентин, – твердо сказала мисс Морфрей, – я возьму ее без платы.
Весь Уорвикшир притих. Говоря словами забытого поэта, сам пульс жизни замер. Природа остановилась…
– Ты крайне добра, моя дорогая, – сказал пастор, которого благоговение принудило к искренности. – В конце концов, – добавил он, внезапно подмигнув, что заставляло простить ему столь многое, – ты завтра будешь без платы слушать мою проповедь.
Джилл отправилась в школу. Она знала, что ей дают образование без платы, на это негодовала и была твердо настроена отплатить чем возможно. Она жаждала знаний, знания впитывала и внедряла. Нельзя сказать, что ее привлекали к обучению младших, – это было бы нечестно по отношению к мисс Морфрей, но как староста и капитан той или другой команды и в конечном итоге как президент школы она учебу себе оплатила. Верхом она не ездила: верховая езда предлагалась за дополнительную плату, а щедрость тети Клары имела свои пределы, но ей позволяли учить ездить верхом малышей.
Она закончила школу. Она вернулась к пастору. Птолемей и Тит наконец принесли дивиденды, и обе ее сестры вышли замуж. Некоторым сюрпризом стало то, что пастор объявил вдруг о собственной помолвке. Возможно, он дожидался, когда уберет с глаз долой старших девочек – слишком уж они привлекали внимание к его возрасту. Имея жену, дохода которой хватало на содержание конюшни, и устроив двух дочерей (отец невесты – невесте: «Чек и лошадь»), он мог себе позволить щедрость к Джилл. Настало время, когда он мог позволить себе дать ей верховую лошадь и выдать замуж, как пристало одной из Морфрейев.
– Пожалуй, я предпочла бы зарабатывать на жизнь сама, – сказала Джилл. – Можешь мне дать двести фунтов в год?
– Это ты называешь зарабатывать на жизнь? – хмыкнул пастор. Он развел локти и надул грудь. Сегодня утром он чувствовал себя как никогда здоровым и бодрым.
Джилл объяснила четвероклашке, что сперва должна получить профессию, а это потребует и денег, и времени.
– Но если хочешь, пусть будет сто. Рискну сказать, что справлюсь.
Пастор поборол искушение бросить ей «удваивай или уходи» и предложил поделить разницу.
– Большое спасибо, отец, – сказала Джилл. Еще до того как вошла в денник, она решила, что хочет как раз сто пятьдесят фунтов.
Вот так она попала в Лондон. Она научилась машинописи и стенографии, она сдала экзамен на библиотекаря, она проработала год в мастерской модистки, она брала уроки немецкого и испанского языков. Французский у нее всегда был хороший – за французский в школе тети Клары дополнительную плату не брали. Теперь она была готова зарабатывать себе на жизнь, а ей еще только двадцать один год. Со столькими дипломами и гарантированными ста пятьюдесятью фунтами в год она чувствовала себя очень уверенной в себе…
Такова была ее история. В общих чертах она изложила ее Барнаби в «Савойе» между устрицами и кофе.
– Большое спасибо, – искренне сказал он. – Очаровательно, что вы позволили мне почувствовать себя давним другом семьи.
– Вы сами напросились.
– И очень этому рад. А теперь… как вам нравится?
– Что?
– Жизнь?
– Спасибо, очень.
– И какую ее часть вы намерены провести в «Проссерсе»?
– Самое позднее до среды.
– И тогда мы вас лишимся?
– Вы довольно долго без меня справлялись.
– Даже представить себе не могу как. – Он посмотрел на часы. – Наверное, нам пора возвращаться. – Он щелкнул пальцами, прося принести счет. – Позвольте сказать, я получил больше удовольствие от ленча.
– И я тоже. Вы не против, если я пойду припудрю носик? Встретимся снаружи.
– Ладно. Это наверху, если вы не… я хочу сказать, крайне неприятно… О, но вы, наверное, знаете.
Когда она поднялась, он тоже встал, спрашивая себя, нет ли у нее комплекса независимости. Она не желала знать, во что ему обошелся ее выбор. Она не желала видеть, как он оплачивает счет. Та тетя, решил он, наверное, была сущая гарпия.
Он все еще размышлял о странностях жизни, когда со сложенным листком бумаги к столику подошел официант. Но это был не счет.
– От мисс Марр, мистер Раш. Она только что ушла.
С внезапной тревогой Барнаби сообразил, что полтора часа не думал о Хлое.
«Кто она, дорогой? – писала Хлоя. – Я отчаянно ревную».
Глава XIII
1
На следующее утро Хлоя поднялась рано.
– Это почта, Эллен? – крикнула она из ванной. – Что-нибудь волнующее?
– Уйма счетов, – мрачно отозвалась Эдлен.
– Надо будет как-нибудь это уладить.
– Одно от мистера Раша… Опять этот мистер Хиндж… О, и одно от миссис Клейверинг! И какой-то новенький, это будет…
– Скорее всего Бейзил. Он поэт, я тебе не рассказывала?
– По виду не скажешь, но ему лучше знать. Еще страховка на машину… Да, кстати, в прошлом месяце мы получили последнее уведомление.
– Проклятие, выпиши чек, ладно? И принеси мне письмо мистера Раша. Остальное положи где-нибудь.
Эллен принесла письмо в ванную.
– У вас опять вода слишком горячая, – сказала она сквозь пар.
– Зато жир сгоняет, – ответила Хлоя, протягивая руку из ванны. – Лучше позвони, чтобы принесли завтрак. Я через минуту выйду.
Барнаби писал:
«Прекрасная, дорогая моя!
Она дочка священника. Ее фамилия Норваль. На холмах Лоумшира[79] ее отец питает свою паству медоточивыми текстами, которые учат сельского моралиста умирать в торжественной уверенности, что восстанет для блаженства («Милтон, Грей и Ко» под редакцией Б. Раша). Теперь расскажи, с кем была ты. И не забудь, красавица, что в четверг у нас ленч.
Твой Барнаби».
Она читала медленно, сперва с легкой улыбкой, потом хмурясь. Она уронила письмо на коврик, потом поглубже ушла в воду, потом протянула за ним мокрую руку, снова прочла и снова уронила. Вытираясь, она развлекала себя попытками подобрать его пальцами ног и положить – не сгибая ногу – на тумбочку у зеркала. Второй ногой она повторила все в обратном порядке, что было гораздо сложнее. Возбужденно позвала Эллен потом пробормотала: «О, не важно», – и вернулась к упражнениям с письмом без зрителей.
В спальне она порвала его на очень маленькие клочки и бросила в корзинку для мусора.
– Завтрак вот-вот подадут. Я велела принести яйцо, пойдет вам на пользу. До ленча вам еще долго ждать, – сказала Эллен. – Вы только что звали?
– Ты могла бы подобрать листок бумаги пальцами ноги и положить на тумбочку в ванной, не сгибая колена? – Хлоя вскрывала и читала остальные письма.
– Нет.
– А я могу.
– Вы моложе меня. И у вас ноги длиннее.
– Возможно, в этом дело. Посмотри, что у меня на четверг. На время ленча.
Заглянув в книжицу, Эллен сказала:
– Мистер Раш.
Хлоя сделала удивленное лицо.
– Где чек? Надо бы его подписать. Запиши Крокстон на следующую субботу.
Отложив письмо Китти и вскрыв письмо от Бейзила, она пробежала глазами изящные строчки, а потом затолкала листок в ящик туалетного столика, глянула на начало и конец однодневного творения Хинджа и бросила его в корзину.
– Вам, наверное, пора одеваться? – предложила Эллен и, достав карандаш, перевернула страницу. – Уик-энд, Крокстон, – сообщила она и стала ждать с занесенным над книжицей карандашом.
– Проклятие, каждый месяц приключается. Кажется, ты их куда-то затолкала.
– Не глупите, мисс Марр.
– Все кругом сплошная глупость, если хочешь знать мое мнение. Лучше уж в Крокстон, чем куда-то еще. Запиши. Чек у тебя?
Она оделась, она позавтракала, она собралась, ее машина ждала внизу. С последним предостережением Эллен вести осторожно, потому что она не застрахована «или страховой агент заявит, что вы не застрахованы», на которое она бросила: «Обязательно, дорогая. Буду хорошей девочкой!» – Хлоя уехала.