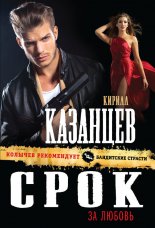Учебник рисования Кантор Максим

- А ты кто такой?
Соломон Рихтер счел за благо промолчать. Вступать в пререкания с неприятными мужчинами не хотелось. Тем более что Марианна Карловна испугана не была и беседу вела сама.
- Тут что, - спросила она, указав на сверток, - миномет?
- Гранатомет, - ответил один из мужчин.
- Заряжен?
- Зачем заряжен? Кто заряженный носит?
- Из окна будете бить? - спросила Марианна Карловна.
- Зачем бить. В гости пришли.
- Так вы гранатомет ваш у консьержа внизу оставьте, а сами погуляйте пока. Левкоев к восьми приходит.
- Шутишь, старая. Воды дай.
- В Москве воду из-под крана не пьют. Тут вам не Буэнос-Айрес.
Соломон Моисеевич испуганно смотрел на участников этого диалога. Вскоре однако ситуация прояснилась. Одновременно вошли и приехавшая из Переделкино Алина Багратион и вернувшийся из банка Тофик Левкоев, который тут же и разъяснил происходящее. Все дело в том, что он собрался ремонтировать ванную, хочет сделать там вместо обычного джакузи - бассейн с морской водой и искусственными волнами; рабочих же выписал из Дагестана просто, чтобы поддержать тамошних бедняков, дать подзаработать дагестанским сантехникам. Вот они и приехали, привезли с собой кой-какую арматуру для установки бассейна. Дикие же шутки по поводу гранатомета, вызвавшие легкую панику у Алины Борисовны, вызваны были всего лишь провокацией старухи Марианны. Не спроси она с подковыркой, уж не оружие ли в свертке, никто, разумеется, про оружие бы и не вспомнил. Что за юмор такой идиотский, в наши тревожные дни уж вовсе неуместный.
- Вы уж простите их, Алина Борисовна, - говорил Тофик, прижимая руку в перстнях к дорогому пиджаку подле оранжевого галстука с лиловыми подковками.
- Ах, ну о чем вы говорите, Тофик Мухаммедович. У самой сантехники работали, знаю, что за люди.
- Пролетарии, что с них взять. Дикари.
- Пожалеть их надо.
- Да вот пожалел дураков, а они народ пугают.
- Ну ничего.
- Ужасно неловко.
- Право, ерунда. Расскажу Ивану Михайловичу, он посмеется.
Дагестанские рабочие подхватили тяжелый сверток и унесли вверх по лестнице. На прощание же один из них подмигнул Марианне Карловне, и та степенно кивнула в ответ.
Сцена эта взволновала Соломона Моисеевича.
- Значит, там все же не оружие было? - спрашивал он Марианну Карловну тревожно, и чай плескался в его дрожащей чашке. А то я уж испугался. Как, прямо в городе? Невозможно. С чего же вы решили, что это гранатомет?
- А что ж еще? Но для боев в городе гранатомет неудобен. Зря везли. Разве что бить вдоль улицы по баррикаде. Или для покушения.
- Что вы, Марианна Карловна!
- В уличных боях хорош обрез, но лучше всего бить ножом.
- Ножом?
- Да, ножом, - глаза Марианны Карловны, глаза, что умели глядеть длинным немигающим взглядом, остановились на Рихтере, и тому стало не по себе, вот так, - и тощей рукой она сделала стремительное и страшное движение.
Совершенно больного и подавленного забрал Татарников своего друга из гостей.
- А что? - так прокомментировал Татарников рассказ Рихтера, - с них станется. Левкоев, говорите. Уж не мой ли это родственник? Этот вполне может. Не то что гранатомет, он, пожалуй, и танк в ванной поставит и из окна начнет шарашить по прохожим. Запросто. Лишь бы доход давало. Такая вот у меня родня. Прошу любить и жаловать.
- Как это - ваш родственник?
- Да я же вас знакомил.
- Не может быть, - и Рихтер моргал близорукими глазами, - откуда же у вас, Сергей, такой странный родственник? Не понимаю.
- Откуда, откуда. Муж Зоюшки, - свирепел Татарников.
- Муж вашей жены? - Соломон Моисеевич оцепенел. - Как это?
- Ну да! да! - завизжал Татарников, и, перестав поддерживать Соломона Моисеевича под локоть, потряс руками в воздухе, - да! Первый муж моей второй жены! Не угодно ли! Что здесь неясного? Что вы дурака тут валяете, Соломон? Он вам нравиться должен - чеченец, повстанец, бандит! - и Татарников страстно жестикулировал, напоминая персонажа итальянского театра масок
Запутанная история московских семей (кто на ком женился, кто с кем развелся и почему они все - родня, а друг друга терпеть не могут) как нельзя лучше иллюстрирует положение дел на испанском фронте тридцатых годов. На первый взгляд все предельно ясно: мятежники-фашисты атакуют, красное правительство обороняется, добровольцы приезжают, чтобы биться за свободу, - мало столь ясных эпизодов в мировой истории. А на деле все так же запутано, как в истории Левкоевых-Татарниковых.
XVI
Испания времен гражданской войны тем и замечательна, что здесь в последний раз авангард и революция собирались быть заодно; на миг им самим (да и изумленному миру) померещилось, что идеалы революции и идеология авангарда совпадают, что вот она грядет, подлинная победа, - и в этом месте и в это время они расстались навсегда. Нет и не будет в истории более непримиримых врагов.
Никто не хотел революции в Испании - и прежде всего не хотели этого авангардисты.
Авангардисты-фашисты (франкисты, итальянские батальоны дуче, германские легионеры) никак не допускали отождествления авангардистских идей с Испанией. Но этого не хотели не только они - внятные враги. Этого не хотел никто, друзья-авангардисты прежде всего. Революция в Испании, приходу которой должны были так сострадать большевики, вышла нежеланным и уродливым ребенком. Словно приблудная кошка в кухне - взяла и окотилась, и общим семейным собранием решено было никчемных котят утопить. А котята (т. е. испанские революционеры), пребывая в иллюзии, что взоры благожелательной семьи устремлены на них, что все им сочувствуют, самозабвенно выкрикивали свое бессмысленное «no passaran» и раздавали в окопах старые ржавые винтовки. Но бравый их лозунг имел отношение разве что - и прежде всего - к ним самим. Это именно они никуда не прошли, а не прошли именно потому, что их никто в цивилизованный мир и не собирался приглашать. Кому они, к чертовой матери, были потребны? Пора было заниматься государственным строительством - да, авангардным, да, прогрессивным, - но только при чем здесь революция? Российский политический авангард уже давно распрощался с идеей революции, немецкий политический авангард свою революцию благополучно придушил, а те недобитые революционеры ленинского призыва, что еще коптили небо в советской России да в Коминтерне, те просто ждали своего часа, чтобы отправиться по этапу. Время революции миновало - миновало стремительно, и только крестьянская Испания этого не заметила, только каталонским рабочим да баскским крестьянам мерещилось, что вот впрямь одно вытекает из другого: из полотен Пикассо - происходит Декрет о земле, а из стихов Маяковского - возникает интернационал рабочих.
Тридцать седьмой год (год, печально известный в российской истории репрессиями и уничтожением революционной интеллигенции и ленинской партийной номенклатуры) был переломным годом именно в том отношении, что авангард наконец впрямую распрощался с революцией и свел с ней счеты. Российский террор и испанская война - вещи одной природы.
Российские коммунисты сделали все для того, чтобы дискредитировать ПОУМ, развалить союз анархистов и коммунистов, объявить марксистов троцкистами и перевести революционную Испанию в статус демократической республики либерального толка. А упомянутая республика либерального толка объективно оказалась и нежизнеспособной, и никчемной. В короткое время оборона республики, все эти храбрецы интербригадовцы, запутались - кого они, собственно говоря, представляют, против кого они сражаются и, главное, за что. Какие принципы отстаивают? Авангардные? Революционные? Национальные? Никаких общих убеждений не осталось. Асаньо заменили на левого социалиста Кабальеро, того общими стараниями заменили на правого Негрина, анархистов, удерживающих арагонский фронт, перестали снабжать русским оружием, рабочую марксистскую партию обвинили в империалистических грехах - словом, делали все что угодно, лишь бы именно революции не произошло. Уж, казалось бы, разве не революцию так ждал весь авангардный мир? Не этим ли бременем собирался авангард разрешиться? А вот и не этим. Совсем даже другим. А с революционерами-то как быть? С ними быть-то как? А просто, без церемоний: обойтись с ними так же, как с главой ПОУМа Андреа Нином, с которого энкавэдэшники в Мадриде содрали кожу. В святые их определить, в святые Варфоломеи, - и хорошо. В самый раз.
Как известно, на Мадрид шло четыре колонны франкистов, пятой колонной назвали диверсантов, наносивших республике удар в спину, и однако Мадрид бы не пал, если бы не шестая колонна; шестой колонной был авангард.
Впрочем, невеселые соображения эти не должны отвлекать от живой жизни. История остается историей, а события, ежечасно происходящие (подтверждают они теорию или нет), имеют собственное значение - гораздо более насущное для живых героев, чем общие вопросы.
XVII
То, что авангард тянется к власть имущим, косвенным образом подтверждает творческая биография Сыча, - но разве одним теоретическим положением опишешь весь комплекс чувств художника? Перформансы его, сделавшись непременным событием всякого столичного собрания, приобрели статус даже не культурный, но больше - общественный. И не чувствовать ответственность за то место, что занял в обществе, Сыч не мог. Скажем, звали его и сомнительные компании - приглашали, например, представители чеченской диаспоры или какие-то темные закрытые акционерные общества, мол, приезжай, повесели своим представлением, - и сулили, кстати сказать, немалые гонорары. Что стоило поехать, да и подзаработать. Был соблазн, но Сыч отказывался. Напротив того, перформансы в Переделкине особых барышей не приносили, но зато приближали к элите - культурной и политической. Одни имена гостей перечислить - и то волнение душит. Тут тебе и поэт Вознесенский, и семья Пастернаков, и префект городской Думы, а то зайдет и сам Иван Михайлович Луговой с женой Алиной - вот так, и не меньше. И не только с перформансами звали теперь Сыча, но и просто в гости, так, зайти, посидеть на переделкинской веранде, послушать шум дерев, попить пахучего чайку из самовара. Да и хорька своего непременно приводите, он-то чем не член коллектива? Берите его, не стесняйтесь, у нас, Пастернаков (Луговых, Вознесенских, Басмановых и т. п.), всегда все просто, без затей. И Сыч брал хорька, и шел, волнуясь, в гости, чтобы вот так, запросто, посидеть среди избранных, услышать, как между прочим произносят имена великих поэтов, подержаться за руки тех, кто строил культуру в этой несчастной стране. Не есть ли это то самое отличие, к которому он стремился, выдумывая свой отчаянный перформанс? Да, он радикал и авангардист, он эпатировал все и вся, он противопоставил себя официозу, но ведь и те, у кого он сидит теперь на веранде, тоже в свое время все и вся эпатировали. А нынче остепенились, чай с вареньем пьют. И варенье-то неплохое! Значит культура так и устроена, что, когда страсти откипят, прежние бунтари могут спокойно посидеть с власть имущими, чайку похлебать. Как мудро придумано! Ведь и политики точно так же: на людях они, энтузиасты, глотку друг другу рвут, а потом мирно идут вместе в ресторанчик и отдыхают. Что же, в самом деле, удавиться теперь из-за этой Чечни (Афганистана, Ирака, Сербии, Палестины, Руанды)? Есть же цивилизованный подход к вопросам? Да, Иван (Роджер, Кристофер, Пьер) - мой оппонент, и наши взгляды на проблему Ближнего Востока расходятся диаметрально, но про фрикасе из барашка мы думаем совершенно то же самое. И в культуре - в культуре так же обстоит. Да, этот дяденька поставил статую Ленину, а этот написал про Ленина насмешливые стишки, - но их обоих принимает британский посол. Это ведь и есть подлинная культура общества, говорил себе Сыч, она много из чего состоит, она все в себя вмещает. Вот, говорил он себе, смотри и учись: пришел Луговой, с самых верхов человек, он с президентом на ты, а рядом - родня некогда опального поэта. И ничего, никаких противоречий. А вот зашел известнейший диссидент Виктор Маркин с супругой. Седой, в лагерях сидевший, в тюрьмах ломаный, гэбэшниками тасканный, а теперь болтает запросто с Луговым. Переделкинские веранды - они всех равняют, потому что здесь - культура. И я - я тоже такой же. Мало ли чего я на сцене вытворяю, но здесь я сижу тихо и воспитанно, поскольку искусство - искусством, а культура - культурой. Правды ради надо отметить, что Сыч сидел на таких сборищах излишне тихо: потерянный, он забивался в угол. Знаменитости разговаривали через его голову, даже тарелку ему не всегда ставили. Раз попробовал Сыч заговорить со стриженой красавицей, женой Маркина, но та столь презрительно поглядела на него, так шевельнула бровью, что у художника все заготовленные фразы пропали. Что же, я вовсе никто для нее? Сыч с удивлением отметил, что хорьку пододвигали стул раньше, чем ему самому, ставили прибор вперед прочих, и вообще оказывают внимания больше, нежели ему, Сычу. А хорек, бестия, избалованный вниманием, выгибал спинку, поводил глазами, тянул шейку. Они не на меня вовсе смотрят, думал в растерянности художник, им хорек куда как интереснее. Но ведь это дико, нелепо. Кто он без меня? Животное. Бездушное создание, зверь тупой и бессловесный. Это я же, я, искусством своим сделал его существование осмысленным. Позвольте, как же так? Это я - автор! Так думал Сыч, сидя в углу веранды переделкинской дачи. Однако его мысли не останавливались на этом, но шли дальше. Ведь бывает же так, говорил он себе, что картины художника привлекают больше внимания, чем сам творец, это даже, как говорят, закон творчества. Вот, допустим, Малевич. Все смотрят на его квадраты, а мастера-то за ними и не видят. А справедливо ли это? Ведь если разобраться, всякий квадрат похож на другой, чего там разглядывать. Между ними и разницы никакой нет, и красоты там - кот наплакал, и смысла в них нет никакого: ну, квадраты - и квадраты. Это человек, автор, наполнил их смыслом. Автор сказал, что они значат вот это и вот это. А человеком- то и не интересуются. Но ведь это он вдохнул в квадраты душу, вроде как я в хорька. Без человека квадраты так и остались бы квадратами, а хорек - хорьком. Но вот проходит время, и квадраты уже ценны сами по себе, а эта шерстяная развратная бестия сидит, шейку тянет, глазками поводит - и ценность представляет уже самостоятельную. И что же, выходит, что теперь квадраты уже не квадраты, а хорек - не хорек? Так получается? Но ведь квадрат навсегда останется квадратом, а хорек - хорьком. Вот если бы бог не вдохнул душу в Адама, кем бы был человек? Здесь Сыч запнулся в своих рассуждениях. Всякое рассуждение об искусстве - уравнение с неизвестным, и неизвестным является душа творца. Здесь же получился явный перебор неизвестных в уравнении тут непонятен и человек, и хорек, и квадрат. И какой из этих иксов значим, а какой нет, - уразуметь было невозможно.
Я привожу здесь этот эпизод биографии известного художника лишь как иллюстрацию врастания авангарда в тело официальной культуры - процесса непростого, но естественного. Выражаясь экономическими терминами, акции авангарда оказались подтверждены банком культуры: официальная культура удостоверила их стоимость.
Биография же гомельского мастера дефекаций являла прямую противоположность описанному выше - и, если задаться вопросом, в чем же именно состояло это кардинальное отличие, - ответ будет прост: в обреченной революционности. Тот, кто решается на подлинную революцию, не мнимую, а поистине безоглядную, неизбежно остается один. В гости не позовут и чаем не угостят. Безумный Дон Кихот, бродящий по дорогам Кастилии, нелюдимый Сезанн, идущий по дорогам Экса, - не являют ли они нам пример гордого, но поистине безотрадного в своем одиночестве духа? Тот, кто отважился сказать всем наперекор, должен быть готов к такой судьбе. Мастера дефекаций давно забыли. Люся Свистоплясова встретила его на улице - и испугалась. Отшатнулась даже, так поразил ее облик некогда известного мастера. Обыкновенный бомж, подумала она, человек, разом состарившийся на тридцать лет, грязный и больной. Седая щетина, нечесаные пряди. - Что? Страшно? - с издевкой спросил художник. Не узнаешь? - А ты ешь что-нибудь? Ты живешь где? - ахнула Свистоплясова. - Ишь, хватились, - отвечал художник насмешливо, - ишь, какая заботливая, а я уж три раза околеть мог. Меня три раза в морг увозили с улицы. Ну, что тебе еще интересно? Как зимой выжил? Отчего не замерз? Не бойся, замерзну еще. Он зябко повел плечами под дырявым пальто. Люся хотела спросить, работает ли он, и удержалась от вопроса. В самом деле, вопрос мог бы прозвучать цинично. Однако художник угадал вопрос. - Работаю я! Да! Работаю! И лучше прежнего работаю! Для себя работаю, не на публику - и, как бы в подтверждение своих слов он расстегнул штаны и принялся мочиться на стену дома, несколько отвернувшись от Люси и прикрывая ширинку рукой. Действительно, некая застенчивость этого жеста, то, что художник при всей тяге к эксгибиционизму позиционировал этот жест как интимный, укромный, - резко отличалась от его предыдущей эстетики. Если прежние отправления мастера были сознательно и даже преувеличенно публичны, то сегодняшний акт представлялся неким апофеозом частного, приватного. Люся не могла про себя не отметить этот контраст, но отнесла его за счет общей зажатости, затравленности и бедственного положения. Лишь позже, спокойно анализируя свои впечатления, она пришла к выводу, что налицо действительно новый почерк, изменение стиля.
Она почти тайком стала подбрасывать ему заказы на работу - в небольшие, жалкие периферийные клубы, дома культуры на окраине, районные дискотеки. И звонила потом администраторам, справлялась, как прошло. И всегда слышала раздраженное: ну да, мол, прошло, спасибо, что уже прошло. Срам один, ничего не осталось от былого искусства. Драйва, мол, нет. Попытка связаться со столичными галереями - с тем же Поставцом, например, - разумеется, ничего не дала. Вежливый Слава Поставец высказался в том смысле, что у его галереи уже сформирована репутация, есть постоянные приличные клиенты; да и вообще надо держать планку в актуальном искусстве - все-таки после выставки Ле Жикизду, и так далее в том же духе. Ну куда с таким бомжом? Да и - положа руку на сердце - отвечает ли его так называемое творчество вызову времени? Да, актуально ли то, что он делает? Шум времени, говоря словами поэта, там слышен ли? А-а, то-то и оно, что шум не слышен - так себе, шорох какой-то. Но Люся, твердя про себя ахматовское «когда б вы знали, из какого сора», рук не опускала. Она продолжала работать, то есть убеждать, спорить, доказывать - иными словами, отстаивать права подлинного авангарда. И так делали все вокруг нее. Интеллигенция отстаивала свои свободолюбивые убеждения - свое право на высказывание, на самовыражение, на культурный проект. Так делал Яков Шайзенштейн, так делали Роза Кранц и Голда Стерн, так делали Леонид Голенищев и Петр Труффальдино, так делал Осип Стремовский - лучшие, умнейшие люди столицы.
Так жила Москва, и, собственно говоря, так жил весь просвещенный христианский мир - вкладывая энергию и страсть в производство и пропаганду никому не нужных, бессмысленных, пустых вещей. Некогда потраченная энергия, израсходованные в прошлом усилия обеспечили миру плотную броню, культурный набрюшник, надежно закрывающий дряблое тело. И под этой теплой, пестрой, блестящей броней мир чувствовал себя покойно - он казался себе неуязвимым. Шумели вернисажи, гремели съезды либеральных партий, сверкали фейерверками банкеты. Был проведен забавнейший футбольный матч между командой актуальных художников и парламентскими депутатами - всякий уважающий себя интеллектуал посетил это состязание. Форварды либерализма! Наряженные в эффектные костюмы, выполненные по эскизам Розановой, прыгали свободомыслящие авангардисты на стадионе, пасовали, финтили, веселя народ! Ах, как хорош был на воротах Осип Стремовский! Ах, как хохотал министр культуры А. В. Ситный! И М. З. Дупель, сидящий в его ложе, тоже посмеивался. А после матча - прямо на поле фуршет и танцы. И в прочих городах просвещенного мира не утихало прогрессивное веселье. Плясал на открытии своей выставки в Париже Гриша Гузкин, а напротив него выкидывал коленца кумир художественной общественности Гастон Ле Жикизду. А в Москве под ту же мелодию кружились пары: Осип Стремовский танцевал с Розой Кранц, Дима Кротов задорно вертелся в крепких руках Германа Басманова. И защитный слой культуры был так прочен, так уютно грел тело общества этот пестрый набрюшник, что и помыслить было трудно, что все это вдруг возьмет да и кончится. Не кончится! Никогда не кончится, уж не революцией же? Прошло то время, когда боялись революций: теперь мы сами, жирные и гладкие, теперь мы сами - революция! В конце концов, как любил повторять Леонид Голенищев, в тысяча девятьсот семнадцатом году произошло два события: одно - шумное, а другое - важное. В тот памятный год случилась Октябрьская революция, и одновременно Дюшан выставил свой писсуар. Первое событие наделало шума и бесследно растаяло в истории; второе же - оказалось подлинной революцией духа, о нем будут помнить века. На прошедшем недавно коллоквиуме в Лондоне все прогрессивные британские критики признали писсуар - главным достижением двадцатого века. Вот что остается в памяти людской, вот что дает гарантию нашему веселью! Видите, благодаря чему живет и развивается человечество - а вы опасаетесь каких-то там ветров и вихрей. Все давно в писсуар спущено. Нас надежно хранит теплый набрюшник культуры, он и греет, и успокаивает. И лишь иногда, совсем редко, после удачного симпозиума по проблемам минимализма, после шумного коллоквиума, посвященного полоскам и квадратикам, кому-нибудь приходило в голову: а что если набрюшник этот порвется? Вдруг уколют чем-нибудь поострее, да и лопнет защита? Вдруг до мягкого живота достанут? Но не сегодня, нет. Еще не сегодня. Сегодня у нас вернисаж Джаспера Джонса. Культовый мастер, и спонсор солидный - «Бритиш Петролеум». Они всегда на вернисажах хорошее шампанское подают, Дом Периньон. Как бы нам не опоздать.
16
Есть два умения, они могут дополнять друг друга или существовать врозь: умение писать тень и умение писать свет. Те художники, что работали до Ренессанса (правильнее назвать их иконописцами), вовсе не сталкивались с проблемой писания тени. Изображенное ими всегда имеет отчетливый яркий цвет, тот цвет, что обнаруживает свои качества на свету. Даже сам Сатана не спрятан в тень, но явлен зрителям при отчетливом и ровном освещении - он просто черен. То, что отличает грешников от праведников, - это цвет лиц и физиономические черты, но никак не погруженность во тьму, где и черт их было бы не рассмотреть. Представление о мире как о предельно ясной конструкции, насквозь пронизанной светом и поддающейся суждению и пониманию в любой точке, было потеснено в эпоху географических открытий, церковной реформации и бурных страстей.
Ту живопись, где все на свету, где любой цвет имеет лишь одно выражение и одно состояние, не отменили - но такую живопись отныне стали подозревать в недостаточной сложности, называть декоративной, а затем и примитивной. Художникам потребовалось научиться прятать лица и цвета в тень - или, напротив: уметь выводить героев из тени. Собственно говоря, вслед за перспективой, удостоверившей, что есть вещи важные, а есть менее важные, введение светотени удостоверило, что отнюдь не все сущее открыто пониманию. Есть вещи спрятанные; есть отдельная природа греха и тайны; есть вторая сторона бытия - и проникнуть в нее непросто. Рисование тени предъявило новые задачи: цвета в ней неотчетливо видны, и черты лица неразличимы. Зачем художникам изображать то, что не вполне внятно - а стало быть, ускользает от изображения? Ответ прост: именно невнятица есть свидетельство сложности - не всегда хочется позволить зрителю прочесть свою судьбу до буквы. А порой и заранее хочется встать в тень - чтобы уберечься от разглядывания. Так, погрузились в тень венецианские дожи и куртизанки, храня значительное молчание, - не разберешь: хорошие они люди или не слишком. Погрузились во тьму голландские интерьеры - это частная жизнь, и нечего ее пристально разглядывать. Погрузился в тень ад, и неразличимым в темном пламени сделался Сатана - и для некоторых мастеров он стал в силу этого романтической фигурой.
Использование светотени имеет очевидную посылку: утвердить предположение, что в человеческой природе ясное переплетено с невнятным, хорошее с дурным. Проблему столкновения светлых участков картины с темными решают по-разному.
Один из методов предполагает, что природа добра и зла однородна: как светлые, так и темные части лица пишутся пастозно и светло; впоследствии то, что находится в тени, закрывается легкой лессировкой нейтральным цветом - но зритель видит, что основа, даже под тенью, светлая и сильная. Так писал Тициан. Иной способ предполагает, что находящееся в тени имеет собственную субстанциональную природу и, соответственно, цвет в тени создается по отдельным законам, схожим с теми, что используются для изображения света, но другим. Цвет, которым Рембрандт пишет тень, - это не субститут цвета, использованного на свету, - это отдельный драгоценный сплав, он не менее важен. Третий способ утверждает, что тень не нуждается в определениях - она хозяйка. Караваджо механически закрашивал пространство и половину фигур в темный неинтересный цвет, подразумевая, что тень господствует в мире и собственно пространство и есть тень. Четвертый способ, явленный Леонардо, показывает, что свет и тень переплелись, и ничто невозможно назвать определенно светлым или определенно темным. Цветная тень, которую бездумно употребляли импрессионисты и которую Гоген сделал героиней своей живописи, она стала интереснее света. Постепенно знание того, что есть свет, а что есть тень, вовсе утратилось. Это совпало с размыванием предмета, а затем и с исчезновением портрета. Потребовались усилия Ван Гога, чтобы вернуть свету - цвет и отказаться от тени вообще, но это возвращение к иконе осталось практически незамеченным. Наследниками Ван Гога оказались фовисты, прочитавшие его живопись как декорацию.
Художнику остается выяснить, является ли цвет - выражением света.
Глава шестнадцатая
ГАМЛЕТ, СЫН ГАМЛЕТА
I
- Почему он не убил Клавдия сразу, вот что интересно.
- Тебе зачем? - спросил другой мальчик
- Чтобы научиться, как себя вести с плохими людьми.
- Сразу убивать или подождать?
- Вот именно.
- Лучше не тянуть. А то тебя убьют.
- А Гамлет ждал.
- Нет нужды копаться в характере Гамлета. Что в нем хорошего, если разобраться? У Шекспира есть герои убедительнее. Отелло храбр и простодушен. Брут честолюбив и честен. Скажи, пожалуйста, хорош Гамлет или плох?
- Он очень хороший.
- Это из чего видно? Он кого-нибудь любит?
- Всех: Офелию, друзей, мать, отца.
- Хороша любовь - всех на тот свет спровадил. Такую любовь платонической не назовешь, верно?
- Друзья его предали - получили то, что готовили ему сами; не он же их убивал? Офелия сошла с ума от горя, это верно. Но отца ее он убил случайно. А Гертруду и вовсе отравил король.
- Оправдываешь его, как плохой адвокат - хулигана в районном суде. Подзащитный ни при чем, среда виновата. Прокурор в таких случаях говорит: представьте суду доказательства, что он человек приличный. Он что-нибудь хорошее совершил?
- Безусловно.
- Пек хлеб? Опекал сирот? Водил поезда? Ничего этого, насколько известно, он не совершал. Но, возможно, он делал нечто иное, тоже положительное. В таком случае не утаите этого факта от суда.
- Ты в газете так ловко обучился говорить? Тренируют журналистов. Действительно, принц хлеб не пек. Вообще, на свете мало людей, пекущих хлеб; гораздо больше народу его ест. Ты, кстати, тоже хлеб не печешь, но я тебя считаю хорошим человеком.
- Когда зарежу дядю, так суду и скажи.
- Обязательно. Хлеб Гамлет не пек, поездов не водил, и даже домов призрения не строил. Делал иную работу, более важную.
- Какую же?
- Ту, к которой призван король. Для того чтобы хлеб пекся, а сироты регулярно его получали, требуется организованное общество, в котором есть законы. Надо так отрегулировать общество, чтобы законом стала справедливость и не позволила сильному притеснять слабого, защитила бы сирот и стариков.
- Мне, репортеру демократически ориентированной газеты, отрадно слышать эти слова. Истинно говорю тебе, справедливое регулирование общества необходимо. Не далее как вчера обнаружилось, что один депутат на дотации для детских садов построил виллу на Капри. Жаль, не нашлось Гамлета помешать ему. Отметим, что принц не сделал этого и в Дании. Был озабочен борьбой за престол, а не нуждами сирот.
- Если озаботиться нуждами сирот, то не успеешь испечь хлеб. А если испечешь хлеб, не останется времени водить поезда. А главное вот что. Если законы общества устроены неверно, то непременно случится так, что хлеб, который ты испечешь и который повезут на поезде к сиротам, - хлеб этот сиротам не достанется. Когда общество пришло в негодность - все, до основания, - как быть? Пожалуй, требуется изменить законы. Законы утверждаются властью. Значит, начать требуется с устройства власти. Ты спрашиваешь, что хорошего он делает? Он судит власть кто- то должен судить?
- Сделать простое и полезное - не дозовешься, а судить - все мастера. Мне по душе люди, которые пекут хлеб. Но сегодня больше судят, а пекут все меньше.
- Неправда. На лавочке посудачить - пожалуйста, а взять на себя ответственность - страшно. Ты бы смог судить?
- Не пишу передовиц. Что я, Дмитрий Кротов, что ли? Тихий человечек, гладкий костюмчик, а статьи почитаешь - Перун! Я на такие подвиги не способен, я новости собираю, хронику пишу. Кто же Гамлету право дал - судить?
- Он не рад, что приходится судить. Кротов рад, а Гамлет - нет. И отличие простое: когда берешься судить, зная, что отвечать за суждение придется головой, - желающих судить поубавится.
- Судьи платят чужими головами. Гамлет судить не прочь: он ждет, чтобы проверить, вдруг призрак соврал. Сомневался не зря. Разумеется, соврал.
- Король сам признается, что его гнетет преступление.
- Но не говорит - какое. Может, дачу на Капри построил? Я давно заметил, - молодой журналист знал изнанку жизни, - люди охотно наговорят на себя, чтобы значительнее казаться. Настоящие призраки - это мнения людей о самих себе и рассказы очевидцев про события. Клавдию и призраку веры нет. Гамлет-отец, судя по всему, был мужчина апоплексический. Вспылил и - бряк, инсульт. А Клавдию ничего не остается, как на себя наговорить - совесть разбередить, и значительнее показаться.
- Призрак врет, потому что он - тень? А Клавдий врет - потому что он тень тени? Так?
- Совсем как в политике, - сказал мальчик, знающий жизнь, - за каждым министром стоит депутат, за депутатом - бандит. Надо только решить, кого считать тенью - правительственных чиновников или ребят с гранатометами.
- Получилось, что у Гамлета-отца сразу две тени: призрак и Клавдий. Если тень в принципе лжива, как можно верить одной из двух?
- Это случается сплошь и рядом, - сказал мальчик, который знал жизнь, двум теням при одном министре не ужиться. Вот доносы и пишут.
- Вопрос метафизический. Одна тень просит убить другую тень - а месть при этом должна быть явной.
- Гамлет медлит потому, что не понимает, как явное может быть следствием тени. Посидел бы в парламенте - привык бы. По отчетности все сошлось, денег нет, все истрачены на пенсионеров. А в реальности - особняк отгрохали.
- Если Гамлет-отец - подлинный, значит, все прочее - мнимость. Тогда все устроено согласно Платону: реальность есть тень идеи. Вопрос вот в чем: поступок принадлежит к миру идей или остается внутри данной реальности, то есть принадлежит теням?
II
Мальчики гуляли вокруг пруда, и закатное солнце слепило им глаза, и они глядели себе под ноги. Потом они переходили в тень под липами, поднимали взгляд и смотрели друг на друга. Они были уже и не мальчики вовсе, эти давние собеседники. Один стал студентом, другой - журналистом, и оба давно чувствовали себя взрослыми. Если что в них и оставалось от мальчиков, то желание рассуждать, как это они делали в детстве, часами гуляя вокруг пруда. Взрослые люди обсуждают взрослые дела: проценты, вклады, зарплату - а мальчикам позволено болтать о пустяках. Так болтали они и сегодня.
- Честолюбие, - процитировал один, - лишь тень тени.
- Подтверждаю и могу проиллюстрировать примером. Одному прохвосту пожаловали пост министра энергетики, и это назначение - только тень, поскольку его снимут с должности и посадят; впрочем, тенью является и сама энергетика. Света нет в половине населенных пунктов нашей Родины - и это указывает на то, что энергетика есть не что иное, как зыбкая тень. Следовательно, честолюбие министра - лишь тень тени.
- Следовательно, нищие, у которых нет света, - это тела, а герои, ответственные за освещение, - лишь тени теней.
- Однако героизм остается явным образцом в истории. Может быть, сам герой и тень, но его деяния - светлая реальность. И у принца очевидных примеров перед глазами - не счесть. Подобное случалось в истории. Сын мстит за отца - не буду приводить примеры из жизни банкиров, про это Эсхил написал пьесу.
- И Орест, и банкиры, видимо, свидетельствуют об одном и том же.
- Ветхозаветный принцип. Так образуется череда убийств под названием «история». Прервать убийства - значит прервать историю.
- Если человек изменит обычай и подставит другую щеку - история прервется?
- Гамлет щек не подставляет.
- Гамлет, если разобраться, даже и не мстит. Он сперва дает себя убить.
- Верно, закалывает Клавдия из последних сил, умирая. Вот как бывает, если долго ждешь. Сегодня этот метод не популярен. У нас сначала пристрелят, а потом приказ выпишут о задержании. Но все-таки принц успевает отомстить.
- Непонятно, за что именно. То ли мстит он за отца, то ли за себя, то ли за мать, или он убивает врага в бою. А возможно, происходит еще что-то. Он убивает - уже будучи убитым. Это - его рукой, но не он сам.
- По стопам отца пошел. Как говорится, не из родни, а в родню - сам стал призраком. С тем, что это не месть, я согласен. Он же без счета народу убил. Наши банкиры тоже, конечно, не миндальничают, но меру знают. Ну одного, ну двух конкурентов. Но не десять же. Колебался и приглядывался к теням! За каждый день отсрочки - по трупу. Еще год подождать, он бы всю Данию к нулю свел. Чем хорош метод «око за око» - так это милосердием к окружающим.
- Все беды от исторической логики. Он не хотел убивать. И не считал свидетельство призрака доказательством. Логика истории подвела. Гамлет захотел перестроить историю - всю разом.
- Политику в белых перчатках не делают, ты хочешь сказать. Если бы Володя Ульянов просто пальнул в царя, погиб бы только царь. А подготовить революцию, перерезать помещиков, построить лагеря для врагов народа, развалить империю, - вот это, понимаю, дело. Ответ, таким образом, дан: принц ждет, потому что готовит революцию. Хорош гуманист.
- А ты бы как поступил? Если тебе сделали бы зло, ты бы как ответил?
- Мне никто не делал зла.
- А если сделают? Не тебе, а тем, кого любишь? Ты бы стерпел?
- Я бы старался помочь тем, кому сделали зло. Зло сделали нашей стране, - сказал другой мальчик серьезно, - что же теперь - всех убивать? Бандиты так и делают. Нет, обиду я не стану возводить в принцип истории.
- Гамлету не обидно. Ему странно. Ему дико. Он до разговора с призраком именно думал, что ему обидно: отец умер, а мать вышла за дядю. Он думал, что ему обидно, но вдруг узнал, что ему, оказывается, не обидно - ему бесповоротно. Ему сделалось странно оттого, что он обижался на бесповоротное. Он увидел, что весь мир разложился - до того, что мать спит с убийцей отца. А это уже не обида - это конец света. То, что с ним случилось, как подмена счета: думаешь, что играешь на фантики, а выставляют счет на миллион.
- Так наши дельцы и рассуждают: множат свою обиду на миллион - а страна должна платить. Недодали дяденьке при Советской власти зарплаты, так он сейчас от бюджета отрежет с процентами. Истории мстит. Сначала Гамлет мог рассчитаться мелочью: пойти и заколоть Клавдия. Потом подумал: вот, я отдельного гада убью. И что же, это закроет мои претензии человечеству? А Гертруда? А Офелия? А Полоний? А Лаэрт? Их там много. Озрик, например.
- Озрика он не убил.
- Руки не дошли. И зачем убивать: его Фортинбрас повесит. Разберется с бумагами, покрутит дело так и сяк, зевнет - и повесит. Спросит: ты клинки ядом мазал? Просто рядом стоял и хихикал? Вот тебе, скажет, от царских щедрот - три метра хорошей веревки.
- Не в Озрике дело. Все гнилое. Туда посмотришь - дрянь, сюда посмотришь - тоже дрянь. И в будущем ничего не светит, в прошлое заглянешь - одна мерзость. Дело не в революции, и не в мести, и не в том, чтобы претензии обществу предъявить. Дело в мировом устройстве. Потянешь за ниточку думаешь, размотаю я один клубок. А размотался весь шар земной. Дело в том, что все связано.
- Не тяни за ниточки!
- Проклятая аристотелевская логика - нет ничего отдельного. Обиделся на маму с дядей - а вышло, что на весь мир. И тогда потребовалось сойти с ума.
- Сумасшедшим он не притворялся. Зачем притворяться? Здесь я на стороне принца: знаю по газетному опыту. Если не хохочешь над любой прибауткой, уже ведешь себя подозрительно. Все на тебя смотрят и думают: парень явно не в себе, потому что в гости к Пупкиным не ходил, и искусство Пупкина ему не нравится. Если не хлещешь водку со всякой сволочью, не читаешь с ними одну и ту же макулатуру считай, помешанный. Социальная адаптация у принца на низком уровне - вроде как у меня. Я с Бариновым в газете не уживусь: прогонит. Но мир здесь ни при чем.
- Представь, что ты единственный зритель спектакля. Считается, что зрителей больше, чем актеров. А на самом деле наоборот: актеры - все, кроме одного. Сыграли пьесу только для того, чтобы посмеяться над ним - и над его отцом. Он и свихнулся.
- Ты хочешь сказать, что это декорация? - журналист посмотрел на московские дома, на окна, в которых зажигался свет, на женщин, катящих коляски по аллее. - Воров много, но то, что они крадут, - это настоящее. Страна гибнет, но она живая, моя страна.
- Это ведь никак не узнать. Человек определяет фальшивое по отношению к подлинному; ну, скажем, Россия - фальшивая страна, если Европа - настоящая страна. А как быть, если Европа - тоже фальшивая? История отсутствует в одном месте, потому что она присутствует в другом - помнишь наш давнишний разговор? Но как быть, если там, где она присутствует, ее тоже нет? Когда все общество симулирует жизнь, кем является тот, кто не участвует в симуляции? Вероятно симулянтом вдвойне.
- Россия не симулирует, - сказал журналист. - Некрасиво живет, но живет как умеет.
- А умеет много. И актеров научила преотлично. Ты про парламент рассказываешь. Много жулья, верно? Они долго учились - еще при Советской власти, еще в Дании. Симулируют мир, готовясь к войне, воруют и врут о благотворительности - научились. Симулируют законность, возвышая преступников - были б угодливы; так умеют тоже. Симулируют свободу слова, когда сказать нечего - и так умеют. Ты, журналист, должен это знать лучше других
- Я журналист - и знаю, что все разные. И про каждого надо написать историю. И для каждого играется своя пьеса. Разве у Гильденстерна и Розенкранца меньше оснований так считать, чем у принца? Для него поставлена одна пьеса - а для них совсем другая, вот и все.
- И у каждого - своя правда?
- Да, у каждого - своя правда, потому что написано много пьес. Дрyгoe дело, что все пьесы кончаются одинаково, - сказал журналист, подумав.
- Нет, - крикнул мальчик, который хотел стать историком, - написана всего одна пьеса!
- Мрачная рисуется картина, - сказал другой мальчик и оглядел пруд и блики огней на воде. - Помнишь, как Петруччо заставляет Катарину говорить на солнце, что это - луна, а на день - ночь?
- Он хочет, чтобы она научилась думать! Сгустилась непроглядная чернота, пугаются понятия, спустилась ночь, которая хочет казаться днем. «Эта ночь превратит нас всех в шутов и сумасшедших», - так говорит король Лир.
- А сейчас, по-твоему, день или ночь?
- День, да какой яркий! Как говорится в «Двенадцатой ночи», эти окна сияют ярче забора.
III
Сгустились сумерки, но собеседники не расходились, продолжали гулять вокруг пруда. Каждый раз, проходя мимо дома Лугового, они косились на окна. Там, за окнами, зажигали лампы, задергивали шторы, мелькали силуэты людей, накрывавших большой стол. Готовился прием. Иван Михайлович позвал представителей прессы - ожидались Баринов, Плещеев, Шайзенштейн, люди с блистательной репутацией. Не журналистов, разумеется, но тех, кто принимает решения, пригласил Луговой. Все три окна в знаменитой гостиной были освещены, и крупные пятна желтого света отразились в вечерней воде пруда.
- Поэтому Гамлет на свадьбе - в черном. Он все выворачивает наизнанку истиной вверх. Мой милый Гамлет, сбрось свой черный цвет, так ему сказал Клавдий. Клавдий с самого начала увидел, где проблема. Как говаривала леди Макбет: «Будь лишь ликом ясен: кто мрачен, тот всем кажется опасен».
- Гамлет в черном, - подтвердил журналист. - Правда, это теперь модный цвет. Все дома моды рекомендуют черное в этом сезоне. Светские люди черное любят - мало ли что случится: а они и на похороны готовы, и на парад.
- Он навсегда в трауре. Сын тени - ему положено. Все, что делает, - он делает как бы начерно, понимаешь? От него ждут решения, а он пишет черновики. Обычно черновик выбрасывают и пишут набело. А если как раз чистописание врет, то как быть?
- Подтверждаю это положение, - сказал журналист, - чистописание врет ежедневно, и на каждой полосе.
- Мы все устроены так, что симпатии связываем с белым. Зло - это мрак, а потом будет свет. Как в кино - на экране страшно; потом зажгли электричество в зале, стало хорошо. Представь, что зажгли электричество, и стало еще страшней. Первое, что Гамлет произносит на сцене: «Мне слишком много солнца». Потому что в свет - веры нету. Правду рассказывает тень ночью, до крика петуха; ночью на корабле он открывает измену; именно в темноте играют актеры, мышеловка, помнишь? Ему мрак помогает. Это лжецам нужен свет, помнишь, как разгневанный король кричит: «Эй, факелов!» На свету неправда незаметна - она слепит глаза. И перед Гамлетом вот какой вопрос поступить по законам света или - ночи. У любой задачи есть два варианта решения: явное, дневное, оно же - ложное; и внутренне достоверное, но оттого - призрачное. Гамлет медлит потому, что не может поступить по законам яви, не явным для него.
- Ты красиво рассказал, но не вполне ясно, совсем как призрак. Помрачение рассудка - единственный способ сохранить разум, это про Чаадаева, понятно. Но главного не договорил. Поступить по законам яви нельзя потому, что явное - обманное; но совершить поступок - можно только наяву, а не во сне. Вот проблема. Про это он и спрашивает: быть или не быть? Если быть - значит жить наяву, то лучше не быть, поскольку явное - непереносимая фальшь. Лучше уйти в мир теней, но и во сне придется видеть сны про явь, поскольку другой тени, кроме тени яви, не бывает. И положить конец этой непереносимости можно лишь сознательно противостоя злу - но противостоять злу можно лишь наяву, а не во сне. Гнет сильного, насмешка гордеца, что там еще?
- Гнет презренной любви.
- Да, все это сразу. Можно сразить их противоборством, да, - но на их территории, на свету, открыто, как же еще?
- Да, - сказал историк, - открыто.
- А для этого придется расстаться с твоей романтической схемой. Чистый вариант решения всего один, вот черновиков много. Но прока в них нет.
IV
Мальчики сделали еще один круг в сумраке под липами Патриарших прудов. Окна Лугового горели ярко. Вот возник на фоне окна силуэт хозяина дома - единственной рукой он поднял бокал - видимо, говорит тост. Луговой любил гостей, Алина была превосходная хозяйка, собирали людей на Малой Бронной часто и никогда не приглашали их зря. Уж если накрыли стол для газетчиков на Малой Бронной улице, значит, есть у хозяина что сообщить прессе. Луговой не из тех, кто любит попусту молоть языком, он мужчина практический.
- Действие должно случиться - это ты точно сказал. Но какое? Помнишь, Гамлет просит актера прочесть из Энеиды о Пирре? Параллель Ахилла и его сына Пирра - очевидна, эта связь на виду, Ахилла убили, его сын мстит; надо, как Пирр: Гекубу - так Гекубу, Приама - так Приама - режь всех. Но главное в том монологе другое: это рассказ Энея, понимаешь, Энея! Энея, который спустился за отцом Анхизом в царство теней с угрозой стать тенью самому - и вынес оттуда отца на плечах.
- Думаешь, Гамлет помнит про это?
- Будь уверен, Гамлет думает о царстве теней, будучи сыном тени. Ты только вообрази себе: у всех отцы как отцы, а у него - тень. Ему и Пирр, и Эней, и Орест родня. И есть еще один призрак - или дух, его главный родственник. Он не обозначен в тексте прямо, но главный - он.
- Все в родне - тени?
- Когда Гамлет гибнет, он сам тоже становится тенью. Непонятно: дух он или призрак. Если он все время пишет черновики, один за другим, то должен же найтись и окончательный вариант. Или по-другому: призрак есть тень идеи. Какой идеи? Осталось только понять, верно?
- Скажи, - сказал тот, который занимался журналистикой, - догадываться не люблю. Люблю факты.
- Пьеса называется «Гамлет» - но не сказано, какой из двух Гамлетов. Отец или сын? Я думаю, и тот и другой - сразу про обоих это и есть название пьесы: «Отец и сын». Такое название у всех главных книг, и даже у самой главной. Но сначала я вот о чем скажу: Гамлет не ведет себя никак - именно потому, что все возможные варианты поведения уже истрачены. Посчитай: сколько вариантов поступка есть у Гамлета. Сразу окажется, что любой поступок, который он мог бы совершить, уже кем-то совершен - место уже занято, кто-то другой так себя уже проявил на этом месте.
- Приведи пример, пожалуйста.
- Пожалуйста. Например, он может захватить власть, убить исподтишка короля, объявить себя законным наследником короля предыдущего, царствовать с видимым удовлетворением, так, как это делает Клавдий, как это делают во многих нам известных по истории случаях. Не надо шума, пырнул по-тихому, и порядок. В этом смысле Клавдий является его потенциальным двойником: недаром в представлении актеров - отравитель изображается племянником жертвы. Сцена якобы разоблачает Клавдия, а на самом деле проигрывает возможное поведение Гамлета. Верно?
- Здесь я согласен.
- Тут и спорить не с чем. Пойдем дальше. Он мог бы подобно Пирру, не разбирая ни правого, ни виноватого, не щадя ни женщины, читай Гертруды, ни старика, читай Полония, - порешить всех вокруг.
- А дальше?
- Дальше: он мог бы поднять мятеж, опираясь на толпу, подобно Лаэрту, еще одному своему двойнику. Так и действуют лишенные наследства принцы или демократические заговорщики - дают толпе оружие, а себе берут корону.
- Лаэрт ему действительно двойник
- А Фортинбрас? Тоже принц, потерявший отца, - причем известно, кому мстить. Гамлет мог бы брать с него пример. Он мог бы собирать войска наемников, готовя удар извне, чтоб вернуть родную землю, отнятую узурпатором. Так поступают принцы с ущемленными правами.
- Или, - сказал журналист ехидно, - бизнесмены, отправленные в изгнание. Есть у нас один нефтяной Фортинбрас, войска собирает. Впрочем, Фортинбрас-то в итоге все и получил.
- Верно, а почему получил? Потому что был ответственным престолонаследником, мыслил государственно. И наш принц так же мог: поговорил там, посоветовался здесь, подготовил прессу, выбрал время, ввел танки - как люди делают?
- И был бы прав. Только с демократами не надо связываться. Наболтают, запутают, оружие распродадут. Захочешь воевать - пуль не сыщешь.
- Дальше: принц мог стать ученым, не обращая внимания на строй. Мало ли кто правит: Горбачев или Ельцин, Блэр или Буш - ну их в болото, займусь наукой. Другим не помешаешь, сам целее будешь. Здесь его двойниками являются Розенкранц и Гильденстерн - «молочные братья», дети одного университета.
- Как и Горацио.
- Горацио - это совсем другое дело. Горацио - это тот, кто все запомнит, а потом все напишет. Горацио, мой друг, - это ты. Ты еще про всех нас напишешь правдивую историю. А сейчас вспомни про Полония. Вот еще один вариант поведения. Служит преданно, работает исправно, ведь можно - для спокойствия державы, - служить не королю, но отечеству. Разве мы не знаем таких, служивших сперва одному королю, потом другому, но больше - месту.
- Служить Родине - почетное право всякого гражданина. Особенно если служба номенклатурная. Сегодня депутат, завтра министр, потом - банкир. Родина пост сыщет. Не забудь сказать про Гертруду.
- Она - воплощенная любовь, без принципов, без правил. Полюбила и неважно кого, было бы чувство страстным. И разве плохо просто любить? - спросил историк, который еще никого и никогда не любил. - И это тоже возможность, упущенная Гамлетом. Гамлету бы жениться, и все бы успокоились. Он мог бы провести остаток дней в постели со своей красоткой, позабыв амбиции.
- Не так просто, - сказал другой мальчик - и не мальчик уже вовсе, но молодой человек, с опытом, со знанием жизни. - Я вчера объяснился с Соней Татарниковой. Будь, говорю, моей Офелией и не уходи в монастырь.
- А она? - собеседник Соню Татарникову знал с детства, они вместе ходили в школу.
- Уйду, говорит, в монастырь. Правда, монастырь называется Сорбонна, находится в Париже, и нравы там свободные. Что я мог возразить? Королевства у меня нет, предложить нечего.
- Если ты ее любишь, - сказал мальчик, который не знал про это чувство ничего, - ты сможешь все преодолеть, и это тоже.
- Разве ее папу преодолеть под силу? Это тебе не Полоний.
- Сергей Ильич Татарников - хороший человек. Помнишь, мы к нему за книжками ходили?
- Профессор ни при чем, он лишь тень отца. Она не его дочка, а Тофика Левкоева - знаешь, этот мордастый, на плакатах? В оранжевых галстуках ходит. Вот лучезарный бандит, - сказал другой мальчик, который знал жизнь, - полстраны купил, а другую половину продал. Так что Офелия обеспечена.
- Офелия, - сказал его собеседник, - являет еще один вариант поведения. Принц мог по-настоящему сойти с ума и покончить с собой. Так, вероятно, ведет себя человек, потрясенный смертью отца, - просто сходит с ума. Он все типы поведения понемножку пробует. То сумасшедшим побудет, то в Пирра поиграет с мечом постоит, то задумается о государстве, как норвежец. Если посмотреть внимательно, все варианты поведения разобрали, и каждый, вообще-то, неплох. Но выбирает он потом окончательный вариант.
- Какой же?
- Я скажу, если сам не догадаешься. Ты ответь мне на простой вопрос: зачем внутри пьесы - еще одна пьеса? Зачем пьеса, которую играют актеры?
- Мышеловка? Нужна для того, чтобы разоблачить короля.
- Разве за этим? И как же короля разоблачили - тем, что обидели? Король видит, что его обвиняют в убийстве, оскорбляется, встает, уходит. Любой бы обиделся. Ты бы тоже оскорбился. Я, например, скажу тебе, что ты дурак. Ты на меня обидишься. Будет ли это доказательством того, что ты дурак? Прямым доказательством все-таки не будет. А косвенных и так хватает.
- Имеешь в виду мое объяснение с Соней? Глупость, признаю. Знал, что глупость, а все-таки заговорил с ней. Но это была не пьеса и даже не комедия - хотя моя жизнь и кажется смешной. Мне подчас странно, что все, что происходит со мной, происходит на самом деле - раз так, то ничего другого никогда не будет. Реальность - она одна. А Гамлетy все стало ясно именно в театре.
- Что именно ему стало ясно? Вот ты на какой вопрос мне ответь: мы назвали несколько судеб, которые он мог бы прожить, - эти судьбы представлены как наброски главной судьбы. Но какой? Все эти люди: Лаэрт, Фортинбрас, Пирр, Эней, Орест - они двойники Гамлета. Все они - дети теней. Все - воплощение некоей директивы. Как ее определить?
- Бремя наследства.
- Беру слова насчет дурака назад. Верно, бремя наследства, и есть много возможностей нести бремя. Для этого и выпущено на свет столько героев - они как бесконечные отражения в зеркале. Шекспир ставит одно против другого, и изображения множатся до бесконечности. Гамлет кладет этому предел. Когда?
- В конце он конец и кладет - когда их всех в гроб кладет. Тут им всем и приходит конец.
- Еще раз: он никого не убивал - все само убилось. Он время такое выбрал почему?
- Случайно все совпало - дуэль, яд, и настроение, видать, было хреновое. Папа умер, дождь, девушка утонула. Ну, как оно бывает?
- Но когда, когда, скажи - все это сошлось в одно?
- Когда посмотрел представление - оно отразило всю его историю. Он посмотрел - решил: все, пора. Хватит время тянуть.
- Видишь! Еще одно зеркало! Тоже зеркало! И ты прав, ты прав, - вдруг горячо заговорил историк, хватая друга за руку, - ты прав, что для каждого играется своя пьеса. И я тоже прав, когда сказал, что пьеса всего лишь одна - одна на всех. Понимаешь?
- Нет, мой пылкий друг, не понимаю.
- Я имею в виду такое зеркало, в котором отразится все сразу. Мышеловка - сыграна и для короля, и для Гамлета, и попадают в нее оба. Просто король видит в представлении аллюзию своей истории, а Гамлет - структуру истории вообще. И Гамлет понимает, что его судьба - это такая же пьеса внутри другой пьесы, как «Мышеловка» - внутри пьесы «Гамлет».
- Все ты запутал.