Я раб у собственной свободы… (сборник) Губерман Игорь
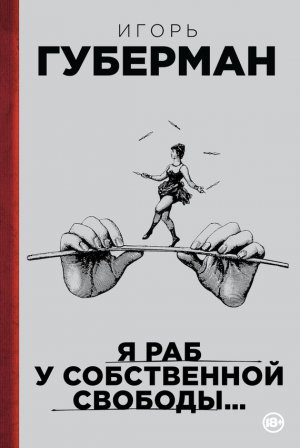
выводя девиц-энтузиасток
из полуподвала в полусвет.
* * *
Мы были тощие повесы,
ходили в свитерах заношенных,
и самолучшие принцессы
валялись с нами на горошинах.
* * *
Теперь другие, кто помоложе,
тревожат ночи кобельим лаем,
а мы настолько уже не можем,
что даже просто и не желаем.
* * *
Обильные радости плоти
помимо своих развлечений —
прекрасный вдобавок наркотик
от боли душевных мучений.
* * *
Тоска мужчины о престиже
и горечь вражеской хулы
бледней становятся и жиже
от женской стонущей хвалы.
* * *
Увы, то счастье унеслось
и те года прошли,
когда считал я хер за ось
вращения Земли.
* * *
Хмельной от солнца, словно муха,
провел я жизнь в любовном поте,
и желтый лист со древа духа
слетел быстрей, чем с древа плоти.
* * *
В лета, когда упруг и крепок,
исполнен силы и кудрей,
грешнейший грех – не дергать репок
из грядок и оранжерей.
* * *
По весне распустились сады,
и еще лепестки не опали,
как уже завязались плоды
у девиц, что в саду побывали.
* * *
Многие запреты – атрибут
зла, в мораль веков переодетого:
благо, а не грех, когда ебут
милую, счастливую от этого.
* * *
Мы в ранней младости усердны
от сказок, веющих с подушек,
и в смутном чаяньи царевны
перебираем тьму лягушек.
* * *
Ты кукуешь о праве и вольности,
ты правительствам ставишь оценки,
но взгляни, как распущены волосы
вон у той полноватой шатенки.
* * *
Природа торжествует, что права,
и люди несомненно удались,
когда тела сошлись, как жернова,
и души до корней переплелись.
* * *
Рад, что я интеллигент,
что живу светло и внятно,
жаль, что лучший инструмент
годы тупят невозвратно.
* * *
Литавры и гонги, фанфары и трубы,
набат, барабаны и залпы —
беззвучны и немы в момент, когда губы
друг друга находят внезапно.
* * *
Как несложно – чтоб растаяла в подруге
беспричинной раздражительности завязь;
и затихнут все тревоги и недуги,
и она вам улыбнется, одеваясь.
* * *
Давай, Господь, решим согласно,
определив друг другу роль:
ты любишь грешников? Прекрасно.
А грешниц мне любить позволь.
* * *
Приятно, если правнуку с годами
стихов моих запомнится страница,
и некоей досель невинной даме
их чтение поможет соблазниться.
* * *
Когда грехи мои учтет
архангел, ведающий этим,
он, без сомнения, сочтет,
что я не зря пожил на свете.
* * *
Молодость враждебна постоянству,
в марте мы бродяги и коты;
ветер наших странствий по пространству
девкам надувает животы.
* * *
Я отношусь к натурам женским,
от пыла дышащим неровно,
которых плотское блаженство
обогащает и духовно.
* * *
Витает благодать у изголовий,
поскольку и по духу, и по свойству
любовь – одно из лучших славословий
божественному Божьему устройству.
* * *
Не почитая за разврат,
всегда готов наш непоседа,
возделав собственный свой сад,
слегка помочь в саду соседа.
* * *
Назад оглянешься – досада
берет за прошлые года,
что не со всех деревьев сада
поел запретного плода.
* * *
Наш век становится длиннее
от тех секунд (за жизнь – минут),
когда подруги, пламенея,
застежку-молнию клянут.
* * *
От акта близости захватывает дух
сильнее, чем от шиллеровских двух.
* * *
Готов я без утайки и кокетства
признаться даже Страшному суду,
что баб любил с мальчишества до детства,
в которое по старости впаду.
* * *
Спеши любить, мой юный друг,
волшебны свойства женских рук:
они смыкаются кольцом,
и ты становишься отцом.
* * *
Я в молодости книгам посвящал
интимные досуги жизни личной
и часто с упоеньем посещал
одной библиотеки дом публичный.
* * *
Когда тепло, и тьма, и море,
и под рукой – крутая талия,
то с неизбежностью и вскоре
должно случиться и так далее.
* * *
Растущее повсюду отчуждение
и прочие печальные события
усиливают наше наслаждение
от каждого удачного соития.
* * *
Как давит стариковская перина
и душит стариковская фуфайка
в часы, когда танцует балерина
и ножку бьет о ножку, негодяйка.
* * *
В густом чаду взаимных обличений,
в эпоху повсеместных злодеяний
чиста лишь суть таких разоблачений,
как снятие подругой одеяний.
* * *
В любви прекрасны и томление,
и апогей, и утомление.
* * *
Мы не жалеем, что ночами
с друзьями жгли себя дотла,
и смерть мы встретим, как встречали
и видных дам, и шлюх с угла.
* * *
А умереть бы я хотел
в тот миг высокий и суровый,
когда меж тесно слитых тел
проходит искра жизни новой.
* * *
Случайно встретившись в аду
с отпетой шлюхой, мной воспетой,
вернусь я на сковороду
уже, возможно, с сигаретой.
Давно пора, ебена мать,
умом Россию понимать!
* * *
Я государство вижу статуей:
мужчина в бронзе, полный властности,
под фиговым листочком спрятан
огромный орган безопасности.
* * *
Не на годы, а на времена
оскудела моя сторона,
своих лучших сортов семена
в мерзлоту раскидала страна.
* * *
Растет лосось в саду на грядке;
потек вином заглохший пруд;
в российской жизни все в порядке;
два педераста дочку ждут.
* * *
Боюсь, как дьявольской напасти,
освободительных забот;
когда рабы приходят к власти,
они куда страшней господ.
* * *
Критерий качества державы —
успехи сук и подлецов;
боюсь теперь не старцев ржавых,
а белозубых молодцов.
* * *
Век принес уроки всякие,
но один – венец всему:
ярче солнца светят факелы,
уводящие во тьму.
* * *
А может быть, извечный кнут,
повсюдный, тайный и площадный —
и породил российский бунт,
бессмысленный и беспощадный?
* * *
Как рыбы, мы глубоководны,
тьмы и давления диету
освоив так, что непригодны
к свободе, воздуху и свету.
* * *
Россия надрывно рыдает
о детях любимых своих;
она самых лучших съедает
и плачет, печалясь о них.
* * *
Не мудреной, не тайной наукой,
проще самой простой простоты —
унижением, страхом и скукой
человека низводят в скоты.
* * *
На наш барак пошли столбы
свободы, равенства и братства;
все, что сработали рабы,
всегда работает на рабство.
* * *
Не знаю глупей и юродивей,
чем чувство – его не назвать,
что лучше подохнуть на родине,
чем жить и по ней тосковать.
* * *
Пригасла боль, что близких нет,
сменился облик жизни нашей,
но дух и нрав на много лет
пропахли камерной парашей.
* * *
Не тиражируй, друг мой, слухов,
компрометирующих власть;
ведь у недремлющего уха
внизу не хер висит, а пасть.






