Я раб у собственной свободы… (сборник) Губерман Игорь
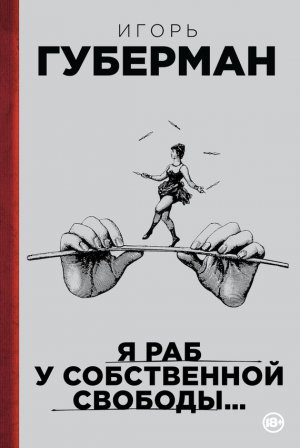
а я – из очень прошлого столетия,
по сути, – из другой цивилизации.
* * *
Где сотни взыгравших козлов
гуляют с утра до потемок,
там сотни дичайших узлов
распутывать будет потомок.
* * *
Бурлит не хаотически тусовка:
незримая случайным попрошайкам,
активно протекает расфасовка
по гильдиям, сословиям и шайкам.
* * *
Все это было бы не грустно,
когда бы не было так гнусно.
* * *
Народа российского горе
с уже незапамятных пор —
что пишет он «хуй» на заборе,
еще не построив забор.
* * *
Мне кажется, российская земля,
еще не отойдя от мерзлоты,
скучает без конвоя, патруля
и всяческой надзорной сволоты.
* * *
Когда б еврей умел порхать,
фонтан пустив, уйти под воду
или в саду благоухать —
любезен был бы он народу.
* * *
Россию все же любит Бог:
в ней гены живости упорны,
а там, где Хармс явиться мог,
абсурд и хаос жизнетворны.
* * *
Переживя свободы шок,
Россия вновь душой окрепла,
согрела серый порошок,
и Феликс вмиг восстал из пепла.
* * *
Когда надвигается темень
и тонут мечты в окаянстве,
убийц полустертые тени
маячат в затихшем пространстве.
* * *
Нет подобного в мире явления,
и диковинней нет ничего:
власть российская – враг населения
и без устали морит его.
* * *
Люблю Россию чувством непонятным:
с угрюмым за дела ее стыдом,
брезгливостью к ее родимым пятнам
и болью за испакощенный дом.
* * *
Владеет мыслями моими
недоуменная досада:
народы сами править ими
зовут питомцев зоосада.
* * *
Россия как ни переменчива,
а злоба прежняя кругом,
Россия горестно повенчана
с несуществующим врагом.
* * *
Чем темней и пасмурней закаты
гнусно увядающих эпох,
тем оптимистичнее плакаты
о большой удаче в ловле блох.
* * *
Свободы дивный фейерверк
не зря взрывается над нами,
и пусть огонь уже померк,
но искры теплятся годами.
* * *
У всех вождей Руси увеселением
и творчеством у всех до одного —
была война с российским населением
во имя вразумления его.
* * *
В России не закончилась эпоха
предательства и рабского молчания,
порой еще кричат, но слышно плохо,
а громко – лишь согласное мычание.
* * *
В России нынче правят бал торжественный
три личности: подонок, лгун и вор,
и царственно свирепствует естественный,
но противоестественный отбор.
* * *
Мне кажется – куда я взгляд ни кину —
фортуна так Россию подвела
в отместку, что икону и дубину
строгали здесь из общего ствола.
* * *
Чтобы долю горемычную
без печали принимать,
укрепляют люди личную
веру в Бога, душу, мать.
* * *
Всегда евреи за свободу
стояли твердо – с целью вредной
внедрять отраву, гнусь и шкоду
в невинный дух России бедной.
* * *
Стирается на время если грань —
условия, критерии, барьеры, —
то сразу же немыслимая срань
стремительные делает карьеры.
* * *
С российским начальством контакты
похожи в любой из моментов
на очень интимные акты,
где женская роль – у клиентов.
* * *
Бессильные кремлевские призывы
припасть к патриотизму как опоре
напрасны, как натужные позывы,
томящие страдальца при запоре.
* * *
Какую бы ни гнали мы волну,
каких ни сочинили наворотов,
никак не скрыть еврейскую вину
в бездарности российских патриотов.
* * *
Кого я ни припомню, все подряд
убийцы – в унисон, как на заказ, —
твердили, что не знали, что творят,
и плакали, что был такой приказ.
* * *
Трепеща, как осиновый лист,
и прохожим кивая приветно,
по России бредет сионист
и евреев зовет безответно.
* * *
От юных кудрей и до тягостной
сенильной поры облысения
висит над евреями сладостный
и вязкий соблазн обрусения.
* * *
Такая в ней мечта и пластика,
что, ни за что не извиняясь,
опять вернулась к жизни свастика,
по месту видоизменяясь.
* * *
Пишу я о России без лукавства
и выстудив душевное смятение:
повсюдное цветение мерзавства —
кошмарное, но все-таки цветение.
* * *
Светлы юнцов тугие лица
с печатью сметки и проворности,
и так духовность в них дымится,
что явно требует соборности.
* * *
России вновь не повезло,
никто не ждал такой напасти:
разнокалиберное зло
опять взошло к вершине власти.
* * *
Мне боль несет российской жизни эхо,
с ожоговым стыдом наполовину;
похоже, из России я уехал,
не смогши перерезать пуповину.
Брызги античности
* * *
Предупреждал еще Гораций —
поэт, философ, эрудит, —
что близость муз и дружба граций —
житейской мудрости вредит.
* * *
Учил великий Аристотель,
а не какой-нибудь балбес,
что похотливость нашей плоти —
совсем не грех, а дар небес.
* * *
Как нам советовал Овидий,
я свой характер укрощаю,
и если я кого обидел,
то это я ему прощаю.
* * *
Не зря учил нас Гиппократ
(а медик был он – первый номер):
«Болеть – полезней во сто крат,
чем не болеть, поскольку помер».
* * *
Есть очень точная страница
в пустых прозрениях Платона:
что скоро будет честь цениться —
дешевле рваного гондона.
* * *
Отменной зоркости пример
сыскался в книге Теофраста:
пластичность жестов и манер —
заметный признак педераста.
* * *
Я оценил в Левкиппе вновь
его суждения стальные:
«Кто пережил одну любовь,
переживет и остальные».
* * *
Хотя Сафо была стервоза,
но мысли – стоят дорогого:
«Своя душевная заноза —
больней такой же у другого».
* * *
Сказал однажды Геродот,
известный древности историк,
что грешник подлинный лишь тот,
кому запретный плод был горек.
* * *
Заметил некогда Сенека,
явив провиденье могучее,
что лишь законченный калека
не трахнет женщину при случае.
* * *
А чуткий к запахам Хилон
весьма любил, как пахнут кони,
но называл одеколон
«благоуханием для вони».
* * *
Полезно в памяти иметь
совет интимный Авиценны:
«Не стоит яйцами звенеть,
они отнюдь не звоном ценны».
* * *
Великий скульптор Поликлет
ваял роскошно и сердито:
кто б ни заказывал портрет,
он вылеплял гермафродита.
* * *
Был Демосфен оратор пылкой
и непосредственной замашки,
а если бил кого бутылкой —
рука не ведала промашки.
* * *
Прочел у некоего грека
(не то Эвклид, не то Страбон),
что вреден духу человека
излишних мыслей выебон.
* * *
Писал когда-то Еврипид,
большой мастак в любви и спорте:
«Блаженный муж во сне храпит,
а не блаженный – воздух портит».
* * *
Прекрасно умственной отвагой
у Архимеда изречение:
«Утяжеленность пьяной влагой






