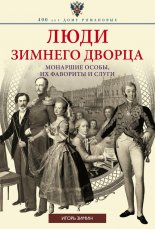Операция «Перфект» Джойс Рейчел

Боги всегда рядом, зови их – не зови.
Джеймс Хилман
Rachel Joyce
PERFECT
Copyright © Rachel Joyce, 2013.
This edition published by arrangement with Conville & Walsh Ltd. and Synopsis Literary Agency
© Тогоева И., перевод на русский язык, 2014
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
Пролог
Дополнительные секунды
В 1972 году к суткам были прибавлены две секунды. Британия согласилась присоединиться к Общему Рынку, и лозунг «Попрошайничай, кради или бери в долг», взятый на вооружение группой «New Seekers», стал визитной карточкой Евровидения. Две же секунды прибавили, потому что год был високосный, и точное время как бы перестало совпадать с периодом обращения Земли вокруг Солнца. «New Seekers» не выиграли на песенном конкурсе Евровидения, но это не имело никакого отношения ни к периоду обращения Земли, ни к двум добавленным секундам.
А вот Байрона Хеммингса эти изменения во времени привели в ужас. В свои одиннадцать лет он обладал весьма развитым воображением и ночью лежал без сна, представляя себе, как все это произойдет. Сердечко его трепетало, как пойманная птица, а глаза неотрывно следили за стрелками часов, пытаясь засечь решающее мгновение.
– Когда же, наконец, это сделают? – спросил он у матери.
Мать стояла у нового кухонного стола и крошила яблоко, разрезав его на четвертушки. Лучи утреннего солнца, проникнув сквозь стеклянную дверь, лежали на полу ровными квадратами, в которых так приятно было стоять.
– Наверно, как-нибудь ночью, когда мы все спать будем, – предположила она.
– Когда все будут спать?! – Значит, дела обстоят еще хуже, чем он думал.
– А может, наоборот, когда все будут бодрствовать.
Байрону показалось, что мать не очень-то представляет себе важность этого события.
– Две секунды – это такая малость, – улыбнулась она. – Сядь, пожалуйста, и выпей «Санквик». – Ее ясные глаза так и сияли, на ней была тщательно отглаженная юбка, волосы только что вымыты и уложены феном.
О двух дополнительных секундах Байрон узнал от своего друга, Джеймса Лоу. Джеймс был самым умным мальчиком среди знакомых Байрона и каждый день читал газету «Таймс». Он назвал прибавку двух секунд событием «ужасно волнительным». Сперва люди высадились на Луне. Теперь они собираются изменить время. Но откуда возьмутся и как смогут существовать эти две секунды там, где их никогда не было? Как можно ко Времени прибавить что-то совершенно лишнее? Ведь это явно небезопасно. Байрон так и сказал, но Джеймс тут же с улыбкой возразил: «В том-то и заключается прогресс!»
Байрон написал четыре письма: одно члену парламента от их округа, второе в NASA, третье издателям книги рекордов Гиннесса и последнее мистеру Рою Каслу, возглавлявшему BBC. Он попросил мать поскорее отправить все четыре письма, сказав, что это очень важно.
Вскоре он получил фотографию с подписью Роя Касла и иллюстрированную брошюру о полете «Аполлона-15» и его «прилунении», но о двух дополнительных секундах в письме не говорилось ни слова.
Но всего через несколько месяцев все у них в доме переменилось. Все часы теперь показывали разное время, а ведь раньше мать Байрона всегда тщательно за ними следила и не забывала завести. Дети ложились спать, когда чувствовали себя усталыми, и ели, когда испытывали голод, и порой дни, похожие друг на друга, как близнецы, тянулись бесконечно долго. Так что если в течение этих двух, прибавленных к году, секунд случилось столько всяких ошибок – причем столь катастрофичных, что, как казалось Байрону, если эти две секунды убрать, никаких ошибок могло бы не быть вовсе, – то разве решение о двух дополнительных секундах не было ошибочным? Или даже преступным?
– Ты тут ни при чем, – говорил Байрон матери. К концу лета ее часто можно было застать на дальнем конце луга у пруда. В те дни завтрак для нее готовил сам Байрон – чаще всего это был просто завернутый в фольгу треугольный сэндвич: два ломтика хлеба и между ними кусочек сыра. А мать сидела в кресле, позванивая льдом в бокале с водой, и бездумно пересыпала в пальцах семена какой-то травы. Вдали сверкала пустошь, окутанная вуалью светящегося тумана, прозрачного, как лимонный шербет, луг был усыпан цветами. – Мам, ты меня слышишь? – Этот вопрос Байрон повторял постоянно, потому что мать явно забывала, что рядом с ней кто-то есть. – Все это случилось из-за двух добавленных секунд. Это же просто несчастный случай! Чистая случайность!
И мать, чуть приподняв подбородок, улыбалась ему и говорила:
– Ты хороший мальчик. Спасибо тебе.
Вся эта история, собственно, и произошла из-за какого-то крошечного сдвига во времени. Но эхо этого сдвига ощущалось потом долгие годы. Из двоих юных друзей, Байрона и Джеймса, лишь один сумел не сбиться с курса. И порой Байрон, глядя в темное небо над пустошью, где так явственно пульсировали звезды, что даже сама тьма казалась живой, с болью думал: как хорошо было бы снова убрать эти две лишние секунды! Он думал о том, что Время свято и неприкосновенно и эту святую неприкосновенность следует соблюдать.
Лучше бы Джеймс ничего ему не рассказывал!
Часть первая
Внутри
Глава 1
Нечто ужасное
Джеймс Лоу и Байрон Хеммингс учились в школе «Уинстон Хаус», потому что она была частной. Рядом – и гораздо ближе – была еще одна начальная школа, но она не была частной, она была для всех, и туда ходили дети из микрорайона Дигби-роуд, застроенного муниципальными домами. И эти дети, проезжая на школьном автобусе мимо учеников «Уинстон Хаус», швыряли в них апельсиновыми корками и окурками. Ученики «Уинстон Хаус» на автобусе не ездили. Родители, в основном матери, привозили их в школу на собственных автомобилях, к тому же ехать до школы им всем приходилось довольно далеко.
Будущее учеников школы «Уинстон Хаус» было тоже расписано, как по нотам. В жизни каждого из них были заранее известны и начало, и середина, и конец. На следующий год им предстояло сдавать общий вступительный экзамен[1]. Самые умные завоюют право на стипендию и в свои тринадцать лет будут жить на полном пансионе. У них будет идеально правильное произношение, они будут изучать правильные вещи и встречаться с правильными людьми. Затем последует обучение в Оксфорде или Кембридже. Родители Джеймса подумывали о колледже Сейнт-Питерс, родители Байрона – об Ориэле[2]. Далее им была уготована карьера юриста или высокооплачиваемого чиновника в Сити, или в церкви, или в вооруженных силах – в точности как у их отцов. Через какое-то время им предстояло обзавестись собственной квартирой в Лондоне и большим загородным домом, где они будут проводить уик-энды с женой и детьми.
Итак, наступил июнь 1972 года. По утрам яркая полоска зари просвечивала сквозь голубые занавески в комнате Байрона, и первые солнечные лучи скользили по аккуратно разложенным на столе вещам: годовой подписке журналов «Лук энд Лерн»[3], альбому с марками, карманному фонарику, новой книге по магии «Абракадабра» и набору по химии, полученному на Рождество, в который входила настоящая лупа. На стуле висела школьная форма Байрона, накануне тщательно выстиранная и выглаженная матерью и до странности похожая на некого плоского мальчика. Байрон проверил часы – и наручные, и будильник. Минутные стрелки двигались равномерно. Он прошел через холл, тихонько отворил дверь в комнату матери и, как всегда, присел на краешек кровати.
Она лежала совершенно неподвижно. Волосы золотым кружевом рассыпались по подушке, лицо чуть трепетало при каждом вздохе, как поверхность воды в пруду. Сквозь нежную кожу рук просвечивали тонкие сиреневые вены. У самого Байрона руки были по-детски мягкие и пухлые, как персик, а вот у Джеймса вены уже отчетливо проступали и тонкими нитями тянулись от костяшек пальцев к запястью, обещая в недалеком будущем превратиться в выпуклые извилистые «веревки», как у взрослых мужчин.
В половине седьмого будильник разорвал царившую в спальне тишину, и мать сразу открыла глаза, так и сверкнувшие синевой.
– Привет, солнышко.
– Мне как-то не по себе, – сказал Байрон.
– Господи, неужели ты снова об этих секундах? – Она взяла стакан с водой и приняла свою ежедневную таблетку.
– Может, их уже сегодня, наконец, прибавят?
– Неужели Джеймса это тоже так волнует?
– Нет, он, по-моему, и вовсе об этом позабыл.
Мать вытерла губы, и Байрон увидел, что она улыбается. На щеках у нее сразу появились две крохотные ямочки, словно кто-то пальцем нажал.
– Время у нас уже меняли, и не раз. И еще наверняка будут менять. Если эти секунды действительно добавят, об этом сразу же напишут в «Таймс». И уж в «Нэшнуайд»[4] все, конечно же, подробно расскажут.
– У меня сразу же голова болеть начинает, стоит об этом подумать, – пожаловался Байрон.
– Да ты даже не заметишь, когда это случится. Две секунды – это такой пустяк.
У Байрона от возмущения аж кровь бросилась в лицо. Он резко вскочил, потом снова сел и воскликнул:
– Вот чего никто из вас, к сожалению, не понимает! Две секунды – это на самом деле огромный отрезок времени! В них заключена разница между случившимся и не случившимся. Достаточно одного крохотного лишнего шажка – и ты рухнешь с обрыва. Нет, это очень, очень опасно! – Байрон говорил торопливо, лихорадочной скороговоркой.
Мать посмотрела на него озадаченно, такой вид у нее делался, когда она пыталась подсчитать, сколько истратила денег. Потом она сказала:
– И все-таки нам пора вставать. – И встала. И раздвинула занавески в эркере и выглянула наружу. Летний туман стекал с холмов Кренхемской пустоши и был таким густым, что казалось, вот-вот смоет и унесет с собой и сад, и холмы за ним. Мать быстро посмотрела на свои наручные часики.
– Двадцать четыре минуты седьмого, – сказала она, словно сообщая по телефону точное время. Затем сняла с крючка свой розовый халатик и пошла будить Люси.
Когда Байрон пытался представить себе мысли, которые таятся внутри материной головы, то словно видел перед собой множество выстланных шелком или бархатом ящичков с крошечными ручками, инкрустированными самоцветами, такими изящными и хрупкими, что его пухлым пальцам с ними было бы не справиться. Другие матери были совсем не такие, как она. Другие матери носили вязанные крючком кофточки и пышные юбки, а некоторые даже щеголяли в новомодных туфельках на танкетке. Отцу Байрона больше нравилось, когда жена одевается строго и официально. В изящных узких юбках, на каблучках-шпильках, с того же цвета сумочкой и вечной записной книжкой в руках, Дайана невольно выделялась среди прочих женщин, которые рядом с ней казались слишком толстыми, неуклюжими и неухоженными. Андреа Лоу, мать Джеймса, возвышалась над ней, точно какая-то темноволосая великанша. В свою записную книжку Дайана вклеивала заметки, вырезанные ножницами из иллюстрированных журналов для женщин «Отличная домохозяйка» и «В кругу семьи». Еще она записывала туда дни рождения, о которых ей следовало помнить, даты особо важных школьных событий, а также кулинарные рецепты, описания интересных образцов вязания, всевозможные советы по уходу за садом, варианты причесок и те слова, которых никогда раньше не слышала. Ее записная книжка буквально распухала от вклеенных туда различных предложений: «22 варианта новой прически, способные этим летом сделать вас еще привлекательнее». «Бумажные салфетки и полотенца в подарок за каждую покупку». «Готовьте из требухи». «Запомните: «i» в английских словах всегда предшествует «е», за исключением тех случаев, когда «е» следует сразу за «с».
– Elle est la plus belle mre[5], – говорил иногда Джеймс. И, покраснев, сразу же надолго умолкал – словно погружаясь в созерцание какой-то святыни.
Байрон надел серые фланелевые брюки и летнюю курточку. Он всегда с некоторым трудом застегивал пуговицы на рубашке, а эта рубашка оказалась еще и практически новой. Надев длинные, до колен, носки и закрепив их с помощью самодельных подвязок, он направился вниз. Деревянные панели на стенах сверкали темно-коричневым лаком, точно конские каштаны.
– Но я именно с тобой разговариваю, дорогой, – услышал он голос матери.
Она стояла у противоположной стены холла у телефонного столика и была уже полностью одета. Рядом с ней ошивалась Люси, ожидая, когда мать заплетет ей косы и завяжет банты. В воздухе сильно пахло полиролью и «Вимом»[6], и этот знакомый запах действовал ободряюще, почти как свежий воздух на улице. Когда Байрон проходил мимо, Дайана поцеловала кончики пальцев и коснулась ими его лба. Она была лишь чуточку выше него ростом.
– Нет, только я и дети, – сказала она в трубку. Окно у нее за спиной было затянуто сплошной белой пеленой тумана.
На кухне Байрон сел за стол и развернул чистую салфетку. Дайана все еще разговаривала с отцом. Отец звонил каждое утро в одно и то же время, и каждый раз ей приходилось уверять его, что она чрезвычайно внимательно прислушивается к каждому его слову.
– О, на сегодня у меня намечены самые обычные дела: дом, прополка. Надо все привести в порядок после выходных. Похоже, будет жарко.
Высвободившись из рук матери, Люси удрала на кухню, взобралась на свой высокий табурет, вытряхнула изрядную порцию овсяных хлопьев «Сахарные звезды» в мисочку с изображением кролика Питера и потянулась к синему кувшину с молоком.
– Аккуратней, Люси, – сказал Байрон, когда она с размаху плеснула молока на стол рядом со своей глиняной миской, – молоко разольешь. – Он сказал так исключительно из вежливости, поскольку молоко Люси уже пролила.
– Я сама все знаю, Байрон. И твои советы мне совершенно не требуются! – Каждое произнесенное ею слово звучало как атака маленького пикирующего бомбардировщика. Она поставила кувшин на стол – в ее ручонках он казался огромным – и отгородилась от брата пакетами с овсяными хлопьями и с мюсли. Теперь Байрону была видна только ее светловолосая макушка.
Из холла снова донесся голос Дайаны:
– Да, Сеймур. Я ее всю буквально отполировала. – Ага, догадался Байрон, теперь речь, разумеется, об их новом «Ягуаре».
– Можешь передать мне «Сахарные звезды», Люси?
– Нет. Тебе «Сахарные звезды» есть не полагается. Ты должен есть фруктовый салат и полезный для здоровья «Альпен».
– Я просто хотел прочитать, что написано на пакете. И рассмотреть картинку.
– Я сама как раз читаю!
– Но, Люси, ты же не можешь читать все сразу, – мягко возразил Байрон. – Ты и читать-то не умеешь.
– Да, дорогой, у нас все хорошо, все как полагается, – пропела в холле Дайана и засмеялась своим переливчатым смехом.
Байрону казалось, что в желудке у него застрял какой-то горячий комок. Он попытался придвинуть к себе хотя бы пакет с хлопьями, пока Люси не видит, но она сразу это заметила и, пытаясь удержать пакет, так резко взмахнула рукой, что кувшин с молоком, стоявший на краю, с грохотом полетел на пол. По недавно настеленному полу мгновенно растеклась гигантская молочная лужа, в ней поблескивали синие фарфоровые осколки. Дети в ужасе замерли, уставившись на эту лужу. Собственно, пора было кончать с завтраком, чистить зубы и отправляться в школу.
Дайана появилась на кухне почти мгновенно и, воздев руки так, словно намереваясь остановить уличное движение, приказала:
– Никому не двигаться! Вы можете пораниться!
Байрон и без того уже сидел совершенно неподвижно, у него даже шея затекла. Дайана осторожно, на цыпочках, двинулась к раковине, вытянув перед собой руки с растопыренными пальцами, по молочной луже пошли волны, молоко чавкало у нее под ногами, заливаясь в туфли.
– Это все ты, Байрон! – сказала Люси.
Дайана метнулась назад с тряпкой, шваброй, ведром, еником и совком. И, намочив тряпку в мыльной воде, принялась убирать молочное озеро. Затем, торопливо глянув на часы, веником вымела осколки на сухой участок пола, замела их в совок и ссыпала в помойное ведро. Последние, самые мелкие и тонкие, осколки ей пришлось собирать с пола руками.
– Ну вот и все! – весело сказала она. И, похоже, только теперь заметила, что изрезала себе осколками всю левую ладонь, из ранок алыми полосками проступала кровь.
– Ну вот, теперь у тебя кровь течет! – заметила Люси. Вид крови ее одновременно и пугал, и восхищал.
– Ерунда, – пропела Дайана, но кровь все продолжала течь и, стекая по запястью, капала на кухонный фартук и подол юбки. – Хорошо, всем сидеть на месте и не двигаться! – снова приказала она и выбежала из кухни.
– Мы же опоздаем! – заныла Люси.
– Мы никогда не опаздываем, – возразил Байрон. Таково было одно из правил отца. Англичанин всегда должен быть пунктуален.
Дайана действительно вернулась очень скоро – она успела переодеться в бледно-зеленое платье цвета мяты и сходного оттенка шерстяной кардиган. И руку перевязать успела, сделав ее похожей на маленькую белую лапу какого-то зверька, даже губы успела подмазать своей клубничной помадой.
– Господи, что же вы до сих пор тут сидите? – закричала она.
– Ты же сама велела нам не двигаться! – обиделась Люси.
Но материны каблучки уже весело цокали в холле, и дети бросились за ней вдогонку. Их школьные блейзеры и шапочки висели на вешалке, под ними на полу стояли вычищенные школьные туфли. Подхватив детские ранцы и сумки с физкультурной формой, Дайана скомандовала:
– За мной!
– Но мы же зубы не почистили!
Ее ответа они уже не услышали. Настежь распахнув входную дверь, она сбежала с крыльца и исчезла в пелене тумана. Байрону пришлось поспешить, чтоб не отстать.
Но мать, разумеется, никуда не делась – она стояла возле гаража, и Байрон сразу ее увидел. На фоне темной двери в тумане проступал ее легкий силуэт. Она смотрела на часы, низко склонившись над левым запястьем и придерживая его большим и указательным пальцами правой руки, казалось, время – это какая-то крошечная молекула, которую она рассматривает в микроскоп.
– Ничего, еще вполне успеваем, – сказала Дайана детям. – И если поторопимся, приедем как раз вовремя.
«Кренхем Хаус», особняк из светлого камня в георгианском стиле, под жарким летним солнцем, казалось, светился сам собой, точно выбеленные временем старые кости, а зимой он по утрам порой отливал светло-розовым. И никакой деревни рядом. Были только этот дом и сад, а за садом виднелась пустошь. Дом выглядел очень прочным, он решительно противостоял и сильным ветрам, и неспокойному небу, и холмам, грозно высившимся вдали, но Байрону почему-то всегда казалось, что их дом ужасно сожалеет о том, что его построили не где-нибудь в просторном английском парке или на берегу милого веселого ручья. Отец Байрона говорил, что главное преимущество их дома – это его уединенность, обособленность, что это действительно настоящая частная собственность. Правда, по мнению Джеймса, отцовское определение «обособленность» содержало некую недосказанность. Честно говоря, их дом и впрямь стоял настолько на отшибе, что до ближайших соседей нужно было проехать, по крайней мере, мили три. Да и от холмов Кренхемской пустоши их сад отделял широкий луг с большим прудом посредине и целая роща ясеней. Год назад этот пруд, правда, был обнесен оградой, а детям запретили возле него играть.
Колеса «Ягуара» подпрыгивали на гравиевой дорожке. Туман был такой густой, что Байрону казалось, будто его глаза закрыты низко опущенным капюшоном. В тумане растворялись цвета и очертания даже самых близких предметов. В нем исчезло все – и верхняя лужайка, и заросшие травой обочины подъездной дорожки, и шпалеры с плетистыми розами, и фруктовые деревья, и срезанные ветки буков, и огород, и садовая калитка. Автомобиль свернул налево, к вершинам холмов. Все молчали. Дайана, склонившись над рулем, напряженно всматривалась вперед.
Наверху, на пустоши, стало еще хуже. Густой туман окутал холмы миль на десять в любую сторону, так что и небо от земли было не отличить. Фары словно высверливали неглубокие дыры в плотном белом одеяле тумана. Время от времени в поле зрения вдруг возникали расплывающиеся силуэты коров или неожиданно обретала форму низко нависшая над дорогой ветка, и у Байрона каждый раз ёкало сердце, когда мать резко брала в сторону, объезжая внезапно возникшее препятствие. Как-то раз Байрон сказал Джеймсу, что на пустоши растут такие жуткие деревья, что их вполне можно принять за привидения, а Джеймс нахмурился и заявил, что это, конечно, очень поэтичное сравнение, но все же настоящих призраков там нет, это все равно что говорящая собака-сыщик в телевизоре, сказал он, она ведь тоже не настоящая. Мелькнули металлические ворота «Бесли Хилл», где живут всякие психи. Когда колеса «Ягуара» загрохотали по решетке, препятствующей выходу скота с пастбища на дорогу, Байрон, наконец, вздохнул с облегчением. Но когда они уже приближались к городу и свернули за угол, мать вдруг резко затормозила.
– Ой, нет! – вырвалось у Байрона, и он напряженно выпрямился. – Что там такое?
– Не знаю. Какая-то пробка. – Вот только пробки нам и не хватало!
Мать поднесла руку ко рту и откусила сломавшийся ноготь.
– Неужели это из-за тумана? – спросил Байрон.
– Не знаю, – снова сказала она и поставила машину на ручник.
– Мне кажется, там, в вышине, солнце уже взошло, – с надеждой сказал Байрон, – и скоро разгонит этот туман.
Улица, сколько мог видеть глаз, была забита машинами, конец огромной пробки скрывался в пелене тумана. Слева виднелся неясный силуэт сгоревшего автомобиля, словно отмечавший поворот в сторону Дигби-роуд. Они по этой дороге никогда не ездили, но Байрон вдруг заметил, что мать именно туда и поглядывает.
– Мы опоздаем! – заныла Люси.
И тут Дайана поступила совершенно неожиданно. Резким движением отпустив ручной тормоз, она рывком переключилась на первую скорость, крутанула руль и свернула налево, прямиком на Дигби-роуд. При этом она даже в зеркальце заднего вида не посмотрела, даже не дала поворотник, прежде чем совершить маневр!
Сперва дети настолько оторопели, что сидели, словно воды в рот набравши. Они проехали мимо сгоревшего автомобиля. Все стекла в нем были разбиты, колеса, дверцы и двигатель исчезли, собственно, от автомобиля остался только обугленный остов, и это было так страшно, что Байрон даже принялся напевать что-то себе под нос, чтобы успокоиться и не думать об этом.
– А папа говорил, чтобы мы никогда не ездили по этой дороге! – заявила Люси и закрыла руками лицо – спряталась.
– Тут можно здорово срезать путь, особенно если проехать прямо через двор городского совета, – сказала Дайана. – Мне здесь и раньше доводилось ездить. – И выжала газ.
Сейчас было явно не время обдумывать ее слова, но Байрону было ясно одно: несмотря на запрет отца, она и раньше ездила по этой дороге. Оказалось, что эта дорога куда хуже, чем он мог себе представить. Она вся была в выбоинах, местами и асфальта-то не осталось. Туман словно приклеился к рядам домов, выстроившихся вдоль дороги, и они то слегка приближались, едва проступая сквозь туман, то снова таяли в нем. Сточные канавы были забиты мусором – камнями, старыми сумками и пакетами, рваными одеялами, сломанными ящиками и еще чем-то непонятным. Время от времени виднелись бельевые веревки, провисшие под тяжестью вывешенных на просушку простынь и одежды, казавшейся в тумане абсолютно бесцветной.
– Я не смотрю, – сказала Люси и легла на сиденье.
А Байрон все пытался отыскать среди предметов, которые он видел на Дигби-роуд, хоть что-то, не вызывающее тревоги. Хоть что-то узнаваемое и приятное. Тревожность вообще была ему свойственна, мать не раз говорила ему, что он слишком часто испытывает безотчетную тревогу. И вдруг в тумане перед ним возникло нечто поистине прекрасное: светящееся дерево! Его широко раскинутые арки ветвей были буквально усыпаны ярко-розовыми цветами, – точно такого же оттенка, что и жевательная резинка. Байрон вспомнил, что у них в усадьбе все фруктовые деревья давным-давно отцвели, и на душе у него вдруг стало невероятно легко благодаря этому маленькому чуду, свидетелем которого он неожиданно стал. Это чудесное цветущее дерево явилось ему точно некий символ добра и красоты в тот самый момент, когда он меньше всего верил и в чудеса, и в доброту, и в красоту. Под деревом возник какой-то движущийся силуэт. Оказалось, что это ребенок, маленькая девочка, она словно быстро плыла в воздухе, и у нее, похоже, были колеса. Потом из тумана показался и ее красный велосипед.
– Который час? – спросила Люси. – Мы уже опоздали?
Байрон глянул на часы, да так и замер. Секундная стрелка явно двигалась в обратном направлении! Из горла у него вырвался какой-то невообразимый писк, и он завопил:
– Мама, они изменяют время! Прямо сейчас! Остановись! – И он, схватив мать за плечо, резко дернул ее на себя.
Он и сам толком не понял, что произошло в следующее мгновение – так быстро все произошло. Тыча пальцем в циферблат своих часов перед носом у матери, Байрон пытался объяснить ей, что секундная стрелка только что двигалась в обратную сторону, но одновременно совершенно отчетливо видел перед собой и волшебное цветущее дерево, и девочку на красном велосипеде. Все это были части единого целого, разом возникшие как бы из ниоткуда – порождения тумана и бездонных глубин Времени. «Ягуар» резко вильнул, Байрон выпустил материно плечо и сильно ударился рукой о приборную доску из красного дерева. Этот удар привел его в чувство. Мать дала по тормозам, послышался какой-то странный шелест металла, похожий на шепот, и автомобиль встал как вкопанный. А затем наступила тишина.
И в те краткие мгновения, что последовали за внезапной остановкой, Байрон все пытался отыскать глазами ту девочку на обочине дороги и не находил. И вдруг понял: случилось нечто ужасное, после чего жизнь никогда уже не будет прежней. Он понял это даже прежде, чем вновь обрел дар речи.
Неожиданно над пустошью вспыхнул ослепительно белый круг света. Байрон правильно сказал, что солнце может в любой момент пробиться сквозь туман.
Глава 2
Джим
Джим живет в кемпере на окраине нового жилого квартала. Каждый день на рассвете он пешком идет через пустошь и каждый вечер пешком возвращается обратно. Работает он в супермаркете, в только что отремонтированном тамошнем кафе. Там теперь есть и вай-фай, и возможность зарядить мобильник, только Джиму все это ни к чему. Когда полгода назад он начал там работать, его определили в секцию горячих напитков, и он без конца подавал посетителям капучино и рогалики с ежевикой и сахарной пудрой, но потом начальство сочло, что он с этой работой не справляется, и его понизили до роли протирщика столов. Если окажется, что он и с этим не справляется и все путает, тогда все. А ведь теперь даже «Бесли Хилл» больше нет.
Черное небо все в разводах легких облаков, похожих на серебристые волосы, воздух такой холодный, что стынет лицо. Земля под ногами промерзла насквозь, и ботинки Джима безжалостно сокрушают хрупкие стебельки травы. Уже виднеется вдали неоновое зарево над Кренхем-вилледж, а за спиной у Джима автомобили с зажженными фарами осторожно прокладывают себе путь через пустошь – отсюда эти вереницы автомобилей похожи на ожерелья из крошечных движущихся огоньков, красных и серебристых, протянувшиеся по холмам.
Ему было лет восемнадцать, когда его нашли там, на этом шоссе, в одних подштанниках и ботинках. Свою одежду он отдал деревьям. Он уже много дней ночевал под открытым небом, его, собственно, и застигли «на месте преступления». «Ну, здравствуй, Джим», – сказал ему врач, словно они были старыми друзьями, словно Джим был одет не хуже самого доктора – в костюм и рубашку с галстуком. «Ну, здравствуйте, доктор», – ответил Джим, чтобы показать, что с ним все в порядке, и он не хочет никому причинять беспокойства. Доктор прописал гальванотерапию, после чего Джим начал заикаться, а чуть позже у него появилось еще и неприятное покалывание в кончиках пальцев, которое до сих пор не исчезло.
Боль, она такая – уж он-то знает. Все, что с ним когда-то случилось, странным образом перепуталось у него в мозгу. И боль, испытанная им тогда, превратилась в нечто иное, куда более сложное, связанное не только с физическими муками, но и со всем тем, что произошло более сорока лет назад и мучает его до сих пор, со всем тем, что он потерял.
Джим идет по дороге, ведущей в их микрорайон. Там есть знак, приветствующий посетителей Кренхем-вилледж и призывающий их ехать осторожней. Недавно, правда, этот знак изуродовали, как и автобусную остановку, как и детские качели, теперь там написано: «Добро пожаловать в Кретин-вилледж!» Еще хорошо, что в Кренхем люди заезжают только в том случае, если у них навигатор ошибся. Джим стирает написанное, потому что это позор, когда пишут такое, но прежние буквы обратно возвращаться не хотят.
Новые дома стоят тесно, как зубы. Перед каждым – маленький садик, размером не больше парковочного места, под окнами пластиковые ящики для цветов, в которых ничего не растет. В прошлый уик-энд многие жильцы прикрепили к водосточным трубам гирлянды рождественских фонариков, и Джим останавливается, чтобы ими полюбоваться. Особенно ему нравятся те, что похожи на мерцающие снежинки. На одной крыше виднеется надувной Санта – он качается на ветру и вот-вот снесет спутниковую тарелку. Пожалуй, этот Санта совсем не похож на чудесное существо, появления которого из вашего камина вы с нетерпением ждете. Джим проходит мимо грязноватой площадки, которую местные жители называют Лугом, в центре Луга виднеется огороженная яма. Джим собирает разбросанные повсюду банки из-под пива и относит их в мусорный бак.
Вот и знакомый тупичок. Первым делом Джим смотрит на тот дом, где квартиры снимают иностранные студенты, а затем на тот, где у окна всегда сидит какой-то старик. Затем он проходит мимо ворот с надписью: «Осторожно, злая собака!», затем мимо сада, где на веревках вечно висит белье, но в окнах никогда никого не видно. Если б оттуда кто-нибудь выглянул, Джим непременно помахал бы ему рукой. Вон впереди уже сияет в лунном свете его кемпер, белый, как молоко.
Мимо на огромной скорости проносятся двое мальчишек на велосипедах, визжа от возбуждения, один, по крайней мере, хоть на сиденье сидит, а второй и вовсе закинул ноги на руль. «Эй, ос-с-сторожней!» – кричит им вслед Джим, но они его не слышат.
Как же я здесь оказался? – спрашивает себя Джим и думает: ведь когда-то нас было двое.
А ветер все дует и дует, но так и не говорит ни слова ему в ответ.
Глава 3
Талисман
Когда Джеймс впервые упомянул о добавленных секундах, сам он воспринимал их всего лишь как очередной занятный факт, не более. Байрон и Джеймс любили во время обеденного перерыва устроиться в тихом местечке под стеной часовни, где почти не слышно остальных ребят, с воплями носящихся по лужайке. Они демонстрировали друг другу новые карточки, которые вкладывают в коробки с чаем «Брук Бонд» – оба собирали серию «История авиации», – а еще Джеймс пересказывал Байрону то, что успел прочитать в газете. Информация о добавленных секундах содержалась не в передовице, пояснил он, да к тому же он очень торопился, поскольку яйцо на завтрак уже сварилось, но главное он все-таки успел выяснить, просмотрев статью, посвященную теме времени. Там говорилось, что с введением високосного года официально установленное время через какой-то срок совершенно перестало совпадать с естественным временем движения Земли, и чтобы это подкорректировать — Джеймс любил с умным видом вставить в свою речь подобные словечки, – ученым пришлось учесть многие другие вещи, например, изменения в земной коре и их воздействие на отклонение Земли от своей оси. Байрон чувствовал, как от слов Джеймса у него каменеет лицо. Сама мысль о вмешательстве в естественный ход вещей приводила его в ужас. И хотя Джеймс заявил, что все это, разумеется, очень интересно, а потом и вовсе принялся болтать о чем-то совсем из другой оперы, Байрону не давала покоя мысль об изменении времени – эта мысль все разрасталась и вскоре заняла все пространство в его душе. Время никак нельзя было трогать, именно время, казалось ему, и является тем, что соединяет все в мире и удерживает жизнь в издавна установленных рамках.
В отличие от Джеймса, Байрон был мальчиком крупным, крепким и упитанным. Вместе они смотрелись весьма забавно: Джеймс, худенький, бледный, с вечно падающей на глаза челкой и вечно что-то обдумывающий, привычно покусывая при этом губы, и Байрон, рядом со своим щуплым другом казавшийся особенно высоким и сильным. Ему часто приходилось помалкивать и ждать, когда Джеймс закончит свою очередную тираду. Иногда Байрон, сердито оттягивая мягкие складки у себя на талии, спрашивал мать, почему у Джеймса нет таких складок, почему только он, Байрон, уродился таким толстым, и она начинала убеждать его, что и у Джеймса, конечно же, есть такие складки, но Байрон понимал, что она говорит это исключительно по доброте душевной. Его тело всегда было каким-то излишне большим и часто прорывалось сквозь бесконечные пуговицы и шнурки. А отец однажды так прямо и заявил: мальчик страдает излишним весом и чересчур ленив. Мать в таких случаях всегда начинала возражать и уверяла отца, что это детская полнота, которая скоро пройдет. Даже в присутствии Байрона они говорили об этом так, словно его самого рядом нет, что было довольно-таки странно: ведь говорили-то они о том, что его на самом деле слишком много.
В те доли секунды, что последовали за столкновением, Байрон испытал странное чувство: ему показалось, что внутри не осталось ничего, кроме пустоты. Может, я ранен? – мелькнуло у него в голове. Байрон замер, ожидая, когда мать поймет, что произошло – поймет и пронзительно вскрикнет, поймет и выскочит из машины. Но мать ничего такого не сделала. Байрон надеялся, что девочка вскочит и с плачем бросится прочь от их машины и от шоссе, но этого тоже не произошло. Дайана продолжала неподвижно сидеть за рулем автомобиля, а девочка по-прежнему лежала на обочине под упавшим на нее сверху красным велосипедом и не шевелилась. Затем вдруг, словно какой-то фокусник щелкнул пальцами, все снова пришло в движение. Мать оглянулась через правое плечо и поправила зеркало, Люси спросила, почему они остановились. И только та девочка так и осталась лежать на обочине.
Включив двигатель, Дайана положила руки на руль в точности так, как учил ее муж, и задним ходом выехала на дорогу. Выровняв колеса, она включила первую скорость и осторожно тронулась с места. Байрон просто поверить не мог, что мать преспокойно уезжает, оставив девочку там, где они ее сбили. Только потом он понял: да ведь мать просто не знает, что натворила! Она этого столкновения даже не заметила! Сердце у Байрона вдруг забилось так, что у него даже дыхание перехватило.
– Давай, давай, давай! – вдруг закричал он.
Мать сосредоточенно прикусила губу и, поставив ногу на педаль газа, принялась почему-то опять поправлять зеркало заднего вида, поворачивая его то влево, то вправо…
– Скорей, поехали! – снова закричал Байрон. Господи, им нужно побыстрей уехать отсюда, пока их никто не видит!
Дайана спокойно двинулась дальше по Дигби-роуд, а Байрон все время вертел головой налево и направо или, вытягивая шею, вглядывался в заднее стекло. Он чувствовал – если не поспешить, от этого тумана вскоре ничего не останется! Наконец, они свернули на Хай-стрит и проехали мимо новой закусочной «Уимпи»[7]. Дети, живущие в микрорайоне Дигби-роуд, темной толпой выстроились на автобусной остановке. На Хай-стрит имелись еще бакалейная и мясная лавки, музыкальный магазин, штаб-квартира местной ячейки партии консерваторов и большой универмаг, где сотрудники в форме полировали витрины и разворачивали над ними полосатые маркизы. Далее следовал отель, у входа в него стоял швейцар в цилиндре и курил, наблюдая за тем, как с подъехавшего грузовичка сгружают свежие цветы. Все дышало покоем, и лишь Байрон был охвачен тревогой и по-прежнему сидел, вцепившись ногтями в сиденье: ему казалось, что вот-вот кто-нибудь выскочит им наперерез и остановит их.
И все-таки ничего подобного не произошло.
Дайана спокойно припарковала автомобиль на обсаженной деревьями улице, где всегда ставили свои машины матери одноклассников Байрона, и вытащила из багажника ранцы детей и их сумки с физкультурной формой. Помогла Байрону и Люси выбраться на тротуар и заперла машину. Люси тут же устремилась вперед. Другие матери приветливо с ними здоровались, спрашивали, как прошел уик-энд. Одна сказала что-то насчет уличных пробок, другая сосредоточенно вытирала бумажной салфеткой школьный ботинок сына. Туман быстро рассеивался. Уже и голубое небо местами проглядывало, и солнечные лучи пятнышками сверкали в листве сикомор, точно крошечные золотистые глаза. А вдали дрожала и переливалась, как море, бледная пустошь, где следы туманной дымки еще цеплялись за вершины холмов.
Байрон шел рядом с Дайаной, и ему все время казалось, что колени под ним вот-вот подломятся. Он чувствовал себя стеклянным кувшином, в который налили слишком много воды, и если он вдруг сделает резкое движение или внезапно остановится, то либо разольет воду, либо даже сам расколется. Он никак не мог понять, что происходит. Не мог понять, почему все по-прежнему спокойно идут в школу. Не мог понять, отчего жизнь вокруг продолжается, как всегда. В общем, это утро казалось самым обычным, вот только обычным-то оно как раз и не было. Время раскололось, треснуло, и теперь все стало не таким, как прежде.
На площадке для игр Байрон, как приклеенный, стоял возле матери и так внимательно прислушивался к каждому слову, что, казалось, весь обратился в слух. Но почему-то никто так и не сказал: «А мы видели ваш серебристый «Ягуар» с номером KJX 216K на Дигби-роуд!» И никто не упомянул ни о том, что на улице сбили какую-то девочку, ни о двух добавленных секундах. Байрон вместе с матерью проводил Люси в школу для девочек, и Люси выглядела настолько веселой и беззаботной, что даже забыла помахать им на прощание.
Дайана с тревогой сжала руку сына:
– Что с тобой, солнышко? Ты хорошо себя чувствуешь? – Байрон кивнул, потому что голос у него вдруг пропал. – Тебе тоже пора идти. – И он пошел, чувствуя, что мать смотрит ему вслед. Он чувствовал ее взгляд все время, пока шел через площадку для игр, и от этого идти было так трудно, что у него даже позвоночник заныл. Резинка от шапки врезалась в горло.
Необходимо было найти Джеймса. Причем немедленно. Джеймс многое в жизни понимал так, как Байрону понять было не дано. Он как бы заменял собой в душе Байрона некую логическую составляющую, которой тому недоставало. Когда мистер Ропер впервые стал рассказывать им о теории относительности, Джеймс с таким энтузиазмом кивал, словно и сам давно подозревал о существовании силы притяжения, а вот у Байрона все эти недоступные пониманию вещи лишь вызвали в голове полную неразбериху. Возможно, это было связано еще и с тем, что Джеймс всегда действовал очень осторожно. Байрон порой прямо-таки со священным ужасом смотрел, какими четкими, выверенными движениями Джеймс выравнивает, скажем, молнию на своем пенале или убирает челку с глаз. Иногда Байрон и сам предпринимал попытки стать таким. Старался ходить осторожно, никого не задевая, и аккуратно раскладывать фломастеры по цветам и оттенкам. Но очень скоро оказывалось, что у него или развязались шнурки на туфлях, или рубашка вылезла из штанов, и он тут же снова превращался в прежнего Байрона.
В часовне он опустился на колени рядом с Джеймсом, но внимание его привлечь не сумел. Он прекрасно знал, что в Бога его друг никогда не верил («Нет никаких доказательств Его существования», – говорил он), но если уж Джеймс решал принять участие в каком-то общем процессе, то всегда относился к этому – в данном случае к молитве – со всей серьезностью. Опустив голову и зажмурившись, он с такой страстью шептал слова молитвы, что прервать его казалось Байрону богохульством, и он снова попытался поговорить с Джеймсом лишь через некоторое время, уже в столовой, пристроившись за ним в очереди. Но тут к ним подошел Сэмюэл Уоткинс и стал спрашивать, что Джеймс думает о команде «Глазго Рейнджерз». Джеймс, разумеется, тут же попался на крючок. Дело в том, что всех всегда очень интересовало мнение Джеймса. Он начинал обдумывать ту или иную вещь задолго до того, как остальные успевали сообразить, что об этом, наверно, стоило бы подумать. Но к тому времени, как всем становилось ясно, что эта вещь действительно достойна внимания, Джеймс уже успевал переключиться на что-то другое. Наконец, во время спортивных игр Байрону повезло.
Джеймса он отыскал за павильоном для крикета. День разгулялся, и стало так жарко, что заставить себя двигаться можно было лишь с трудом. На небе не было ни облачка, солнце палило вовсю. Байрон уже успел поработать битой, а Джеймс, сидя на скамейке, все еще ожидал своей очереди. Он любил сосредоточиться перед игрой и предпочитал делать это в одиночестве. Байрон подсел к нему на скамью, но Джеймс в его сторону и не посмотрел. Даже не пошевелился. Длинная челка свисала ему на глаза, а светлая кожа уже успела немного обгореть, особенно там, где кончались рукава майки.
Байрон все-таки заставил себя его окликнуть и вдруг замер.
Дело в том, что Джеймс считал. Точнее, монотонным шепотом называл числа одно за другим – казалось, он зажал коленями какого-то первоклассника и хочет научить его счету. Байрон привык к тому, что его друг вечно что-то бормочет под нос, он тысячу раз это видел, но обычно Джеймс бормотал еле слышно что-то совсем непонятное, тогда как сейчас он явно считал: «Два, четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два…» Над Кренхемской пустошью дрожало жаркое марево, в котором, казалось, вот-вот растворятся верхушки холмов. Байрон совсем перегрелся в своем белом костюме для крикета.
– Ты зачем это делаешь? – спросил он, делая попытку завязать разговор.
Но Джеймс аж вздрогнул от неожиданности – он явно не заметил, что рядом кто-то есть. Байрон рассмеялся, показывая, что вовсе не хотел его напугать или застать врасплох, и спросил:
– Ты что, расписание уроков повторяешь или таблицу умножения? Только зачем, ты и так ее лучше всех знаешь. Уж, во всяком случае, лучше меня. Я, наверное, безнадежен. Все время ошибаюсь, когда надо на девять умножать. Или на семь. Это для меня trs difficile[8]. – Мальчики обычно пользовались французскими словами в тех случаях, когда становилось слишком скучно либо было трудновато объяснить что-то по-английски. И потом, говорить по-французски – это почти то же самое, что иметь некий тайный язык, хотя, если честно, по сути дела, любой из учеников их класса мог присоединиться к их «тайной» беседе на французском.
Джеймс пошевелил концом биты в траве у своих ног и пояснил:
– Просто проверяю, легко ли я могу удваивать числа. Так, на всякий случай. Для безопасности.
– На какой случай? – Байрон судорожно сглотнул. – Что значит «для безопасности»? – Джеймс никогда раньше так не говорил. Это было совершенно на него не похоже.
– Ну, это все равно что успеть добежать до своей спальни, пока в туалете еще не перестала шуметь вода. И сказать себе: если я этого не сделаю, все может пойти не так.
– Но где же тут логика, Джеймс!
– На самом деле все очень даже логично, Байрон. Я не оставляю места случайностям. Напряжение и так нарастает из-за этих экзаменов на стипендию. Иногда я даже начинаю искать четверной клеверный листик. А теперь еще и «счастливым» жуком обзавелся. – Джеймс вытащил из кармана что-то, неярко блеснувшее у него между пальцами. Это был искусно сделанный из потемневшей бронзы жук-бронзовик со сложенными крыльями – весьма изящная вещица размером с большой палец Байрона и в точности повторявшая облик настоящей бронзовки. Жук мог также служить брелком для ключей, поскольку к нему была приделана серебряная петелька.
– А я и не знал, что у тебя есть такой чудесный амулет, – сказал Байрон.
– Это тетя прислала. Из Африки. Я не могу позволить себе никаких дурацких ошибок перед самым экзаменом.
У Байрона вдруг как-то странно защипало в носу в районе переносицы, и он, к своему стыду, понял, что сейчас расплачется. Но тут на крикетном поле заорали: «Аут!», послышались аплодисменты, и Джеймс встал.
– Моя очередь бить, – сказал он. Спортивные игры давались ему хуже всего. Байрон старался не упоминать об этом, но прекрасно знал, что Джеймс всегда закрывает глаза, когда в его сторону летит мяч. – Мне надо идти.
– Ты видел? Сe matin[9]?
– Что я должен был видеть, Байрон?
– Те две секунды? Их ведь сегодня прибавили! В четверть девятого.
Возникла крошечная пауза, во время которой ничего не произошло, хотя Байрон ждал, что Джеймс Лоу хоть что-нибудь на это скажет, но Джеймс Лоу не сказал ни слова. Он просто очень внимательно посмотрел на сидящего Байрона, и лицо его побледнело настолько, что стало каким-то восковым, в руке он по-прежнему крепко сжимал своего жука. Солнце было прямо у него за спиной, и Байрону приходилось щуриться, чтобы разглядеть его лицо. Уши Джеймса на солнце просвечивали красным, точно вареные креветки.
– Ты уверен? – спросил, наконец, Джеймс.
– Да. Я сам видел, как секундная стрелка у меня на часах двинулась назад. А потом, когда я снова посмотрел на часы, они уже шли, как обычно. Это совершенно точно было сегодня.
– А в «Таймс» об этом ничего не писали.
– И по телевизору тоже ничего не говорили. Я вчера вечером весь выпуск новостей посмотрел, но никто об этом даже не упомянул.
Джеймс посмотрел на свои наручные часы. Часы были швейцарские, на широком кожаном ремешке, раньше эти часы принадлежали его отцу. Там было окошечко, но в нем выскакивало только сегодняшнее число, а не минуты и секунды.
– Ты уверен? Ты действительно уверен, что видел это?
– Действительно.
– Но почему же тогда… Почему решили прибавить эти секунды, никому не сообщив?
Байрон поморщился, стараясь не расплакаться:
– Не знаю. – «Жаль, – думал он, – что у меня нет такого «счастливого» жука. Жаль, что у меня нет тети, которая могла бы прислать мне из Африки такой талисман».
– Ты что? У тебя все в порядке? – вдруг спросил Джеймс.
Байрон так энергично закивал, что, казалось, даже глазные яблоки подпрыгнули у него внутри черепа. И поторопил друга:
– Depechez-vous. Les autres[10] ждут.
Джеймс тяжко вздохнул и пошел отбивать мяч. Потом побежал, высоко поднимая колени, его плечи и локти работали, точно поршни, то поднимаясь, то опускаясь. И Байрон вдруг подумал: если он будет бежать с такой скоростью, то выдохнется раньше, чем доберется до черты. На всякий случай он незаметно вытер глаза, но на него вроде бы никто не смотрел, потом несколько раз чихнул – пусть те, кто все же что-то заметил, думают, что у него сенная лихорадка или какая-то странная простуда, невесть откуда взявшаяся среди жаркого лета.
Ключи от нового «Ягуара» были вручены Дайане, когда она успешно сдала экзамены на права. Отец Байрона редко позволял себе подобные сюрпризы, а вот мать, куда более порывистая, была вполне способна на неожиданные поступки. Она могла, например, купить кому-то подарок просто потому, что ей захотелось, чтобы у человека была эта вещь, и любой подарок она всегда заворачивала в красивую бумагу и перевязывала ленточкой, даже если никакого дня рождения и не было. Ключи от «Ягуара» отец ни во что заворачивать не стал, а просто положил в коробочку под белый носовой платочек с кружевами.
– Боже, какой сюрприз! – воскликнула мать. Она, похоже, и не догадывалась, что в коробочке еще и ключи от машины. Вид у нее был страшно смущенный, и она все трогала изящный платочек, на котором была вышита первая буква ее имени «Д», увитая маленькими розовыми розочками.
Наконец Сеймур не выдержал.
– Ради бога, дорогая! – с досадой сказал он, и это прозвучало как-то не совсем правильно: в его словах, пожалуй, слышалось больше угрозы, чем нежности. Только осле этого мать догадалась приподнять платочек и обнаружила под ним ключи с эмблемой «Ягуара», выдавленной на кожаном ярлычке. Она была потрясена.
– Ах, Сеймур, – без конца повторяла она, – ну разве можно… Не стоило… Я не могу…
Отец, как обычно, с достоинством кивал, но Байрону почему-то казалось, что ему страшно хочется подпрыгнуть или побегать по комнате, только строгий официальный костюм этого не позволяет. Он сказал Дайане, что теперь люди будут смотреть на нее с интересом, что все будут обращать на нее внимание. Теперь уж никто не посмеет посмотреть на Хеммингсов сверху вниз. «Да, конечно, дорогой, – подтвердила Дайана, – матери всех учеников будут мне ужасно завидовать, потому что я – самая счастливая женщина на свете». И она погладила отца по голове, а он, закрыв глаза, прислонился лбом к ее плечу, словно вдруг почувствовав себя ужасно усталым.
Потом они поцеловались, и отец невнятно пробормотал что-то вроде того, что он изголодался. Дети, решив, что он хочет есть, тут же ускользнули прочь.
Дайана оказалась права насчет других матерей. Все женщины, прямо-таки все, столпились возле ее новой машины. Они трогали приборную доску из красного дерева и кожаные сиденья, усаживались сидеть на водительское место, а Диэдри Уоткинс сразу же объявила, что отныне маленький спортивный «Купер» ее совершенно не устраивает. От этого «Ягуара» даже пахнет чем-то дорогим – как-то так выразилась мать нового ученика, недавно появившегося у них в классе. (Никто еще толком не знал, как ее зовут.) И пока женщины рассматривали машину, Дайана металась за ними следом и носовым платком стирала с полировки следы их любопытных пальцев, довольно скованно при этом улыбаясь.
Каждый уик-энд отец задавал матери одни и те же вопросы: чистят ли дети свою обувь? Полирует ли Дайана хромированную решетку? Все ли знают, что у нее есть «Ягуар»? Конечно, конечно, говорила она. Матери остальных учеников просто позеленели от зависти. А стало ли об этом известно отцам учеников? «Да, да, – снова с улыбкой заверяла его Дайана. – Они только об этом и говорят. Ты так добр ко мне, Сеймур!» И отец, пытаясь скрыть счастливую улыбку, начинал вытирать рот салфеткой.
От этих мыслей о матери и «Ягуаре» сердце Байрона вдруг с такой силой подпрыгнуло, ударив в грудную клетку, что он аж испугался. Вдруг сердце пробьет в ней дыру? И у него случится сердечный приступ? Он даже на всякий случай прижал к груди руку.
– О чем мечтаем, Хеммингс? – Мистер Ропер заставил Байрона встать и сообщил всему классу, что именно так выглядит настоящий «ignoramus», то есть полный невежда.
Но Байрону было все равно, что бы там мистер Ропер ни говорил. Он сел и попытался присутствовать на уроке, но чем бы он ни занимался – тупо смотрел в учебник или в окно, – все расплывалось у него перед глазами, теряя очертания – и слова на страницах книги, и окрестные холмы. Вновь и вновь перед глазами возникала та девочка, свернувшаяся калачиком на земле возле дверцы «Ягуара», с той стороны, где сидел он. Колеса красного велосипеда, придавившего девочку, все еще крутились в воздухе, она лежала совершенно неподвижно. Казалось, она шла-шла и вдруг решила прямо у дороги прилечь и отдохнуть. Байрон то и дело поглядывал на свои наручные часы, на безжалостное, безостановочное движение секундной стрелки, и ему казалось, что время пожирает его заживо.
Глава 4
Обязательные ритуалы
Джим отпирает дверь своего кемпера и осторожно ее приоткрывает. Чтобы войти, ему приходится нагнуться. В окно светит бледная зимняя луна, ее свет холодным полотнищем лежит на ламинированных поверхностях. В домике у Джима есть и маленькая двухконфорочная плитка, и раковина, и складной столик, и даже мягкий раскладной диванчик, на котором достаточно удобно спать. Прикрыв за собой дверь, Джим запирает ее и начинает отправлять ежедневные ритуалы.
– Здравствуй, дверь, – говорит он. – Здравствуй, водопроводный кран. – Он приветствует каждую из имеющихся у него вещей. – Здравствуй, чайник. Привет вам, складная кровать и маленький кактус. Здравствуй, полотенце с надписью «Юбилейный чай». – Поздороваться нужно обязательно с каждым предметом, ни одного не пропуская. Закончив с этим, Джим снова отпирает дверь и выходит наружу. Его дыхание белыми облачками расцветает в ночи. Из дома, где живут студенты-иностранцы, доносится музыка, а тот старик, что целыми днями просиживает у окна, наверняка уже лег спать. На западе мелькают огоньки – это на излете часа пик прокладывают по вершинам холмов путь последние автомобили. Где-то лает собака, и кто-то сердито кричит на нее, чтоб замолчала. Джим снова открывает дверь своего домика и заходит внутрь.
Этот ритуал он повторяет ровно двадцать один раз – столько, сколько следует. Он входит в кемпер. Приветствует свои вещи. Затем снова выходит. Вошел – привет, здравствуйте, – вышел. Вошел – привет, здравствуйте, – вышел. И каждый раз непременно отпирает и запирает дверь.
«Двадцать один» – число безопасности. Если этот ритуал совершать двадцать один раз, с ним, Джимом, точно ничего не случится. А вот «двадцать» – число небезопасное, как и «двадцать два». Если что-то иное случайно затешется ему в голову – какой-то образ или слово – и он собьется, все придется начинать сначала.
Никто и понятия не имеет об этой стороне жизни Джима. Если он забредает в микрорайон, то всегда выправляет скомканные банки из-под пива и подбирает всякий мусор. И всегда здоровается с мальчишками на катке: «П-привет, как дела?» – а порой даже приносит с собой ящик с инструментами и чинит, например, забитый коллектор, но никто не должен знать, через какие испытания ему приходится проходить, когда он остается один. В Кренхем-вилледж есть одна дама с собакой, которая иной раз спрашивает, где он живет и не хочет ли он как-нибудь зайти в общественный центр и поиграть с ними в бинго. Выигравшим полагаются чудесные призы, говорит она, иногда даже обед на двоих в городском пабе. Но Джим спешит извиниться и отказаться.
Покончив со входами-выходами, Джим принимается за другие дела. Теперь нужно, лежа на животе, тщательно заклеить нижний край дверной рамы и всю дверь по периметру клейкой лентой, то же самое нужно проделать и с окнами. Все это необходимо, чтобы в его домик не проникли чужие. Затем он должен хорошенько проверить кухонные шкафчики и непременно заглянуть под раскладную кровать и за занавески – все это тоже полагается делать определенное количество раз. Но иногда, даже завершив все необходимые процедуры, Джим по-прежнему не чувствует себя в безопасности и тогда вынужден начинать все сначала, причем не только заклеивание каждой щели, а именно все, начиная с запирания-отпирания двери и бесконечных выходов наружу. Пошатываясь от усталости, он двадцать один раз выходит из домика и снова входит туда, запирает дверь и снова ее отпирает, здороваясь с каждой вещью: «Здравствуй, коврик у двери, здравствуй, кран, здравствуй, дверь».
Со времен учебы в школе у Джима не было ни одного настоящего друга. Он ни разу в жизни не был с женщиной. После закрытия «Бесли Хилл» он очень хотел иметь и друга, и возлюбленную, хотел познать любовь, понять других и быть понятым ими, но если столько раз приходится входить в дом и выходить из него, столько раз здороваться с каждым неодушевленным предметом и непременно каждый вечер для безопасности заклеивать липкой лентой по периметру все, что способно открываться, то времени на прочие дела практически не остается. И потом, Джима так часто охватывает душевное волнение, что он буквально теряет дар речи. Нет, наверное, любить ему уже слишком поздно.