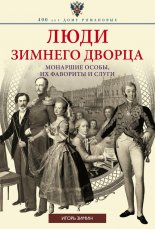Операция «Перфект» Джойс Рейчел

Но, несмотря на все опасения Байрона, визит отца прошел вроде бы гладко. Люси ни словом не обмолвилась насчет их поездки по Дигби-роуд. Мать тоже промолчала. «Ягуар» она, как обычно, поставила в гараж, не упомянув о том, что ей пришлось один раз очень резко затормозить, отчего она съехала на обочину. И о тех двух секундах речь не заходила. Отец, повесив костюм в гардероб, надел вельветовые джинсы, куртку из харрисского твида[21] и шелковый шейный платок. Это была его обычная загородная одежда. Впрочем, на нем любая одежда выглядела какой-то твердой, несгибаемой, как картон, хотя предполагалось, что домой он приезжает, чтобы расслабиться. Сперва он прочитывал у себя в кабинете газеты, затем в сопровождении матери совершал субботнюю прогулку к пруду и смотрел, как она бросает зерна уткам и гусям. Затем мать стирала привезенные им рубашки и белье и вывешивала все это на солнце. Примерно так, думал Байрон, в королевской резиденции вывешивают «Юнион Джек», извещая всех, что королева дома. Только у них во дворе ветерок шевелил не государственный флаг, а отцовские трусы и майки. И только в воскресенье за ланчем все вдруг пошло наперекосяк.
Глядя, как Дайана накладывает ему на тарелку овощи, Сеймур спросил, как у Байрона идет подготовка к экзаменам на стипендию. Смотрел он при этом только на руки жены, которая ложкой подкладывала ему картофелины одну за другой, так что Байрон даже не сразу понял, что отец обращается к нему и ждет от него ответа. Он сказал, что у него все хорошо, и перехватил улыбку матери.
– Так же хорошо, как у этого мальчика Лоу?
– Да, папа. – В столовой были открыты все окна, и все равно почему-то стояла страшная духота. Жара вливалась снаружи, похожая на густой суп.
Байрон никак не мог понять, почему отец так не любит Джеймса. Он знал, что после той истории с мостом Андреа Лоу звонила отцу и жаловалась, после чего отец и пообещал ей обнести пруд изгородью, но после этого все вроде бы успокоились. На рождественской вечеринке их с Джеймсом отцы пожали друг другу руки и сказали, что не держат друг на друга зла. И все же с тех пор Сеймур постоянно твердил, что Байрону следует завести себе других друзей, «у этого мальчика Лоу» голова забита всякими дурацкими и совершенно неосуществимыми идеями, говорил он, хоть его отец и является QC[22] и профессором университета.
Дайана сняла фартук и села за стол. Отец посолил жареную курицу и заговорил о беспорядках в Ирландии, о волнениях среди шахтеров, о том, что все происходит именно так, как они и ожидали, и мать с энтузиазмом ему поддакивала. И вдруг он спросил:
– А как поживает наш новый «Ягуар»?
У Байрона екнуло сердце. И внутри стало холодно и пусто.
– Что, прости? – переспросила Дайана, явно не ожидавшая такого вопроса.
– Матери других учеников по-прежнему обращают на нее внимание?
– Господи, да все только и мечтают, чтобы им так же повезло, как мне! Сядь, пожалуйста, прямо, Байрон.
Байрон украдкой глянул на Люси. Она так растянула губы, что казалось, рот у нее от уха до уха.
– Мне кажется, что было бы неплохо прогуляться с ней после ланча.
– Ты имеешь в виду Люси? – спросила мать.
– Я имею в виду нашу новую машину! – сказал отец. – Наш «Ягуар».
Мать слегка кашлянула, словно поперхнувшись. Совсем чуть-чуть, но отец так и вздернул голову. Положив нож и вилку, он выждал, внимательно глядя на Дайану, а потом спросил:
– В чем дело? Разве с машиной что-нибудь случилось?
Дайана взяла со стола стакан с водой. Кажется, руки у нее слегка дрожали, потому что было слышно, как звенят в стакане кубики льда.
– Нет, ничего, я просто хотела… – Но чего бы она хотела, она так и не сказала, словно передумав заканчивать фразу.
– Чего бы ты хотела, Дайана?
– Чтобы ты перестал называть «Ягуар» «она». Точно одушевленное существо.
– Что, прости?
Она улыбнулась и ласково коснулась руки отца:
– Это же машина, Сеймур. Это не женщина.
Байрон засмеялся. Ему хотелось, чтобы и отец понял: это просто шутка, ни капли для него не обидная. На самом деле Байрону хотелось не просто смеяться, ему хотелось смеяться до слез, хотелось схватиться за живот и выть от смеха. Что, учитывая потенциальную серьезность ситуации, было бы также в высшей степени разумно. Мать, вечно твердившая, что она женщина необразованная, частенько выдавала весьма неожиданные сюрпризы. Байрон, перехватив взгляд Люси, кивнул ей, приглашая сестренку присоединиться к веселью. Вероятно, оба испытывали невероятное облегчение от того, что не нужно ничего говорить, не нужно даже упоминать о той тайне, во всяком случае, Люси так захохотала, что едва усидела на стуле, и даже косички нечаянно окунула в подливку. Но, украдкой глянув на отца, Байрон увидел, что тот сидит с каменным лицом, а над верхней губой у него выступили маленькие капельки пота.
– Они что же, надо мной смеются?
– Конечно нет! – поспешно возразила мать. – В чем дело, дети? Я ничего смешного не вижу.
– Я всю неделю работаю, как каторжный, – медленно начал отец, отчетливо произнося каждое слово, словно слова были слишком сложной формы и, выходя изо рта, застревали между зубами, – и все это только ради вас. Я купил тебе «Ягуар». Больше никто своим женам таких подарков не делает. Механик в гараже просто ушам своим поверить не мог.
Чем больше он говорил, тем старше казался. А мать все кивала, все приговаривала: «Я знаю, дорогой, знаю». Байрон знал, что у его родителей огромная разница в возрасте – целых пятнадцать лет! – но в этот момент отец казался единственным родителем в комнате.
– Прошу тебя, Сеймур, – сказала Дайана, – давай обсудим это после ланча, хорошо? – И бросила выразительный взгляд в сторону детей. – Кстати, дорогой, на сладкое у нас воздушный пирог. Твой любимый, «шварцвальдский».
Отец изо всех сил старался скрыть, что ему приятно это слышать, но удовлетворенная улыбка все равно проступила у него на лице, сурово сжатые губы обмякли, но эта почти детская улыбка была словно перевернута вверх ногами, потому что уголки отцовских губ по-прежнему смотрели вниз. Слава богу, он снова взял в руки вилку и нож, и трапеза закончилась в полном молчании.
С отцом вечно так, думал Байрон. Иной раз выражение его лица вдруг становилось совсем детским, но он тут же сердитой гримасой старался прогнать прочь этого невесть откуда взявшегося ребенка. В гостиной висели две его детские фотографии в рамках. Первый снимок был сделан в саду возле их дома в Рангуне. На нем Сеймур был в матросском костюмчике и держал в руках игрушечный лук и стрелы, а за спиной у него виднелись пальмы и какие-то огромные цветы, у которых лепестки были величиной с ладонь. Но, судя по тому, как он держал свои игрушки (как бы отстранив от себя), легко было догадаться, что он с этими игрушками никогда не играет. На второй фотографии он был запечатлен вместе с родителями в момент прибытия в Англию, когда они только-только сошли с парохода. Сеймур выглядел замерзшим, испуганным и смотрел не в объектив, а себе под ноги, его матросский костюмчик был весь измят и сидел как-то криво. Даже мать Сеймура на этой фотографии не улыбалась. «Ты просто представить себе не можешь, до чего тебе повезло, – частенько повторял Байрону отец. – Мне-то за все в жизни пришлось бороться. У нас ведь не было совершенно ничего, когда мы вернулись в Англию. Ничего!»
Фотографий Дайаны в гостиной не было ни одной. И о своем детстве она никогда не рассказывала. Было просто невозможно себе представить, что и она когда-то была маленькой девочкой, а не только их мамой.
У себя в комнате Байрон снова внимательно изучил секретную схему района Дигби-роуд. Зря, думал он, Дайана вздумала комментировать привычку Сеймура называть их автомобиль «она». И зря сам он, Байрон, так расхохотался. Они явно выбрали не самый удачный день, чтобы продемонстрировать несогласие с отцом. Вспомнив то, что случилось за ланчем, Байрон почувствовал в низу живота какую-то противную холодную пустоту – примерно такое же ощущение он испытал во время коктейля, который его родители устроили на прошлое Рождество для родителей других учеников «Уинстон-хаус». Снизу, из кухни, доносились громкие голоса, но Байрон старался не прислушиваться, потому что отец уже почти кричал. Но он все равно все слышал, даже когда пытался что-то напевать себе под нос, и глаза его незаметно наполнились слезами, а линии на схеме Дигби-роуд вдруг расплылись, превратившись в пятна, и деревья за окном стали похожи на мазки зеленой краски по синему фону. Затем в доме вдруг стало так тихо, словно все в нем умерло, превратилось в прах, и Байрону стало страшно. Он на цыпочках прокрался в холл, но даже Люси нигде не было слышно.
Впрочем, мать он обнаружил на кухне, причем в полном одиночестве, и от этого испугался еще больше. Пришлось даже притвориться, будто он только что влетел в дом, прибежав откуда-то издалека.
– А где папа?
– Уехал в Лондон. У него там срочная работа.
– И «Ягуар» не осматривал?
У матери стало такое выражение лица, словно она не понимает вопроса.
– А зачем ему осматривать «Ягуар»? Он просто вызвал такси и поехал на вокзал.
– Почему же ты его не отвезла?
– Не знаю. Как-то времени не хватило. Что-то ты слишком много вопросов задаешь, мой милый!
Но больше она ничего не сказала, и Байрон испугался, что расстроил ее своими вопросами. Но вскоре мать снова повернулась к нему и подбросила в воздух целую стайку мыльных пузырей. Байрон засмеялся и стал ловить их пальцами, а она слегка подула, и один пузырь уселся ему прямо на кончик носа, точно белый бутон. Без отца дом снова казался теплым и уютным.
Та рождественская вечеринка была затеей Сеймура. Ее устроили через несколько месяцев после неприятного случая с мостом через пруд. «Пора нам кое-что им продемонстрировать, этим родителям детишек из привилегированной школы», – сказал Сеймур. Были разосланы специальные приглашения, напечатанные на белых карточках. Дайана купила огромную елку, которая даже в холле доходила до потолка, и украсила дом разноцветными бумажными цепями. Отполировала деревянные панели на стенах, напекла крошечных пирожков-волованов с разными «сюрпризиками» внутри и надела по черешенке на каждую соломинку для коктейля. Пришли все, даже Андреа Лоу с мужем, королевским адвокатом.
Это был неразговорчивый человек в бархатном пиджаке и негнущейся манишке, который всюду следовал за женой, а сама Андреа не выпускала из рук бокал с вином и канапе в бумажной салфетке.
Дайана обнесла всех напитками, и гости принялись дружно восхищаться новыми полами с подогревом, кухонным оборудованием, купальными халатами цвета авокадо в ванной, шкафами в спальне, электрическими каминами и двойными герметичными рамами на окнах. Байрону было поручено принимать и развешивать пальто.
– Новые деньги! – донеслось до него. Это сказала одна из приглашенных матерей. Сам Байрон считал, что гораздо удобнее пользоваться десятеричной системой и новыми монетками. Мимо как раз проходил Сеймур, который явно услышал слова этой женщины. Байрону казалось, что и отцу новые деньги тоже нравятся, но у того было такое выражение лица, словно он только что обнаружил некий неприятный «сюрпризик» в своем воловане с грибами. Впрочем, отец никогда не любил овощи без мяса.
А потом Диэдри Уоткинс предложила поиграть в фанты или еще в какую-нибудь светскую игру – это Байрон тоже хорошо помнил, хотя его возможности стать свидетелем самой игры были теперь ограничены удобным потайным местечком на верхней площадке лестницы. «О да, давайте поиграем!» – обрадовалась Дайана. Она вообще любила такие забавы, и, несмотря на то что отец Байрона как раз подобных вещей не одобрял, разве что мог разложить пасьянс «солитер» или решить какой-нибудь особенно сложный кроссворд, все остальные согласились, что это великолепная идея, и ему, как хозяину дома, тоже пришлось участвовать в общей игре.
Он завязал Дайане глаза – правда, Байрону показалось, что действовал он несколько грубовато, но она не жаловалась, – и сказал, что теперь пусть она его найдет. В этом весь смысл игры, сказал он. «Моя жена любит поиграть. Не правда ли, Дайана?» Иногда у Байрона возникало ощущение, что отец перебарщивает, притворяясь весельчаком. И вообще отец гораздо больше нравился ему и был гораздо понятней, когда, например, рассуждал об Общем Рынке или туннеле под Ла-Маншем. (Он был ярым противником и того и другого.) Но игра началась, и столпившиеся в гостиной веселые подвыпившие гости то и дело со смехом окликали Дайану, и та ощупью пробиралась на зов, взмахивая руками и неуверенно спотыкаясь, и пыталась поймать очередного шутника.
– Сеймур? – звала она. – Где же ты?
Она трогала щеки, волосы и плечи чужих мужчин, но мужа так и не находила.
– Ох нет, – говорила она. – Боже мой, и вы тоже не Сеймур! – И все смеялись. Даже Андреа Лоу не выдержала и улыбнулась.
Качая головой, словно она у него страшно разболелась или он просто безумно устал и все это ему надоело – трудно было сказать наверняка, – отец Байрона потихоньку ушел к себе, но никто, кроме Байрона, этого не заметил. А Дайана все продолжала искать его в гостиной. Она бродила, натыкаясь на плотную толпу, и гости начинали как бы передавать ее друг другу, как мячик или куклу, и все при этом радостно кричали и смеялись, а один раз ее толкнули, и она чуть не упала прямо на елку, но и после этого все продолжала искать своего мужа, вытянув перед собой руки с дрожащими растопыренными пальцами.
Больше подобных вечеринок родители Байрона не устраивали. Отец сразу заявил, что следующее такое сборище состоится только через его труп. Да и самому Байрону казалось, что дом у них недостаточно гостеприимный для шумных вечеринок. Но, вспоминая ту вечеринку и то ощущение дурноты и смущения, которое он испытывал тогда, глядя, как толпа гостей швыряет его мать из стороны в сторону, точно кусок плавника, Байрон снова подумал, что зря мать не промолчала, когда отец завел разговор про их новый «Ягуар».
В воскресенье вечером Байрон стащил постель на пол и положил рядом фонарик и лупу. На всякий случай. Понимая, что впереди у него немало трудностей, даже если до смерти или голодания дело и не дойдет, он хотел знать, сколько времени он сможет продержаться в непривычных условиях и на что будет способен. Сперва сброшенный на пол плед показался ему на удивление толстым и теплым, было приятно, что первое испытание он выдержал так легко. Вот только уснуть что-то никак не удавалось.
Да и жара, конечно, мешала. Байрон лег поверх одеяла и расстегнул пуговицы на пижамной куртке. Он уже начинал задремывать, когда колокола за Кренхемской пустошью прозвонили десять, и от их звона он снова проснулся. Потом мать выключила музыку в гостиной, на лестнице послышались ее легкие шаги, щелкнула дверь в спальню, и дом окутала тишина. А Байрон все вертелся с боку на бок, без конца поправляя постель и взбивая подушку, но каждый раз его мягкое тело встречалось с безжалостно твердой поверхностью пола. Тишина в доме стояла настолько оглушительная, что он не мог понять, как в такой тишине вообще можно спать. Было слышно, как на пустоши лают лисицы. Слышалось уханье сов, стрекот сверчков, а иногда и сам дом вдруг начинал глухо потрескивать и постукивать. Байрон нашарил свой фонарик и даже несколько раз включил его, водя лучом по стенам и занавескам на тот случай, если где-то тут собрались грабители, которые намерены забраться к ним в дом. Знакомые очертания предметов то выныривали из темноты, то пропадали. И как ни старался он закрыть глаза и уснуть, в голове крутились мысли только о грозящей им опасности. Кроме того, спать на полу оказалось очень жестко, и было ясно, что утром все тело у него будет в синяках.
И все же в ту ночь Байрон понял главное: чтобы спасти мать, недостаточно просто молчать о случившемся и недостаточно подвергать испытаниям самого себя. В первую очередь он должен представить себе, как на его месте поступил бы Джеймс, и прибегнуть к логике. В общем, для начала необходим был четкий план действий.
Глава 8
Выход
За окном супермаркета снеговые тучи так тяжело обвисли, что кажется странным, как это они все еще удерживаются в небе. Джим представляет себе, как эти тучи с глухим грохотом падают на пустошь и взрываются, засыпая окрестные холмы белыми хлопьями. Эта мысль вызывает у него улыбку. И почти сразу же вслед за этой мыслью приходит вторая, и Джим никак не может понять, почему вторая мысль – точно удар в солнечное сплетение, после которого он с трудом переводит дух.
Несмотря на потерянные, словно провалившиеся в небытие годы, память о давних временах все же иногда пробуждается в его душе. Прилетающие к нему воспоминания часто бывают совсем коротенькими, но даже самая крошечная деталь способна порой, точно искорка, высветить целый кусок прошлого. На такую деталь иной человек может и внимания не обратить. И все-таки даже самая незначительная мелочь способна резко изменить привычное окружение и доставить человеку столько горя, что у него все перевернется внутри.
Когда, много лет назад, его впервые выставили из «Бесли Хилл», был такой же зимний день, как сейчас. Ему было девятнадцать. На холмы сыпался легкий, как пудра, снежок, а он стоял и смотрел на этот снег из окна. Дежурная сестра принесла его чемодан и синее габардиновое пальто, и он некоторое время был вынужден сражаться с этим пальто, пытаясь натянуть его на свои раздавшиеся плечи. Когда же, наконец, удалось всунуть руки в рукава, пальто на спине натянулось и затрещало, больно врезавшись под мышками.
– Похоже, тебе нужен размер побольше, – сказала медсестра, глядя на него снизу вверх. Только теперь до него дошло, как долго он здесь пробыл. Сестра велела ему ждать в приемной, и он несколько часов просидел там один. Пальто он снял и положил на колени. В свернутом виде пальто напоминало какого-то домашнего зверька, и он все гладил его по мягкой подкладке. В приемной он не был с того дня, как его привезли в «Бесли Хилл» и провели через эту комнату, и теперь был очень смущен пребыванием здесь, потому что уже не знал, кто он такой. Пациентом он больше не был и знал, что его участь несколько лучше. Но что это означает на самом деле, он толком не понимал. Когда сестра снова заглянула в приемную, то страшно удивилась, увидев его, и спросила:
– А ты почему до сих пор здесь?
– Жду, когда меня кто-нибудь заберет.
Сестра сказала, что родители наверняка скоро за ним приедут, и предложила Джиму чашечку чая.
Ему хотелось пить, и чаю он выпил бы с удовольствием, но он задумался о родителях и не смог вымолвить ни слова. Ему было слышно, как медсестра поет на кухне, как она кипятит себе воду для чая. Это были такие естественные, спокойные звуки, и казалось, что все у нее в жизни хорошо. Он слышал даже легкое позвякиванье чайной ложечки в кружке. Он пытался на практике отыскать темы, на которые смог бы поговорить с другими людьми. Например, о рыбалке. Однажды он слышал, как врачи разговаривают о рыбалке, а в другой раз подслушал, как сестры рассказывают друг другу о танцах и свиданиях с ухажерами. Жаль, что он ничего не знает о таких вещах. Ни о рыбалке, ни о танцах, ни о свиданиях. Теперь, когда ему стало лучше, он мог бы всем этим заниматься. И рыбу ловить, и свидания назначать, и с девушками танцевать. Ведь еще не слишком поздно. У него все еще только начинается.
Свет за окном начал меркнуть. Тонкий слой снега на пустоши сверкал, как хрупкий сплав олова и свинца. Медсестра появилась снова и чуть не подпрыгнула, увидев Джима.
– Ты все еще здесь? А я думала, ты давным-давно уехал… – Потом она спросила, не холодно ли ему, а он действительно замерз, потому что в приемной стоял собачий холод, но он заверил ее, что ему вполне хорошо. – Дайка я, по крайней мере, тебе чайку приготовлю, – сказала она. – Уверена, с минуты на минуту за тобой приедут.
Он слышал, как медсестра напевает на кухне, и медленно осознавал ту простую истину, что никто за ним не приедет. И даже не собирается приезжать. Конечно же, нет. И никто не собирается учить его, как ловить рыбу или как пригласить девушку на танец. Он не мог понять, отчего так дрожит – то ли от холода, царившего в этой комнате, то ли от обрушившихся на него новых знаний. Потом он встал и тихонько выскользнул наружу через парадную дверь. Ему не хотелось обижать добрую медсестру внезапным исчезновением, и он оставил для нее на стуле свое аккуратно свернутое пальто в знак благодарности за ту чашку чая, которую она так и не успела ему принести. Какое-то время он все-таки ожидал, что кто-нибудь выбежит за ним следом, возьмет за руку и отведет обратно в дом, но никто так и не выбежал. Он дошел до конца подъездной дорожки и – поскольку ворота оказались заперты, а снова причинять беспокойство медсестре ему не хотелось – отыскал место, где можно было перебраться через ограду, и пошел в сторону пустоши просто потому, что понятия не имел, куда еще пойти. На пустоши он и провел несколько дней, будучи не в силах разобраться в обуревавших его чувствах и понимая одно: он совершенно неправильный, недоделанный, никуда не годный человек, не такой, как все, и в «Бесли Хилл» его от этих недостатков не вылечили. Впрочем, во всем он винил только себя. А потом его в одних подштанниках отыскали полицейские и отвезли прямиком в «Бесли Хилл».
– Тебе, видно, очень нравятся эти холмы, – слышит Джим своим правым ухом и резко поворачивается вправо.
Оказывается, за спиной у него стоит Айлин, и он отшатывается от нее, словно она заразная. Дурацкая оранжевая шляпа еле держится у нее на макушке и висит под таким невероятным углом, что, кажется, вот-вот слетит прочь. В руках у Айлин тарелка, на тарелке сэндвич с ветчиной.
Она широко улыбается Джиму, и от этой улыбки все ее лицо светлеет.
– Извини, я не хотела тебя пугать, – говорит она. – У меня вечно так. Даже если я совсем не хочу никого пугать, все равно пугаю. – И она смеется.
После предыдущей и весьма неудачной попытки улыбнуться ей Джим предпочел бы попробовать что-нибудь другое. Может быть, тоже засмеяться? Только не хотелось бы произвести на Айлин неправильное впечатление: вдруг она подумает, что он смеется над ней или согласен с ее утверждением, что она вечно пугает людей. А так хотелось бы засмеяться так, как это делает она – от всей души, щедрым горловым хохотом. Джим все же изображает улыбку и издает какой-то неопределенный звук.
– Что? Может, тебе стакан воды принести? – участливо спрашивает Айлин.
Джим пытается засмеяться как следует. От этих усилий у него чуть миндалины не вывихиваются. Но такой смех звучит еще хуже, и он умолкает, потупившись.
– Девочки говорили, будто ты настоящий садовник, – говорит Айлин.
Садовник. Никто никогда его так не называл. Вот всякими другими словами называли, это правда. Лягушачья пасть, псих, чудак, урод, калека, но садовником – никогда. Джим испытывает невероятное наслаждение, ему хочется радостно смеяться, но это, наверное, было бы ошибкой, и он решает вести себя с Айлин легко и непринужденно. Для начала пытается принять легкомысленную позу и засунуть руки в карманы штанов, но ему мешает фартук, руки совершенно в нем запутываются…
И тут Айлин говорит:
– Знаешь, мне однажды подарили деревце-бонсай, и я, совершив самую большую ошибку в своей жизни, этот подарок приняла. Дело-то в том, что я действительно хотела за этой крошкой ухаживать как полагается. Внимательно прочитала приложенную к нему листовку. Выбрала хорошее местечко у окна. Поливала из наперстка. Даже мини-секатор купила. А потом – догадайся, что случилось? Проклятущее деревце скукожилось и погибло буквально у меня на глазах! Подхожу я к нему как-то утром, а оно уж и листочки все на пол сбросило. И само набок завалилось. – Айлин так живо изображает крошечное умершее деревце, что Джиму опять хочется смеяться.
– Может, ты его слишком обильно поливала?
– Нет, я просто слишком сильно его любила. В том-то и дело.
Джим не совсем уверен, как ему реагировать на историю о деревце-бонсай. Он кивает, но немного рассеянно, словно находится во власти каких-то совсем других мыслей. Потом с некоторым трудом снова вытаскивает руки из карманов, и Айлин говорит:
– У тебя красивые пальцы. Пальцы художника. Я думаю, именно поэтому у тебя так хорошо получается с растениями. – Она оглядывается в сторону кафе, и Джим понимает: наверно, она ищет предлог уйти.
Ему бы хотелось сказать ей что-то еще. Хотелось бы еще немного побыть с этой женщиной, которая стоит перед ним, уверенно и широко расставив ноги. С женщиной, у которой волосы цвета пламени. Но он совсем не умеет вести непринужденную светскую беседу. Это очень просто, как-то сказала ему одна сестричка из «Бесли Хилл»: говори первое, что на ум придет, ну и о комплиментах, разумеется, не забывай, они всегда кстати.
– М-мне очень нравится т-т-твой сэндвич, – говорит Джим.
Айлин хмурится и смотрит сперва на сэндвич, потом снова на Джима.
Рот у Джима словно набит наждачной бумагой. Возможно, фраза о сэндвиче – не самое лучшее начало для светского разговора.
– Мне нравится, как ты его хрустящим картофелем украсила, – говорит он, – вот тут, сбоку.
– О!
– И еще… еще… латук очень красиво выглядит. И помидор ты з-здорово разрезала – з-з-звездочкой.
Айлин удивленно кивает с таким видом, словно раньше никакого значения этому не придавала.
– Хочешь, я и тебе такой сэндвич сделаю?
Джим отвечает, что очень хочет, и смотрит, как она несет сэндвич заказчику. Она что-то говорит этому человеку, и тот начинает хохотать чуть ли не до слез. Интересно, думает Джим, что же она ему такое сказала? Затем Айлин широким шагом удаляется к себе на кухню; ее оранжевая шляпка так и подскакивает, грозя свалиться, и Айлин сердито прихлопывает непослушный головной убор, словно надоедливую муху. Джим смотрит ей вслед и чувствует, как внутри у него словно вспыхнул и продолжает гореть маленький огонек. И ему больше не хочется вспоминать тот день, когда никто не пришел забрать его из «Бесли Хилл».
Несмотря на то что тогда его немного подлечили и, когда ему исполнился двадцать один год, снова выпустили из лечебницы, уже через полгода он опять вернулся обратно. Все эти шесть месяцев он пытался жить правильно. Пытался быть таким же, как все. Даже записался в вечернюю школу, чтобы нагнать упущенное. Даже заводил разговоры со своей квартирной хозяйкой и другими людьми, которые тоже снимали у нее жилье. Но оказалось, что ему невероятно трудно сосредоточиться. А после второго курса лечения электрошоком он, похоже, начал многое забывать. Причем не только то, что случилось в тот или иной день с утра, но и самые простые и необходимые вещи, например, собственное имя или улицу, на которой живет. Однажды ему не удалось устроиться на работу только потому, что он не смог вспомнить, на какой автобусной остановке нужно выходить. Он стал работать грузчиком на мусорных машинах, но все в их команде каждый раз начинали смеяться, видя, как старательно он выстраивает мусорные бачки «по росту». Мусорщики дразнили Джима «гомосеком» – особенно после того, как он сказал, что у него нет подружки, – но никогда не обижали его и вообще ничего плохого ему не делали, и к тому времени, как он потерял и эту работу, он уже почти чувствовал себя своим среди них. Порой, наблюдая из окна своей комнатушки за работой мусорщиков, таскавших на спине мусорные бачки, он пытался понять, из его они команды или из другой. Работая с ними, он начал понимать две важные вещи: как хорошо быть сильным и как хорошо быть членом команды. Он словно посмотрел на свою жизнь с другой стороны – так бывает, когда заглянешь в чужое окно и вдруг увидишь собственную жизнь совсем иначе.
Но работа мусорщика имела и оборотную сторону. Уже перестав работать на разгрузке мусорных бачков, Джим еще много месяцев чувствовал на своей одежде их «ароматы». Он стал каждый день ходить в прачечную, но женщина, сидевшая там за кассой, без конца курила, прикуривая одну сигарету от другой, держа в руке тлеющий окурок, она прямо от него прикуривала следующую сигарету, и через некоторое время Джим уже не мог толком сказать, чем от него пахнет – сигаретным дымом или вонью мусорных баков. Но чем бы ни пахла его одежда, ему этот запах был неприятен, и он по-прежнему без конца бегал в прачечную, потому что его вещи никогда не казались ему достаточно чистыми. И через некоторое время та женщина, что курила одну сигарету за другой, заявила: «Ты, парень, похоже, на всю голову больной». Больше он в эту прачечную, разумеется, не ходил.
Хуже всего оказалось то, что теперь Джим был вынужден ходить в грязном. В иные дни он даже не мог заставить себя одеться. В результате у него возникли новые, весьма нежелательные мысли. А если он попытался чем-то заняться, чтобы от этих мыслей избавиться, сказать им «нет» и, например, отправиться на прогулку, соседи от него шарахались. А однажды, открывая дверь, он громко поздоровался с «Бейби Беллинг»[23]. Ничего особенного он, собственно, в эти слова не вкладывал. Просто ему захотелось проявить любезность, потому что миниатюрная электроплитка выглядела уж очень одиноко. После этого он заметил, что кое-что случилось, или, точнее, ничего не случалось несколько дней, и даже дурные мысли перестали его посещать. Но потом квартирная хозяйка пронюхала, что Джим довольно долго пробыл в «Бесли Хилл», и заявила, что комнату ему больше сдавать не может.
Несколько ночей Джим провел на улице, после чего сам сдался в полицию. Он заявил, что опасен для других людей, хотя прекрасно понимал, что никогда и никому по своей воле никакого вреда не причинит. Для пущей убедительности он начал кричать, пинать ногами вещи, словно и впрямь представлял опасность для окружающих, и в итоге из полицейского участка его отправили прямиком в «Бесли Хилл». Полисмены даже сирену на машине включили, хотя к этому времени Джим уже перестал кричать и вещи не пинал, а спокойно сидел и молчал.
Когда он в третий раз вернулся в «Бесли Хилл», у него не было ни депрессии, ни приступа шизофрении, ни раздвоения личности. Это вообще не было связано с каким-либо психическим заболеванием, которому люди дают различные названия. Это была, скорее, просто привычка. Он обнаружил, что ему проще быть самим собой, считаясь душевнобольным, чем исправиться и быть как все. И, несмотря на то что теперь Джим стал постоянно отправлять некие ритуалы, здороваясь с каждым знакомым предметом, его третье возвращение в «Бесли Хилл» было словно возвращение к старой привычной одежде и к тем людям, которые его узнают и признают. Это давало ощущение безопасности.
На кухне кто-то сильно шумит. Голос женский. Затем другой голос, мужской, явно пытается женщину успокоить. После чего кухонная дверь распахивается настежь и оттуда вылетает Айлин. Ее волосы, точно языки пламени, торчат во все стороны. Никакой оранжевой шляпы у нее на голове нет, а через плечо, точно туша убитого животного, перекинуто пальто. Дверь на кухню, жалобно взвизгнув, захлопывается, а через пару секунд из-за нее появляется мистер Мид, прижимая руку к разбитому носу.
– Миссис Хилл! – кричит он, зажав нос пальцами. – Айлин! – И бросается за ней вдогонку. Айлин, не оглядываясь, с достоинством удаляется, лавируя меж столиками. Изумленные посетители, позабыв о горячих напитках, ставят свои стаканчики на стол.
– Или я, или эта гребаная шляпа! – бросает Айлин через плечо.
Мистер Мид энергично трясет головой, но нос по-прежнему придерживает рукой, словно опасаясь, что он отвалится. Покупатели, выстроившиеся в очередь за бесплатным праздничным угощением (один горячий напиток и три крошечных пирожка, оладьи и горячие сдобы за отдельную плату), смотрят на них, разинув рты.
Айлин останавливается так резко, что мистер Мид налетает на тележку с рождественскими товарами.
– Только посмотрите на нас, – говорит она, обращаясь не только к мистеру Миду, но и ко всему залу – к покупателям, к обслуживающему персоналу в дурацких оранжевых шляпах и даже к пластиковым столам и стульям. – Посмотрите, как мы живем.
Все остолбенели. Никто ничего не отвечает. Наступил миг всеобщей неподвижности, все вокруг замерло, словно кто-то повернул выключатель или просто все вдруг позабыли, что следует делать дальше. И только елка, похоже, помнит о необходимости совершать свои превращения и продолжает радостно вспыхивать зелеными, красными и синими огоньками. Затем лицо Айлин искажает какая-то странная недоверчивая гримаса, и из ее горла начинают доноситься какие-то дикие громогласные звуки, которые на самом деле не что иное, как смех. Но Джиму опять кажется, что смеется она вовсе не над этими людьми, а вместе с ними. Словно смотрит некий спектакль, в котором сама же и участвует, и он вдруг показался ей невероятно смешным.
Айлин поворачивается, невольно демонстрируя бело-серые ноги, поскольку ее юбка некрасиво задралась, зацепившись за что-то.
– Ах, чтоб тебя! – сердито фыркает она и поправляет юбку, потом, держась за перила, торопливо спускается вниз по той лестнице, что предназначена только для посетителей кафе.
Когда она исчезает, в кафе вновь воцаряется тишина. Всем ясно, что случилось нечто из ряда вон, и никто не готов сдвинуться с места, пока не поймет реальный масштаб ущерба. Раздается чей-то неуверенный шепот, но так как ничего особенного не происходит – ничто не рушится, не падает на пол, – кто-то начинает тихонько смеяться, потом чьи-то голоса вплетаются в плотную ткань тишины, и вскоре атмосфера в кафе становится прежней.
– Эта женщина уволена! – изрекает мистер Мид, хотя его заявление можно и оспорить – скорее уж Айлин уволила себя сама. – Всем немедленно вернуться к работе! – Тут мистер Мид замечает Джима и кричит: – Джим, как у тебя шляпа надета?
Джим старательно поправляет съехавший головной убор. Возможно, даже к лучшему, что он никогда больше не увидит Айлин: за этой женщиной вечно тянется целый шлейф хаоса. И все же ее слова, брошенные на прощанье, все еще звучат у него в ушах, как и ее щедрый громогласный смех. А еще Джиму хочется знать, какой сэндвич она бы приготовила для него. Положила бы она туда хрустящий картофель, салат-латук и помидор, вырезанный звездочкой? Он вспоминает, как когда-то давным-давно у них на лужайке подавали хорошенькие, разрезанные треугольничком, маленькие сэндвичи и горячий чай. Голову он вынужден держать очень прямо и почти не шевелиться – он боится, что с него слетит эта дурацкая оранжевая шляпа.
За окном начинают безмолвно кружить на ветру легкие, как пух, первые снежинки, но Джим на них даже не смотрит.
Глава 9
Пруд
Солнце уже взошло, и на фоне сияющей зари облачка с отливающими медью краями казались приклеенными к небесному своду. Тягучими каплями, словно мед, золотистый свет лился на пустошь. Шесть дней, двадцать один час и сорок пять минут минуло с того мгновения, когда произошел тот злополучный наезд. Но теперь у Байрона наконец-то имелся план.
Он решительно двинулся через сад к калитке, выходившей на луг. Мать с сестрой еще спали. Прихватив с собой необходимые инструменты и пакет «Гарибальди»[24] на тот случай, если работа пойдет тяжело, он вышел за калитку и тихонько закрыл ее на задвижку. Ночью выпала сильная роса, и крупные капли на стебельках травы выглядели как хрустальные подвески. Шлепанцы, пижама, подол махрового халата – все буквально за несколько минут промокло насквозь. Когда он на секунду остановился и оглянулся, то увидел, что следом за ним от самого дома тянется темная дорожка, оставленная его ногами в росистой траве. Отражавшийся в окнах солнечный свет пылал, точно пожар, но занавески были задернуты. Значит, мать и Люси по-прежнему спали. Было слышно, как за холмами на дворе у кого-то из фермеров лает собака.
Джеймс Лоу однажды сказал, что собака – это совсем не обязательно собака. Просто слово такое, ну, скажем, как «шляпа» или «морозилка». И вполне возможно, сказал он еще, что собака – это на самом деле шляпа.
– Но как собака может быть шляпой? – удивился Байрон и тут же представил себе отцовскую охотничью войлочную шляпу на поводке. Это его очень смутило.
– Я всего лишь хочу сказать, что «шляпа» и «собака» – только слова, которые кто-то выбрал. И если это так, есть все основания считать, что слова эти, возможно, были выбраны неправильно. К тому же, возможно, не все собаки – это настоящие собаки. Скорее всего, они сильно различаются между собой. И только потому, что всем им дали одно и то же название «собака», еще не значит, что все они на самом деле действительно являются собаками.
– Но они же все-таки не шляпы, – сказал Байрон. – И не морозилки.
– Нужно смотреть шире, а не только в рамках того, что тебе уже известно, – заявил Джеймс.
С помощью увеличительного стекла из набора по химии, карманного фонарика и серебряных щипчиков из материного маникюрного набора Байрон начал расследование. Ему удалось найти камешек в желтую полоску, паучка с большим голубым шаром, где были спрятаны будущие паучата, пучок дикого тимьяна и два белых пера, но самой важной вещи, которая была ему так нужна, он отыскать не сумел. Возможно, он просто искал не там, где нужно. Поставив ногу на нижнюю перекладину ограды, он ловко перемахнул через нее. Было немного странно оказаться на запрещенной территории после столь долгого перерыва. Он испытывал почти те же ощущения, что и в отцовском кабинете, где, как ему тогда показалось, даже у воздуха были острые режущие края. Гуси шипели и вытягивали шеи, но к нему не бежали и нападать явно не собирались. Вскоре они утратили к нему всякий интерес и принялись снова бродить по кромке воды.
Над прудом все еще виднелись остатки моста, похожие на черный блестящий позвоночник какого-то доисторического зверя. Мост тянулся от берега к маленькому островку посредине пруда. Байрону хорошо было видно и то место, где этот непрочный мост, начавшись с другой стороны островка, вдруг исчезал в воде, так и не достигнув дальнего берега. Опустившись на колени, он пополз по траве, пытаясь возобновить свое расследование с помощью фонарика и лупы, но толку не было: он никак не мог сосредоточиться. Мысли сами собой уплывали куда-то в сторону, вызывая разные воспоминания.
Идея строительства моста целиком принадлежала Джеймсу. Байрон, если честно, использовался лишь в качестве грубой физической силы. Джеймс не одну неделю носился с этой идеей, делая разнообразные чертежи. И в школе он говорил с Байроном только о строительстве моста. В тот день, когда строительство было, наконец, начато, мальчики сперва уселись рядышком на берегу, глядя на блестевшую на солнце воду и прикрывая глаза рукой: они пытались прикинуть, сколько работы им предстоит. Потом Байрон через весь луг таскал к пруду тяжелые камни и крупные ветки из ясеневой рощи на том конце луга.
– Очень хорошо, просто отлично, – приговаривал Джеймс, даже не вставая с места.
А Байрон на мелководье складывал камни один на другой, создавая опору для будущего моста, а сверху выкладывал самые толстые и прочные из принесенных ветвей. Через несколько часов над водой уже высилась некая довольно бесформенная конструкция, в которой, впрочем, угадывались очертания будущего моста.
– Может, испытаем его? – спросил Байрон.
Джеймс сверился с одним из своих чертежей и сказал:
– Сперва, пожалуй, надо проверить, способен ли он выдержать достаточно большую нагрузку. – Но Байрон возразил, что это ни к чему, подумаешь, всего-навсего мелкий пруд, и первым шагнул на мост.
Он помнил, как сердце у него ушло в пятки, когда вся эта конструкция заходила ходуном у него под ногами. Мокрые ветки были темными и скользкими, пальцам ног было не за что уцепиться. С каждым шагом он все отчетливей понимал, что непременно упадет, и чем больше он ожидал этого падения, тем оно казалось неизбежней. Ему запомнилось также, что Джеймс в эти минуты продолжал шепотом что-то высчитывать, а потом уверял Байрона, что делал это не от волнения, а просто проверяя расчеты.
Память о том дне была такой ясной, что и сейчас Байрон, казалось, видел на берегу пруда их с Джеймсом призраков. А потом вдруг началось нечто совсем неожиданное.
Чем дольше Байрон смотрел на воду, тем сильнее ему казалось, что не только отражающийся в воде мост, но и небо, точно обклеенное медными облаками, находится не над, а под поверхностью воды, в другом, подводном, мире, но тоже пронизанном солнечным светом, только преломленным и мерцающим. Мальчику, который не учится в школе «Уинстон Хаус», можно было бы, наверное, простить веру в то, что тем утром он видел два неба – одно над головой, а второе под водой. Но Байрон-то в этой школе учился. А если предположить, что и ученые могут ошибаться? Что, если они действительно что-то напутали со временем? Что, если и впрямь существуют два неба? Раньше, до того несчастного случая, Байрону казалось, что все на свете таково, каким представляется. Но теперь, глядя на этот пруд и на отраженное небо, как бы заключенное в некий светящийся круг, он вдруг подумал, что люди воспринимают вещи так, а не иначе, только потому, что им сказали, что истина такова. Значит, Джеймс прав. И эта основа не является достаточной для абсолютной веры в подобную истину.
В общем, нужно было еще столько всего обдумать, что Байрон решил пока перекусить печеньем «Гарибальди». Легкий ветерок поднимал рябь на воде, отбрасывая на траву крошечные солнечные зайчики. Заметив, что уже четверть седьмого, Байрон решительно стряхнул с махрового халата крошки и вернулся к поставленной задаче. Увеличительное стекло и фонарик, правда, никакой особой помощи ему оказать не могли, ибо солнце с каждой минутой поднималось все выше. Зато они заставляли Байрона чувствовать себя сыщиком, которому уже удалось что-то обнаружить. Впрочем, он понимал, что ни фонарик, ни лупа были бы ни к чему, если бы рядом был Джеймс.
– Господи, ты же насквозь мокрый! – воскликнула мать, когда, разбуженная звонком будильника, открыла глаза и посмотрела на Байрона. Она быстро сунула в рот свою пилюлю, запила водой и спросила: – Надеюсь, к пруду ты не подходил?
– По-моему, сегодня опять будет очень жарко, – ушел от ответа Байрон. – Скажи, мне так уж необходимо идти в школу?
Дайана притянула сына к себе и крепко обняла. А он прямо дождаться не мог той минуты, когда покажет ей то, что он обнаружил.
Она сказала:
– Очень важно получить хорошее образование. Если в твоей жизни не будет соответствующего начала, кончишь тем же, чем я.
– Но я бы и хотел быть похожим на тебя, а не кого-то другого.
– Нет, тебе это совершенно ни к чему. Такие, как я, никогда ничего не могут добиться. – Мать положила подбородок Байрону на плечо, и ему казалось, что ее голос проникает ему прямо в плоть. – И потом, твой отец хочет, чтобы у тебя было все самое лучшее. Он хочет, чтобы ты непременно добился в жизни успеха. И в этом смысле он настроен очень решительно.
В кольце материнских рук Байрон на какое-то время почувствовал себя как бы единым целым с нею, ее лицо было совсем близко от его лица. И он уже собрался показать ей свой подарок, когда она, поцеловав его в макушку, решительно отбросила одеяло и сказала:
– Сейчас налью тебе горячую ванну, солнышко. Ты же не хочешь простудиться?
Байрон так и не понял, что мать имеет в виду и почему он не должен становиться таким, как она. И почему такие, как она, «никогда ничего не могут добиться»? Она ведь наверняка даже не догадывается, что случилось с ними тогда, на Дигби-роуд. Как только мать ушла в ванную, Байрон вытащил из кармана халата листочек клевера. Листочек немного помялся и пожух, да и на самом деле никакой он был не «четверной», а самый обыкновенный «тройной», но Байрон знал: этот клеверный листочек спасет Дайану, ведь Джеймс сказал, что такой листочек приносит удачу. Байрон засунул клеверный листок поглубже под подушку – пусть лежит там и защищает мать, а ей и знать-то об этом не обязательно.
Тихонько напевая, он последовал за матерью в ванную. В холле свет из окон падал на ковер ровными квадратами, похожими на белые плиты садовой дорожки, и Байрон, перепрыгивая с одного квадрата на другой, думал о том, что сейчас мать наполняет для него ванну. Таких слов, как сегодня, он никогда раньше от нее не слышал. Иногда, правда, она говорила что-то подобное, но как-то вскользь, иногда даже роняла, что не хочет, чтобы он становился таким, как она, но так, словно это особого значения не имело, и от этого казалось, будто внутри у нее существует еще один, совсем другой, человек. Впрочем, и у отца Байрона в глубине души живет маленький мальчик, и в глубине их пруда прячется некий, совершенно иной мир.
«Зря я все-таки съел целую пачку «Гарибальди», – вдруг подумал Байрон. – Вот Джеймс никогда бы так не сделал!»
Глава 10
Посадка растений
Снег то выпадает, то снова тает, и так продолжается еще три дня. Ночью все бело. А днем только начнет таять, как снова налетит туча, пойдет мокрый снег, и земля скроется под белым покрывалом. Пелена безмолвия окутывает и как бы объединяет небо и землю, и вскоре, лишь вглядываясь в черноту ночи, Джим может заметить кружение снежных хлопьев. Небо совершенно сливается с землей.
У них в квартале под углом к бордюру стоят брошенные хозяевами машины. Из окна своего дома по-прежнему за всем наблюдает тот старик, что никогда не улыбается. А его сосед – тот, у которого во дворе злая собака, – широкой лопатой расчищает от снега дорожку, ведущую к дверям дома, хотя через несколько часов этой дорожки уже снова не будет видно. Мокрый снег липнет к голым ветвям деревьев, и кажется, будто деревья снова в цвету, пышные ветки вечнозеленых растений поникли под тяжестью снега. Иностранные студенты выбегают на улицу в дутых куртках и шерстяных шапках, в руках у них такие смешные пластмассовые штуковины, на которых можно съезжать с горки. Студенты перебираются через ограду и пытаются кататься на коньках по льду, который уже образовался на той яме, что находится в центре Луга. Стоя в сторонке, Джим наблюдает за ними – они смеются и что-то кричат друг другу, но он этих слов не понимает. Он надеется, что они там ничего не повредят. Иногда, когда никто не видит, он проверяет ящики под окнами, но и в ящиках пока никаких признаков жизни не видно.
В кафе девушки жалуются, что им нечего делать, ведь посетителей практически нет, а мистер Мид говорит, что супермаркет уже запустил рождественские скидки на продуктовые товары. Джим протирает столы, хотя за них некому садиться. Но он все равно пшикает на столешницы аэрозолем и тщательно их протирает. Когда он в сумерках возвращается домой, свежий снег мягко похрустывает у него под ногами, и пустошь спит, бледная в лунном свете. Уличные фонари и живые изгороди покрыты иголками инея.
Однажды поздно вечером Джим осторожно снимает слой снега с грядки, где притаились луковицы многолетников. Это его последний проект. Здесь никаких ритуалов не требуется. Не нужны ни клейкая лента, ни приветствия. Когда он занимается своими растениями, для него никого и ничего больше не существует – только он и земля. Он вспоминает Айлин и ее рассказ о деревце-бонсай, вспоминает, как она называла его садовником, и у него, несмотря на пронизывающий холод, становится теплей на душе. Жаль, думает он, Айлин не видит, что мне уже удалось сделать.
Еще в «Бесли Хилл» одна из медсестер заметила, что Джим чувствует себя на улице гораздо лучше, и предложила ему немного поработать в саду. Вообще-то, сказала она, очень жаль, что наш сад в таком запустении. И Джим начал потихоньку там работать, то сгребая мусор, то подрезая ветки. Стоило ему выйти в сад, и серый квадрат здания лечебницы сразу отходил куда-то далеко за спину, он забывал о зарешеченных окнах, о лимонно-желтых стенах, об отвратительных запахах жира и дезинфекции, о бесцветных лицах многочисленных пациентов. В саду Джим многому научился, наблюдая за тем, как меняются растения в зависимости от времени года, и выясняя, что необходимо каждому из них. Через несколько лет у него уже были в саду собственные клумбы и бордюры, на которых яркими пятнами светились ноготки и бархатцы, высились дельфиниумы, наперстянка и штокрозы. Кое-где он оставил островки тимьяна, шалфея, мяты и розмарина, бабочки садились на эти цветущие травы и казались диковинными цветами с пестрыми лепестками. Джим выращивал любые растения. Он вырастил даже аспарагус, не говоря уж о целых зарослях крыжовника, черной смородины и логановой ягоды[25]. Медсестры разрешили ему даже яблочные семечки там посадить, хотя «Бесли Хилл» закрыли раньше, чем он успел увидеть свои яблоньки в цвету. Иногда сестры рассказывали Джиму о своих садиках, показывали ему каталоги семян и спрашивали, что лучше выбрать. Когда его в очередной раз выпустили на свободу, один из врачей подарил ему на удачу маленький кактус в горшке. Но Джим уже через несколько месяцев вернулся обратно. Впрочем, врач сказал, что кактус он все равно может оставить себе.
Джим столько раз покидал «Бесли Хилл» и возвращался обратно, что просто потерял счет годам, прожитым в лечебнице и за ее стенами. За это время он видел так много врачей, сестер и пациентов, живших в лечебнице постоянно, что все они казались ему на одно лицо. Ему казалось, что и голоса у них одинаковые, и все они носят по очереди одно и то же пальто. Даже теперь он иногда обращает внимание на то, что кто-то из посетителей, вой дя в кафе, вдруг останавливается и начинает пристально на него смотреть, то ли потому, что откуда-то его знает, то ли потому, что он, Джим, не такой, как все. В его воспоминаниях имеются большие лакуны, порой в несколько недель, месяцев или даже лет. Джиму кажется, что вспоминать прошлое – это все равно что совершать путешествие в те места, где ты когда-то бывал, а теперь обнаружил, что там почти ничего не осталось, все унесено ветром.
Но того, самого первого, раза он забыть не может. Ему было всего шестнадцать. Он отлично помнит, как испуганно цеплялся за пассажирское кресло и отказывался выходить из машины. Помнит, как врачи и медсестры сбежали с каменного крыльца и, окружив их машину, закричали: «Спасибо, миссис Лоу. Теперь уж мы сами обо всем позаботимся». Он помнит, как отцепляли его пальцы, буквально впившиеся в край кожаного сиденья, помнит, что был уже таким большим и высоким, что санитарам пришлось силой пригнуть ему голову, вытаскивая его из машины, чтобы он не стукнулся макушкой. Он хорошо помнит сиделку, что водила его по дому и все ему там показывала, а потом отвела в спальню, где ему дали какое-то лекарство, и он потом очень долго спал. В той же комнате обитало еще пятеро мужчин, но они были такими старыми, что вполне годились ему в деды. Эти старики плакали по ночам, как дети, и звали маму, и Джим тоже плакал, только это не помогало, и мама никогда к нему не приходила.
Поработав недолго на разгрузке мусоровозов – это была первая настоящая работа Джима, – он перепробовал немало других занятий. Но ничего такого, что потребовало бы от него каких-то чрезвычайных усилий. Он косил лужайки, складывал дрова в поленницы, подметал опавшую листву, разносил рекламные листовки. Временами он снова жил в «Бесли Хилл», а в промежутках, оказавшись на свободе, снимал комнату или маленькую однокомнатную квартирку. Доводилось ему ночевать и в приютах для бездомных. Но жизнь на свободе всегда продолжалась очень недолго. Его снова лечили электрошоком от депрессии, он без конца глотал всевозможные лекарственные «коктейли», а после уколов морфина его преследовали страшные видения вроде пауков, градом сыпавшихся из электрических лампочек, или медсестер с бритвенными лезвиями вместо зубов. На четвертом десятке Джим выглядел настолько истощенным, что казалось, живот у него вот-вот провалится между сильно выступающими костями таза. Попав в отделение трудовой терапии, он научился лепить посуду из глины и рисовать, а также постиг азы резьбы по дереву и закончил курсы французского языка для начинающих. Но ничто из этого не помешало ему снова и снова срываться, как только его выпускали на свободу, иногда ему удавалось продержаться несколько месяцев, а иногда – всего несколько недель. Когда он в последний раз вернулся в «Бесли Хилл», то решил для себя, что больше никогда оттуда не уйдет. Но потом лечебницу закрыли, и все пациенты разъехались.
Снег кружевным покрывалом ложится на зеленые изгороди, на плети дикого винограда. Побелевшие ветви деревьев покачиваются, словно танцуют под звучащую в воздухе музыку, которую способны расслышать только они. Машины ползут по кромке замерзшей пустоши, и в свете их фар обледенелые склоны холмов отливают синим и блестят, как полированные.
Нет, еще слишком рано, чтобы уже появились какие-то признаки новой жизни. Холод попросту убил бы юные ростки, да и земля сейчас твердая как камень. Джим ложится на снег рядом со своими посадками и накрывает грядку руками, стараясь передать клубенькам хоть немного своего тепла. Он знает, что порой заботиться о том, что уже начинает расти где-то там, под землей, куда трудней, чем посадить что-то новое. Да и риска больше.
Глава 11
Матери и психология
– Не понимаю, – сказал Джеймс. – Почему ты считаешь, что нужно обраться в полицию?
– На всякий случай. Вдруг они не знают о тех двух секундах? – пояснил Байрон. – Вдруг ты был прав насчет заговора? Ведь могут пострадать невинные люди. Они могут оказаться в опасности. И не по своей вине.
– Но если заговор действительно существует, то полиции, скорее всего, об этом известно. Как и правительству. Нет, надо действовать по-другому. Нам нужен такой человек, которому мы можем полностью доверять.
До того несчастного случая Байрон понятия не имел, как это трудно – хранить тайну. А теперь он просто ни о чем другом и думать не мог, все его мысли крутились вокруг того, что невольно сделала его мать и что будет, если она узнает о случившемся. Он уговаривал себя не думать об этом, но для того, чтобы не думать, требовались невероятные усилия – не меньше, чем если бы он постоянно только об этом и думал. Каждый раз, начиная что-то говорить, Байрон боялся, что какие-нибудь не те слова сами собой выскользнут у него изо рта, ему приходилось постоянно следить за каждым словом, контролируя его на выходе, и это оказалось еще хуже, чем все время проверять собственные руки на предмет чистоты. Это изматывало.
– Est-ce qu’il faut parler avec quelqu’un d’autre? – спрашивал Джеймс. – Monsieur Roper peut-tre?[26]
Байрон задумчиво качал головой, вроде бы соглашаясь с Джеймсом, хотя и не совсем понимал его намерения и надеялся на дополнительные разъяснения.
– В общем, это должен быть такой человек, который все поймет, – продолжал его друг. – Может быть, votre mre? Elle est trs sympatique[27]. – Стоило Джеймсу заговорить о Дайане, как он сразу же пошел красными пятнами. – Она нас даже из-за той истории на пруду не ругала, а просто напоила горячим чаем с такими вкусными маленькими сэндвичами. И потом, она никогда не заставляет тебя подолгу сидеть снаружи, если ты, например, в грязи перепачкаешься.
Хотя насчет Дайаны Джеймс был абсолютно прав – она не кричала тогда, как Сеймур, и не поджимала губы, как Андреа, а уверяла всех, что падение Байрона в воду было чистой случайностью, – Байрон считал, что говорить ей о двух добавленных секундах все-таки не стоит.
– Как ты думаешь, человек может считаться виновным, если никто, даже он сам, не знает, что он совершил ошибку? – спросил он.
– А что, это тоже имеет какое-то отношение к двум дополнительным секундам?
Байрон сказал, что нет, это он просто так поинтересовался, и вытащил из кармана блейзера карточки из-под чая «Брук Бонд», чтобы сменить тему и несколько разрядить обстановку. У него теперь была уже вся серия «История авиации», даже самая первая карточка.
– Не понимаю, как кого-то могут счесть виновным, если никто об этом даже не знает, – сказал Джеймс, как зачарованный глядя на карточки. Он даже невольно потянулся к ним, но в руки не взял. – Ты можешь считаться виновным только в том случае, если совершил преступление сознательно. Например, кого-то убил.
Байрон сказал, что такая вещь, как убийство, ему и в голову не приходила. Он имел в виду просто несчастный случай.
– Какой, например, несчастный случай? Если кому-то руку на рабочем месте отрежет?
Иногда Байрону казалось, что Джеймс все-таки слишком много читает газет!
– Нет, – сказал он. – Когда человек нечаянно совершил то, чего делать вовсе не собирался.
– Я думаю, если ты извинишься за совершенную ошибку, – сказал Джеймс, – если покажешь, что действительно сожалеешь о случившемся, этого будет вполне достаточно. Я, например, именно так и поступаю.
– Ты же никогда ничего плохого или неправильного не делаешь, – напомнил ему Байрон.
– Я неправильно произношу звук [h], когда смущаюсь или очень устану[28]. А один раз я во что-то вляпался рядом со школой и нечаянно притащил это в машину на подошвах туфель, так что маме потом пришлось вытаскивать и мыть все коврики. Тогда я целый день в саду на стене просидел.
– Из-за того, что ботинки испачкал?
– Нет, просто она меня в дом не пускала. Когда она делает уборку, я всегда должен сидеть снаружи. Иногда мне кажется, что я ей вообще не нужен. – Сделав столь неожиданное признание, Джеймс надолго умолк, внимательно изучая собственные пальцы. Потом вдруг спросил: – А у тебя есть карточка с воздушным шаром братьев Монгольфье? Самая первая в серии и самая ценная?
Байрону, разумеется, это было прекрасно известно. Это была его самая любимая карточка. На ней был изображен голубой воздушный шар с золотыми фестонами. Такой карточки не было даже у Сэма Уоткинса. Но его друг выглядел сейчас таким маленьким, съежившимся и таким одиноким, что Байрон сунул ему в руки карточку с изображением воздушного шара и сказал, чтобы он оставил ее себе навсегда. А когда Джеймс стал возражать, говоря: «Нет-нет, ты не можешь ее отдать, ведь тогда у тебя уже не будет полной серии», – Байрон стал его щекотать, как бы говоря, мол, ничего страшного, если он даже этой карточки и лишится. Джеймс, который очень боялся щекотки, тут же согнулся пополам и даже взвизгнул от смеха, потому что Байрон выбирал самые уязвимые места – под мышками и под подбородком.
– Перестань, п-п-пожалуйста! – корчась, завывал Джеймс. – А то я заикой стану! – Когда Джеймс начинал смеяться, то сразу превращался в маленького ребенка.
В ту ночь Байрону опять не спалось. Точнее, сон приходил урывками, и тогда ему снилось такое, что он просыпался, насмерть перепуганный, запутавшись в мокрых от пота простынях. Утром, посмотревшись в зеркало в ванной, он с изумлением увидел в нем отражение очень крупного и очень бледного мальчик с такими жуткими «фонарями» под глазами, словно кто-то заехал ему кулаком сразу в оба глаза.
Мать, увидев его, просто в ужас пришла и, разумеется, сразу же велела ему остаться дом. Байрон стал было возражать, сказав, что у него сегодня важная контрольная, имеющая отношение к грядущим экзаменам на стипендию, но мать с улыбкой возразила, что один пропущенный день никакого значения для получения стипендии иметь не может. И прибавила, что тогда она с полным правом может не ходить «на этот дурацкий кофейный утренник».
Последнее заявление Дайаны встревожило Байрона. Если она нарушит традицию, другие матери могут что-то заподозрить. Он согласился пропустить один день, но про себя решил сделать так, чтобы мать непременно пошла пить кофе со всеми вместе.
– Я тоже хочу денек посидеть дома, – заныла Люси.
– Ты же совершенно здорова! – упрекнула ее мать.
– Байрон тоже ни капельки не болен, – возразила Люси. – У него даже сыпи никакой нет!
Раз в месяц матери одноклассников Байрона устраивали «кофейный утренник» в единственном крупном универмаге города. В городе, разумеется, были и другие кафе, но все они относились к заведениям нового типа и располагались в дальнем конце Хай-стрит, там подавали американские гамбургеры и молочные коктейли с разноцветными добавками. А в чайной комнате универмага, которая открывалась в одиннадцать, все было, как полагается: деревянные кресла с позолотой и синими вельветовыми подушками, официантки в аккуратных белых фартучках с кружевами, выпечку к чаю там подавали на тарелках с красивыми бумажными салфеточками, а к кофе приносили на выбор молоко и сливки, а также тоненькую мятную шоколадку в черной обертке.
В то утро на утренник собралось пятнадцать матерей.
– Какая все-таки здесь очаровательная атмосфера, – говорила Андреа Лоу, обмахиваясь меню. Ясные глаза Андреа были, казалось, вечно распахнуты от удивления, словно она то и дело видит перед собой некие, поражающие ее воображение, вещи. Диэдри Уоткинс, прибывшая на утренник последней, пристроилась на неудобном пуфике, который реквизировала из туалета, потому что все позолоченные кресла оказались заняты. Было жарко, и на лице Диэдри выступили капельки пота, так что ей приходилось время от времени промокать его салфеткой. – Не могу понять, почему мы не встречаемся здесь чаще в той же приятной компании? – продолжала Андреа. – Вы уверены, Диэдри, что вам достаточно удобно? Вы всех нас хорошо видите? Что это вы так низко устроились?
Диэдри ответила, что она устроилась просто замечательно, и попросила кого-нибудь передать ей сахар.
– Нет-нет, мне сахару не нужно! – воскликнула мать нового ученика. Ее муж имел какое-то отношение к организации распродаж, но не самое непосредственное. Она даже руки подняла, словно боялась поправиться, даже если просто прикоснется к сахарнице.
– А почему Байрон не в школе? Он болен? – спросила Андреа, кивнув в сторону Байрона, пристроившегося у дальнего конца стола.
– Нет, просто у него с утра голова разболелась, – сказала Дайана. – Ничего заразного. Никакой сыпи, даже железки не припухли.
– Ну и слава богу! – хором выдохнули матери. Да и кто, скажите, решился бы тащить в кафе ребенка с инфекционным заболеванием?
– Значит, ничего страшного? – спросила Андреа. – Надеюсь, это не последствия очередного несчастного случая?
Байрон судорожно сглотнул, а мать спокойно ответила, что больше никаких несчастных случаев не было, потому что теперь пруд обнесли изгородью. Но Андреа все же принялась со смехом рассказывать матери новичка, как прошлым летом Джеймс и Байрон пытались построить мост в поместье Кренхем и чуть не утонули. Под конец она заявила, что никаких дурных чувств к хозяевам пруда не испытывает.
– Но ведь в пруд тогда упал только Байрон, – негромко поправила ее Дайана. – И потом, там совсем мелко, мне по колено. А Джеймс все время оставался на берегу и даже ничуть не намок.