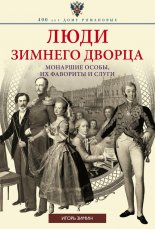Операция «Перфект» Джойс Рейчел

Зря она это сказала. Андреа Лоу принялась нервно помешивать ложечкой кофе, а потом спросила:
– Вы ведь, наверное, не хотите, чтобы Байрон и экзамен на стипендию пропустил? Я бы на вашем месте показала его какому-нибудь врачу. Мой муж знает в городе одного очень хорошего врача. Его фамилия Хауардз. Они еще в колледже вместе учились. Он просто эксперт по детям.
– Благодарю вас, Андреа, – сказала Дайана. – Я запомню. – Она потянулась за своей записной книжкой и раскрыла ее на чистой страничке.
– Вообще-то он психолог.
Это слово прозвучало, как пощечина. Байрон, не глядя, знал, что мать так и застыла с раскрытой записной книжкой в руках. Но только ему было понятно, в чем дело: Дайана не знала, как пишется слово «психолог».
– Правда, мне лично никогда его услуги не требовались… – прибавила Андреа.
«Чирк, чирк» – скребло по бумаге перо Дайаны. Она захлопнула записную книжку и небрежно сунула ее в сумочку.
– Но есть люди, которым психолог действительно необходим. У нас в городе таких полным-полно, – продолжала Андреа.
Байрон заставил себя посмотреть на нее и широко улыбнуться, ему хотелось, чтобы всем этим женщинам стало ясно, что он к числу таких людей не относится, что он абсолютно нормальный, просто голова частенько болит.
– Например, моя свекровь! – тут же вставила Диэдри. – Представляете, она пишет любовные письма этому диджею с «Радио-2»! Как там его зовут?
Андреа сказала, что понятия не имеет. Она диджеями совершенно не интересуется. Ей куда ближе Бетховен.
– Я ей все время говорю: мама, нельзя же писать ему каждый день! У нее эта штука – как она называется? – И снова матери дружно покачали головой: нет, не знаем, но на этот раз Диэдри вспомнила сама: – Шизофрения, вот! Она говорит, что он с ней по радио беседует.
– А мне нравится писать письма, – сказал Байрон. – Один раз я написал королеве. И она мне ответила. Правда, мам? Или, может, это фрейлина мне ответ написала.
Андреа долго смотрела на него изучающим взглядом, вытянув губы трубочкой, казалось, она сосет леденец от ангины. И Байрон пожалел, что упомянул о королеве, хотя в душе он очень гордился этой перепиской. Письмо, полученное от королевы, он хранил в особой жестяной коробке из-под печенья «Джейкобз» вместе с письмами из NASA и от мистера Роя Касла. Он чувствовал, что у него прямо-таки талант к написанию писем.
– Ну, вряд ли ты описывал королеве, какое у тебя нижнее белье, – со смехом сказала Диэдри, – а моя свекровь именно это и делает.
Женщины чуть не попадали с кресел от смеха, и Байрону страшно захотелось исчезнуть. У него даже уши поникли от смущения. Никакого нижнего белья у него и в мыслях не было, но теперь, после слов Диэдри, перед глазами возникла совершенно непристойная картина: все матери его одноклассников в одинаковых корсетах персикового цвета. Он прямо не знал, как отогнать от себя это видение, и вдруг почувствовал, как нежная рука Дайаны ласково сжала под столом его пальцы. Между тем Андреа продолжала вещать во весь голос: душевное расстройство – это серьезное заболевание, и таких больных необходимо срочно помещать в «Бесли Хилл», в конце концов, это самое гуманное, что можно для них сделать. Это как с гомосексуалистами, заявила Андреа. Им необходима помощь, чтобы поправиться.
После этого женщины принялись обсуждать совсем другие вещи. Рецепт куриных эскалопов. Летние Олимпийские игры. У кого до сих пор только черно-белый телевизор? Диэдри Уоткинс сказала, что каждый раз, когда она открывает крышку своего нового морозильника и наклоняется над ним, ей становится страшно: вдруг муж вздумает запихнуть ее туда головой вниз? А мать нового ученика спросила, не боится ли Андреа за своего мужа Энтони. Ведь после недавних взрывов и разгула страстей среди членов IRA профессия адвоката стала далеко не безопасной. Андреа ответила, что этих террористов, с ее точки зрения, следовало бы как следует приструнить, что все они фанатики, а ее муж, к счастью, занимается внутренними делами и преступлениями.
– Господи! – сказали женщины.
– Увы, иной раз перед ним предстают и женщины-преступницы. Иногда даже матери.
– Матери? – с недоверием переспросила Диэдри.
Сердце у Байрона свернулось, точно оладья, и рухнуло куда-то в желудок.
– Ну да, – подтвердила Андреа. – И эти матери полагают, что, раз у них есть дети, им можно безнаказанно совершать любые преступления. Но Энтони в этом отношении очень строг. Если нарушение закона имело место, кто-то должен за это ответить. Даже если преступник – женщина. Даже если она мать.
– И совершенно правильно, – сказала мать нового ученика. – Око за око.
– Иногда в суде они выкрикивают самые возмутительные оскорбления. Энтони даже не хочет при мне повторять, какие слова они произносят.
– Боже мой! – дружно пропели женщины.
Байрон просто смотреть не мог на Дайану. Он слышал, как она вместе со всеми тихонько охнула и сказала «боже мой», а потом поднесла к губам свою чашку и сделала глоток, ее розовые ноготки при этом слегка царапнули фарфоровую поверхность, а кофе еле слышно булькнул у нее в горле. Ему была совершенно очевидна ее невиновность, эта ее невиновность была прямо-таки физически ощутима, и все же при всей своей невиновности она, сама того не подозревая, совершила преступление и уже целых девять дней может считаться преступницей. Господи, до чего же ему было жаль, что все так получилось!
– Такова цена феминизма, – резюмировала Андреа. – Из-за него наша страна и летит ко всем чертям.
– Да, да, – заворковали женщины, окуная губы, точно маленькие клювы, в чашечки с кофе.
Байрон шепнул Дайане, что хорошо бы сейчас отсюда уйти, но она лишь молча покачала головой. Ее лицо было совершенно непроницаемым, глаза казались стеклянными.
– Вот что случается, – между тем продолжала Андреа, – когда женщины выходят на работу. Мы не можем стать мужчинами. Мы – женщины. И должны вести себя, как женщины. – Она особенно подчеркнула слово «женщины», сильно нажимая на слог «жен», как бы придавая этому слову дополнительное значение: жена. – Первый и основной долг замужней женщины – рожать детей. И мы не должны требовать для себя большего.
– Да, да, – загомонили женщины.
«Плюх, плюх» – это Диэдри бросила в чашку еще два куска сахара.
– Почему это не должны? – раздался вдруг чей-то тоненький голос.
– Простите? – Кофейная чашка, которую Андреа поднесла к губам, так и застыла в воздухе.
– Почему мы не должны требовать для себя большего? – снова послышался тот же тихий голосок.
Пятнадцать лиц мигом повернулись в сторону Байрона. Он покачал головой, желая сказать, что ничего не говорил и никого обидеть не хотел, и вдруг, к собственному ужасу, понял, что тихий голосок принадлежит его матери. Дайана, убрав за ухо непокорную прядь, сидела, вытянувшись в струнку, – так она обычно сидела за рулем «Ягуара», показывая мужу, что полностью сосредоточена на дороге.
– Я, например, не хочу всю жизнь сидеть дома, – продолжала она. – Мне еще очень многое хочется повидать. И когда дети подрастут, я, возможно, снова подыщу себе какую-нибудь работу.
– Вы хотите сказать, что уже когда-то работали? – спросила Андреа.
И Дайана, опустив голову, пробормотала:
– Я только хотела сказать, что это, возможно, было бы интересно.
Господи, что она делает?! Байрон смахнул с верхней губы капельки пота и поглубже забился в кресло. Больше всего ему хотелось, чтобы его мать была такой, как все. Ан нет, она заговорила о том, что хотела бы стать другой, хотя она и без того сильно выделяется среди этих женщин, она даже представить себе не может, насколько она другая. Ему хотелось встать, захлопать в ладоши или даже закричать на мать – просто чтобы отвлечь их внимание на себя.
Между тем Диэдри снова попросила передать ей сахарницу. А мать нового ученика снова демонстративно подняла руки, не желая даже прикасаться к сахарнице. Некоторые из женщин вдруг принялись сосредоточенно заправлять невидимую вылезшую нитку на рукаве кардигана.
– О, какое неожиданное заявление! – рассмеялась Андреа.
Они молча шли по Хай-стрит. Молчали оба – и Байрон, и Дайана. Солнце было похоже на какую-то слепящую дыру в небосводе, над пустошью парил канюк, готовый в любой момент камнем ринуться вниз. Воздух был такой горячий и плотный, что казалось – тебя вдавливают в землю могучим кулаком. И если в небе вдруг случайно возникало одинокое облачко, небо, казалось, успевало выпить из него всю влагу еще до того, как облачко было готово ее пролить. Интересно, думал Байрон, сколько еще простоит такая жара?
После того, что его Дайана сказала в чайной насчет возможного выхода на работу, беседа у собравшихся матерей пошла с запинками, словно все они вдруг слишком устали или разом плохо себя почувствовали. Байрон держал мать за руку и сосредоточенно смотрел под ноги, чтобы не споткнуться, попав в трещину между каменными плитами тротуара. Господи, сколько вопросов ему хотелось бы ей задать! Но она молча шла в своем лимонно-желтом платье мимо представительства партии Консерваторов, и ее пышные волосы так и сияли на солнце.
– Да они же вообще ничего не знают! – сказала вдруг она. Казалось, она смотрит строго перед собой.
– Кто не знает?
– Да эти женщины. Откуда им знать!
Байрон не вполне понимал, как ему быть со всеми этими новыми знаниями, а потому сказал:
– Когда придем домой, я, наверно, еще раз перечту письмо, которое королева прислала.
И мать ласково ему улыбнулась, словно он сказал нечто чрезвычайно умное. Ее улыбка была как нежное прикосновение.
– Прекрасная мысль, дорогой. У тебя письма всегда просто здорово получаются.
– А потом, может, попробую придумать новую медаль для «Блю Питера»[29].
– Но у них, по-моему, уже есть какая-то медаль?
– Есть. Они вручают и серебряные, и золотые медали. Но чтобы получить золотую, нужно сделать что-то выдающееся, например спасти кого-нибудь. Как ты думаешь, это реально?
Мать кивнула, но, судя по ее виду, она его уже не слушала или, по крайней мере, слушала не его. Они остановились у заднего номерного знака своей машины, и мать вдруг оглянулась через плечо и – тук-тук-тук – постучала острым носком туфли по бордюру.
– Подожди меня здесь минутку, будь умницей, – сказала она. – Мне нужно купить для уик-энда тоник и воду.
В ту ночь погода переменилась. Байрона разбудил яростный порыв ветра, настежь распахнувший окно. Занавески сразу надулись, как паруса. В небе сверкнула ветвистая молния, и в ее свете пустошь в оконной раме стала похожа на фотографию в синих тонах. Байрон лежал совершенно неподвижно и считал про себя, ожидая, когда прогремит гром. В воздухе повисли струи дождя. Капли залетали в открытое окно, и он понимал, что если не встанет и не закроет окно, то на ковре скоро будет лужа. Но он так и не встал, продолжая лежать поверх одеяла, не в силах ни уснуть, ни сдвинуться с места. Лежал и слушал шум дождя, который вовсю молотил по крыше, по деревьям, по каменным плитам террасы. Просто представить себе было невозможно, что такой дождь способен когда-нибудь кончиться.
В голове у Байрона крутились слова Андреа о женщинах-преступницах, которым не удастся уйти от наказания. Он не знал, что сделать, чтобы оградить мать от опасности. Ему казалось, что эта задача просто невыполнима для одного-единственного мальчика. Если вспомнить, как Дайана говорила про свой возможный выход на работу и как в прошлые выходные возражала, когда отец назвал их машину «она», получалось, что не только случившееся на Дигби-роуд делает Дайану отличной ото всех других матерей. В ней всегда чувствовалось нечто чистое и текучее, как родник, который невозможно удержать в закрытом сосуде. Если она узнает, что невольно совершила преступление, правда мгновенно выльется наружу, и она будет не в силах этому помешать. Байрон снова представил себе ее душу, как множество маленьких украшенных драгоценными камнями ларцов, но отчего-то – возможно из-за дождя – ему вдруг показалось, как эти ларцы по самые края заливает вода, и он громко вскрикнул.
И тут же в дверях его комнаты возник силуэт матери, казавшийся серебристым в полосе света, падавшего из гостиной.
– Что случилось, дорогой? – Он сказал, что просто испугался, и она бросилась закрывать окно. Потом поправила занавески, и они вновь повисли аккуратными синими складками.
– Тебя так легко встревожить, – улыбнулась Дайана сыну. – Хотя на самом деле жизнь никогда не бывает так плоха, как порой кажется. – И, присев на краешек его постели, она погладила Байрона по лбу и тихонько запела какую-то незнакомую песенку. Он закрыл глаза и подумал: ни за что, что бы ни случилось, нельзя рассказывать матери о происшествии на Дигби-роуд! И хуже всего, если именно она узнает об этом. Все остальные не в счет. Байрон все повторял это про себя, а ласковые пальцы матери все перебирали ему волосы, а дождь все стучал по листьям, и гром постепенно стихал, становясь ручным, и сон наконец взял над Байроном верх, управляя им, точно опытный кукловод марионеткой.
Глава 12
Еще один несчастный случай
Через пять дней после ухода Айлин из кафе Джим снова встречает ее. Снег уже начал таять. За день он постепенно сползает с ветвей деревьев, и повсюду слышится стук капели. Кое-где уже образовались проталины, и приглушенные тона земли – зеленый, коричневый, пурпурный – выглядят, пожалуй, чересчур ярко, чересчур вызывающе. Лишь холмы на пустоши по-прежнему укрыты белой шалью снегов.
Выйдя из кафе после работы, Джим идет через парковку. Улица темна. Пассажиры пригородного поезда расходятся по домам. На мокрых тротуарах оранжевые круги от уличных фонарей, у бордюра комья обледенелой грязи. Джим обходит стоянку по периметру, чтобы спокойно перейти улицу, и тут мимо него с грохотом проносится темно-бордовый «Форд»-«эскорт», к заднему стеклу которого прилеплен стикер с надписью: «А у меня есть еще и «Порше»!» Со скрежетом, испуская металлическую вонь, точно взорвавшаяся шутиха, автомобиль резко тормозит прямо на «зебре», и Джим осторожно обходит его сзади.
Нет никакой очевидной причины для того, чтобы «Форд», словно передумав, вдруг дал бы задний ход, но этот автомобиль, видно, способен на что угодно. Взревев и выплюнув очередную порцию выхлопных газов, «Форд» буквально прыгает назад и снова резко тормозит почти вплотную к Джиму, который сразу понимает, что с ним что-то случилось. Боль молнией пронзает все его тело, начинаясь где-то в большом пальце ноги и распространяясь по всей длине ноги и бедра к позвоночнику.
– Ничего себе! – громко восклицает какой-то мужчина на той стороне улицы.
Пассажирская дверца «Форда» распахивается, и вот Айлин уже рядом с Джимом. Точнее, рядом с ним ее лицо, склоненное под каким-то странным углом. Она, должно быть, успела перелезть с водительского кресла на соседнее, чтобы поскорее выскочить из машины. Ослепительно пылают торчащие во все стороны ярко-рыжие волосы Айлин. Глаза у нее округлились. Между ними лишь угол ее машины.
– Какого черта?!.. – Да, это, несомненно, она.
Джим беспомощно поднимает руки. Будь у него белый флаг, он бы и его поднял.
– Я… я… в-вы… в-в-ваша машина… – Ему много чего хочется ей сказать, но «Форд»-«эскорт» всеми своими 1105 кг веса давит ему на пальцы ноги.
Айлин смотрит на него растерянно, она явно ничего не понимает. Джим тоже смотрит на Айлин, и бог его знает почему, но перед глазами вдруг возникает совершенно неожиданный образ – гортензия древовидная, которую он как-то утром обнаружил всю в цвету, и цветы у нее были такого ярко-розового оттенка, что казались вульгарными. Джим помнит, как ему хотелось накрыть чем-нибудь цветущую гортензию, чтобы благополучно сохранить ее до весны.
Они, не шевелясь, продолжают смотреть друг на друга, и Джим все думает о той цветущей гортензии, а Айлин время от времени шепчет: «Ах ты, черт побери!» – и тут вдруг мужчина на противоположной стороне улицы начинает орать: «Стоп! Стоп! Тут наезд!»
Какое-то время значение этих слов остается для Джима непонятным, но потом в голове у него проясняется, и его охватывает паника. Нет, он никаких последствий не хочет! Все это нужно немедленно прекратить! И он кричит: «Все в порядке!» Но люди уже начали обращать на них внимание, и он машет рукой, словно Айлин мешает ему пройти, а он никак не может ее прогнать. «Уезжай! – кажется, кричит он ей. – Уезжай! Убирайся!» Он ведет себя с ней почти грубо, и Айлин, наконец, выпрямляется.
Ее пышноволосая голова исчезает в недрах автомобиля, громко хлопает дверца, и «Форд» резко берет с места, задев бордюр правым передним колесом. Затем машина скрывается за углом.
Тот человек, что поднял тревогу, бросается через улицу наперерез автомобильному потоку. Это темноволосый молодой человек в кожаной куртке, лицо у него страшно худое, прямо одни кости. Он тяжело дышит, и дыхание вырывается у него изо рта перьями тумана.
– Я записал ее номер, – говорит он Джиму. – Вы идти-то сможете?
Джим говорит, что наверняка сможет. Теперь, когда Айлин убрала заднее колесо машины с его ноги, ему вдруг стало удивительно легко. Такое ощущение, будто нога у него состоит из воздуха.
– Если хотите, я вызову полицию.
– Я…я…
– А может, лучше «Скорую помощь»?
– Н-не…
– Вот, держите. – Молодой человек вручает Джиму листок, явно вырванный из записной книжки, на котором записан номер машины и ее марка. Почерк у него совершенно детский.
Джим сворачивает бумажку и сует в карман. В голове у него полная каша, мысли разбредаются в разные стороны, тщетно пытаясь уцепиться одна за другую. На него наехали, он получил травму. Но в данный момент ему хочется одного: снять где-нибудь в укромном месте – например, в своем кемпере – ботинок и хорошенько осмотреть пальцы. И чтобы больше никто на него не наезжал, не приставал к нему и не угрожал привести толпу, потому что это-то больше всего его и пугает. Затем Джим вспоминает, что свернул листок, который дал ему молодой человек, всего один раз, а надо было два раза, а потом еще раз. В конце концов, с ним действительно произошел несчастный случай. И теперь нужно непременно совершить все необходимые ритуалы. Пусть даже здесь, на тротуаре. Но, увы, один неправильный поступок он уже совершил. И, несмотря на холод, все его тело мгновенно покрывается испариной. Джима начинает бить дрожь.
– Вы уверены, что с вами все в порядке? – снова спрашивает тот молодой человек.
Джим пытается еще разок свернуть бумажку прямо внутри кармана, но она каким-то образом зацепилась за брелок с ключами. Молодой человек смотрит, как Джим возится в кармане, и вдруг говорит:
– Похоже, вам ее машина еще и бедро задела?
Ну вот, дело сделано. Бумажка свернута дважды.
– Д-да! – говорит сам себе Джим, радуясь тому, что теперь листок в безопасности.
– Значит, все-таки задела, – говорит молодой человек. – Вот дрянь!
И хотя безопасность до некоторой степени достигнута, Джим пока еще этого не чувствует, ибо дурные мысли так и толпятся у него за спиной. Он слышит их, чувствует их присутствие. Нет, необходимо немедленно совершить и все прочие ритуалы. Безопасность может быть достигнута, только если он увидит цифры «2» и «1». Он должен их отыскать. Он должен отыскать их прямо сейчас, иначе все станет гораздо хуже.
– П-п-помогите, – шепчет он, тщетно вглядываясь в номерные знаки автомобилей, проезжающих мимо.
Молодой человек оглядывается через плечо и кричит: «Эй, помогите! На помощь!» – и многие машины замедляют ход, но ни на одной из них нужных цифр не оказывается.
Если Джим поторопится, он еще может вернуться в супермаркет. Кафе, конечно, уже закрыто, но сам магазин работает. Можно зайти в отдел личной гигиены, где продаются шампуни «2 в 1». Раньше ему это помогало. Это что-то вроде пластыря, который можно использовать как клейкую ленту в случае крайней необходимости. Но стоит Джиму повернуться в сторону супермаркета, и острая боль раскаленной иглой пронзает всю его ногу до самого позвоночника. «А что, если она всю ступню напрочь отдавила?» – думает он и изо всех сил сжимает кулаки, чтобы молодой человек не заметил, как ему больно. Но ему не везет: прямо на него кто-то налетает, и этот человек сразу все замечает и кричит:
– Господи, Джим! Что случилось? – Без сетки на волосах и без дурацкой оранжевой шляпки девушка сперва кажется Джиму незнакомой, но потом он вспоминает, что она работает у них в кафе на кухне, это та самая девушка, что назвала его умственно отсталым. У нее грива ярко-розовых волос и так много маленьких сережек, что кажется, будто ее уши обиты по краю обойными гвоздиками.
– Вы знаете этого парня? – спрашивает молодой человек.
– Мы вместе работаем. Вон там, в кафе. Он столы вытирает, а я еду готовлю.
– Его сбила машина.
– Несчастный случай? – Девушка широко раскрывает глаза.
– Эта особа даже не остановилась!
Глаза у девушки чуть не вылезают из орбит:
– Наехала и сбежала? Вы шутите!
– Этот парень утверждает, что с ним все в порядке, но, по-моему, у него шок. Ему надо в больницу. Пусть рентген сделают и все такое.
Уголки губ у девушки приподнимаются в улыбке, такое ощущение, словно она попробовала на вкус нечто необычайно вкусное, чего никак не ожидала.
– Давай, Джим, мы тебя в больницу отвезем, а? – Собственно, вовсе не обязательно так близко к нему наклоняться и так старательно, нарочито медленно, произносить каждое слово, да еще и так громко, словно он глухой или действительно умственно отсталый, однако именно так она и поступает.
Джим только головой трясет, ему хочется сказать «нет».
– Я… я…
– Я его знаю. И хорошо его понимаю. Он говорит «да».
Вот так Джим и оказывается в крошечном такси, с обеих сторон стиснутый этими молодыми людьми, которым, похоже, очень приятно болтать друг с другом. Но ему не до них: он должен немедленно увидеть цифры «2» и «1», иначе этой девушке не поздоровится. И этому молодому человеку тоже. Не поздоровится и таксисту, и всем прохожим, сгорбившимся под тяжестью своих зимних одежек. Джим старается дышать как можно глубже и полностью освободить голову от мыслей, но перед ним упорно возникают картины неизбежной гибели всего мира.
– Вы посмотрите, как его, бедолагу, трясет! – сочувственно говорит девушка. И, чуть наклонившись к молодому человеку, прибавляет: – Меня, между прочим, Пола зовут.
– Классное имя! – одобряет тот.
Больница… Там будут машины «Скорой помощи», и врачи, и повсюду раненые… Все внутри Джима сжимается от боли, когда он видит, как машина сворачивает на больничную парковку, и его тут же охватывают воспоминания.
– Родители, – говорит Пола, – назвали меня в честь той певицы… ну, той, что умерла…
Молодой человек кивает, словно уж теперь-то ему все ясно, и с улыбкой смотрит на нее.
Когда пациентов забирали «на процедуры», сестры всегда напоминали им, чтоб надели что-нибудь посвободнее. Это было нетрудно. Они все равно часто надевали вещи друг друга. «Кого там сегодня поджаривают?» – этот вопрос Джим впервые услышал от кого-то из старых пациентов. Они тогда молча шли по коридору, в котором только две двери – одна на вход, другая на выход, чтобы те, кто идет «на процедуры», не встретился с теми, кто их уже прошел.
В операционной врачи ободряюще улыбались Джиму, среди них были психиатр и анестезиолог, а также медсестры. Его попросили снять шлепанцы и сесть на кровать. Голые ступни – это обязательно, пояснила медсестра, необходимо следить за движениями пальцев у него на ногах, когда разряд достигнет цели. Джим наклонился, чтобы снять шлепанцы, но его так трясло, что он чуть не упал. Ему хотелось рассмешить врачей, хотелось, чтобы они были к нему добры и не делали ему больно, и он решил пошутить насчет величины своих «лап». И все действительно засмеялись. Похоже, настроение у врачей было просто отличное, и это еще сильней напугало Джима. Сестра поставила его шлепанцы под кровать и сказала:
– Ничего, это очень быстро. Ты, Джим, главное, расслабься и не сопротивляйся. И помни, что нужно дышать глубоко, как мы тебя учили.
Сестра взяла его за одну руку, анестезиолог – за другую. Он еще успел услышать, как ему здорово повезло, что у него такие замечательные вены, а потом последовал укол в руку, и пустота потекла в него, делая бесчувственными пальцы, плечи, голову. Откуда-то издали, из больничных палат, до него донесся женский смех, в саду пронзительно орали вороны, а потом вдруг улетели и женщины, и вороны, и все звуки утратили смысл.
Очнулся он в другой комнате. Там были и другие пациенты, и все они сидели очень тихо. Только одного человека рвало в ведро. Голова Джима разбухла и гудела, словно череп вдруг стал слишком тесен для его мозгов. На тумбочках стояли кружки с чаем и жестяные коробки с печеньем «Семейное».
– Тебе надо поесть, – сказала Джиму сиделка. – Поешь – и тебе сразу станет лучше. – И протянула ему на тарелке розовую вафельку. Запах вафли был точно оскорбление. Джим также отчетливо чувствовал запах рвоты и фиалковый аромат дешевых духов, исходивший от этой женщины. Все эти запахи были такими сильными, что ему стало еще хуже. – Смотри, все остальные едят, – с укором сказала ему сиделка.
Это была правда. Все пациенты сидели рядом с сиделками, пили чай и ели печенье, и на лбу у каждого из них виднелись две красные отметины, похожие на шрамы от старых ожогов. И никто из пациентов не произносил ни слова. Джим смотрел на все это и ужасался тому, что стал свидетелем подобного унижения людей. Потом он вдруг как-то перестал это замечать и задумался: «А может, и у меня на лбу такие же отметины?» Но к тому времени, как он вспомнил, что нужно бы это проверить и посмотреть на себя в зеркало, прошло уже как минимум несколько дней. Так все и началось. Время с той поры словно обрело еще более дискретный характер, чем прежде. Воспоминания стали похожи на горстку перьев, если их подбросить вверх и смотреть, как ветер медленно, по одному, уносит их прочь. И мгновения его жизни больше не перетекали одно в другое.
Приемный покой пункта экстренной медицинской помощи переполнен настолько, что там можно только стоять. В уик-энд всегда так, говорит Пола, ее отец раньше часто попадал сюда по субботам. В приемном покое полно людей с окровавленными лицами и заплывшими глазами, а какой-то подросток, настолько бледный, что его лицо кажется пепельным, сидит, высоко задрав подбородок, и ни на что не реагирует. («Спорим, этот парнишка под завязку накачался наркотиками», – говорит Пола.) Какая-то женщина горько плачет на плече у своей спутницы. На стульях сидят те, у кого на руках и ногах жесткие повязки и самодельные шины, у некоторых руки подвязаны косынкой. Как только в приемную врывается очередная бригада «Скорой помощи» с пациентом на носилках, все старательно отворачиваются. И только Пола пристально и даже с какой-то жадностью смотрит на окровавленного человека.
Затем она объясняет сестре в регистратуре, что Джима сбила машина. Сбила и уехала. Регистраторша отвечает, что ей нужны кое-какие данные: имя пациента, его почтовый адрес, номер телефона и также адрес его GP[30].
– Эй, Джим, отвечай! – толкает его в бок Пола, потому что все ждут, а он молчит и только трясется.
– Ваше удостоверение личности, – просит регистраторша.
Но Джим почти ничего не слышит. Даже эти простые вопросы не могут пробиться сквозь груду воспоминаний, которая вдруг навалилась на него, – некоторые из этих воспоминаний столь глубоки и ужасны, что он лишь с огромным трудом удерживается на ногах. К тому же ступня ужасно разболелась, кажется, будто ее режут пополам, и эхо мучительной боли отдается у него в висках. Нет, это чересчур! Да просто невозможно – думать одновременно о стольких вещах! И Джим, вцепившись в полочку под окошком регистраторши, еле слышно бормочет: «Привет, телефон. Привет, ручка…»
Тишину вокруг разрывает звонкий голос Полы:
– Все нормально! Он сюда не один пришел, а с нами. Может, вы мой адрес запишете? – И она говорит, что все данные Джима наверняка имелись в «Бесли Хилл». – Он там много лет провел, – объясняет она, – только он совершенно безвредный, хотя… – И тут у нее на лице появляется гримаска, свидетельствующая о том, что сейчас ее уста произнесут нечто такое, за что сама она, собственно, ответственности не несет. – Хотя он иногда и разговаривает с растениями и неодушевленными предметами.
– Присядьте, – говорит регистраторша.
Когда голубая пластмассовая скамья оказывается свободной, Джим предлагает сесть Поле, но та смеется и весело говорит:
– Нет уж, это ты у нас раненый. Это ведь тебя переехали, кажется…
Такая уж у нее манера – конец каждого предложения у нее словно повисает в воздухе. Такое ощущение, будто тебя то и дело подводят к обрыву, да там и бросают, у Джима от этого даже голова начинает кружиться. Между тем пришедший с ними молодой человек, выудив из кармана мелочь, сует ее в торговый автомат, вытаскивает оттуда какую-то жестянку, открывает клапан, дернув за колечко, и предлагает пенный напиток Джиму и Поле.
– Мне не надо, – с трудом произносит Джим. Вряд ли он способен хоть что-то проглотить. Он до сих пор нигде так и не обнаружил цифры «1» и «2».
– Ох, тут просто дышать нечем! – говорит Пола. – А все стресс! Стресс черт знает что с людьми делает. Я знаю одну женщину, которая за ночь всех волос из-за стресса лишилась.
– Не может быть! – говорит молодой человек.
– А еще у меня есть знакомая, которая съела мидию и получила инфаркт. А еще одна насмерть задохнулась, когда ей в горло попала пастилка от кашля…
Вторая медсестра окликает Джима по имени и жестом показывает, чтобы он прошел в бокс. На этой сестре белый медицинский халат, такой же, как у них у всех, и на мгновение Джиму кажется, что, может быть, это просто обман, чтобы вновь подвергнуть его той «процедуре»? Пошатнувшись, он чуть не падает, и Пола говорит возмущенно:
– Ему же каталка требуется! Как он пойдет? Безобразие какое!
Медсестра объясняет, что сейчас ни одной свободной каталки нет и вообще она полагается только после того, как больному сделают рентген. Пола берет Джима за руку. Она так крепко сжимает его руку, что ему хочется закричать, но он понимает: она очень хорошо, по-доброму к нему отнеслась, и потому кричать он ни в коем случае не должен. На медсестре резиновые туфли, которые противно скрипят на зеленом линолеуме, кажется, что к подошвам прилипло что-то наполовину живое, и она его никак до конца не раздавит. Она заглядывает в свой формуляр и жестом приказывает Джиму подойти к кушетке. Он так дрожит, что Пола и молодой человек подводят его к кушетке под руки и помогают ему лечь. Когда сестра задергивает пластиковую занавеску, отделяющую бокс от остального помещения, хромированные кольца, надетые на перекладину, пронзительно взвизгивают. Пола и молодой человек отходят к изножию, с которого беспомощно свисают ноги Джима, по-прежнему обутые в ботинки. Вид у молодых людей озабоченный, однако оба полны энтузиазма. Кожаная косуха молодого человека при каждом движении отчаянно скрипит, точно сломанный пластмассовый стул.
– Я полагаю, с ним какой-то несчастный случай произошел? – говорит медсестра. И снова спрашивает у Джима, как его зовут.
На этот раз Пола не намерена пускать события на самотек. Она сама сообщает о Джиме все, что нужно.
– А меня, кстати, Даррен зовут, – сообщает молодой человек, хотя никто его об этом не спрашивал.
– Да ну? – говорит Пола.
– Правда-правда, – говорит Даррен, но таким тоном, словно его самого это удивляет.
Сестра нетерпеливо округляет глаза:
– Может быть, вернемся к несчастному случаю? Вы в полицию сообщили?
На лице у Даррена написано благоразумие. Он неторопливо описывает, как водитель, не включив сигнал, дал задний ход, и Джим перестает прислушиваться. Он думает о том, как растерянно Айлин на него посмотрела – словно это была вовсе не она, а кто-то другой, и этот другой человек, как ему кажется, словно заперт внутри первого, большого и шумного, на самом деле являясь маленькой и хрупкой его версией, очень похожей на самую последнюю в череде этих забавных русских куколок, матрешек, которые вставляются одна в другую.
– Он не хочет никого обвинять, – говорит Пола. – Между прочим, я знала женщину, которая попала в автомобильную аварию и потеряла обе ноги. Так ей пришлось на пластмассовых протезах ходить! А по ночам она их под кровать убирала…
– Да ну? – удивляется Даррен.
А медсестра просит Джима показать свою ступню, и наконец-то воцаряется ничем не прерываемая тишина.
Только в половине одиннадцатого им, наконец, разрешают покинуть пункт экстренной помощи. Рентген показал, что перелома нет, но дежурный ординатор подозревает, что у Джима порваны связки, и в качестве превентивной меры ногу Джима до колена запаковывают в голубой гипс и дают ему с собой пузырек с болеутоляющим, а также – во временное пользование – казенные костыли.
– Мне всегда так хотелось походить на костылях… – говорит Пола Даррену.
– Ей-богу, ты и с ними смотрелась бы отлично, – тут же откликается Даррен. И оба краснеют.
А медсестра говорит, что Джиму здорово повезло, и голос ее звучит немного смущенно, когда она объясняет, что только благодаря невероятной величине его ступней и огромным размерам башмаков ущерб оказался минимальным. Она дает Джиму листовку, в которой описано, как ухаживать за гипсовой повязкой, и талон на повторное посещение врача через две недели. Когда она спрашивает, смог бы Джим узнать водителя той машины в лицо, Джим начинает так сильно заикаться, пытаясь произнести слово «н-н-нет», что она перестает его мучить и, поправив прическу, советует Поле и Даррену все-таки отвести Джима в полицию, когда у него пройдет шок. Даже если он не хочет никого преследовать в судебном порядке, говорит она, существует служба защиты жертв дорожно-транспортных происшествий, а по «телефону доверия» можно получить консультацию психолога. Теперь не то что раньше, убеждает их медсестра, когда слово «психолог» считалось чуть ли не ругательным, теперь существуют самые разные способы помочь человеку, оказавшемуся в такой ситуации.
Пола и Даррен настаивают на том, чтобы взять такси и отвезти Джима домой. Деньги у него они взять категорически отказываются. Пола рассказывает Даррену обо всех несчастных случаях, которым она была свидетельницей, включая настоящую кучу-малу из столкнувшихся на шоссе автомобилей, заодно она сообщает, что одной ее приятельнице сожгли ухо щипцами для завивки волос. Джим настолько устал, что не в силах думать ни о чем, кроме сна. Он прямо-таки мечтает поскорее добраться до своей складной кровати, он словно видит ее перед собой вместе с одеялами и подушкой, словно слышит скрип ее пружин.
Возле дорожного знака, приветствующего осторожных водителей и поставленного напротив Луга и горок для любителей роликов и скейтборда, Джим просит его высадить.
– А где же твой кемпер? – спрашивает Пола, вглядываясь в ряды тесно стоящих домов. Вся Кренхем-вилледж, кажется, безостановочно мигает разноцветными рождественскими огоньками, вызывающими мимолетную резь в глазах и боль в висках. Джим указывает на тупичок и говорит, что живет там, в самом конце, где дорога кончается и начинается пустошь. Видно, как за его домиком на колесах дрожат и раскачиваются под сильным ветром черные ветви деревьев.
– Мы могли бы тебя проводить, – говорит Пола. – Могли бы хоть чайник тебе поставить.
– Тебе ведь, наверно, помощь понадобится, – подхватывает Даррен.
Но Джим благодарит их, отклоняя все их великодушные предложения. Никто никогда не бывал внутри его жилища. Это самая сокровенная часть его самого – та, которую никто не должен видеть. При этой мысли он испытывает острую боль, точно между ним и остальным миром возникла очередная, свежая, преграда.
– Ты уверен, что сам справишься? – не отстает Даррен.
Джим кивает, потому что не может заставить свои губы повиноваться. Он машет водителю такси, всем своим видом показывая, что у него все в порядке и он всем доволен.
За микрорайоном расстилается пустошь, темная, бескрайняя. Бесчисленные слои земли и травы стали со временем фундаментом для камней. Убывающая луна висит над пустошью и домами, и тысячи миллионов звезд посылают тонкие лучики своего света сквозь годы. Стоит земле сейчас потянуться, раскрыть свои объятья и поглотить эти дома, дороги, уличные столбы и огни, и даже памяти о людях не останется. Останется только эта тьма, спящие холмы и древнее небо.
Такси разворачивается и едет назад мимо Луга, в темноте видны его задние красные огоньки. Потом автомобиль заворачивает за угол и мгновенно исчезает. Джим остается один. Он стоит и смотрит в раскинувшуюся перед ним ночную тьму.
Глава 13
Ошибка
Тайна выплыла наружу исключительно по ошибке. Собственно, тайна сама себя выдала, вырвалась на волю, как собака, которая без разрешения забегает в чужой сад, а ты даже перехватить ее не успеваешь. Вот только никакой собаки у них, разумеется, не было, потому что у отца была аллергия на шерсть домашних животных, и он сразу начинал чихать.
Мать заглянула к Байрону перед сном, чтобы еще раз измерить ему температуру. Люси уже спала, и Байрон уже давно ждал, когда мать к нему зайдет, но тут позвонил отец. Байрону не было слышно, что мать ему говорит, – она говорила очень тихо и медленно и ни разу не засмеялась своим переливчатым смехом, – а когда она вошла к нему в комнату, то сперва минутку постояла, опустив голову, словно никак не могла понять, где же она оказалась, похоже, она даже самого Байрона не сразу заметила. Вот тогда он и решил сказать, что у него болит живот, – это было примерно то же самое, что напомнить Дайане, что он ее сын.
Внимательно посмотрев на столбик ртути в термометре, она вздохнула и сказала, что не может понять, в чем дело.
– Вроде бы никаких определенных симптомов у тебя нет… – задумчиво сказала она.
– Да я отлично себя чувствовал, пока не случилось это! – Слова сами слетели у него с языка. Байрон только потом понял, что именно только что сказал, от ужаса он даже руку к губам прижал, и мать, разумеется, тут же спросила:
– Что ты имеешь в виду? – Она тщательно протерла термометр кусочком ткани и вложила его в изящный серебряный футляр. – Ты сказал, что отлично себя чувствовал, пока что-то не случилось. Что же именно? – Склонив голову набок, она ждала ответа.
Но Байрон молчал, изучая ногти на руках. Он надеялся, что, если и дальше будет молчать, если сделает вид, будто его тут и нет, разговор затихнет сам собой. Возможно, мать просто утратит интерес к данной теме и заговорит о чем-то другом, и тогда ему удастся воспользоваться совсем другими словами.
– Да так, ничего, – пробормотал он. Но перед глазами у него снова встала та же картина: валяющийся на обочине красный велосипед и девочка под ним.
Мать наклонилась и поцеловала его в лоб. От нее чудесно пахло цветами, и ее мягкие волосы так приятно щекотали Байрону лоб, что он не выдержал.
– Ей вообще не следовало выезжать на дорогу! – выпалил он. Эта фраза тоже слетела с языка сама собой и с такой скоростью, что казалась горячей и влажной на ощупь.
Мать рассмеялась:
– О чем это ты?
– Ты в этом совершенно не виновата!
– Не виновата? В чем это я не виновата? – И она снова засмеялась. Во всяком случае, усмехнулась.
– Ты ничего плохого не сделала! Ты же просто не заметила! Там стоял такой туман! А тут еще эти две лишние секунды… Тебя совершенно не в чем винить!
– Не в чем винить? Но за что?
– За ту девочку. Маленькую такую, с Дигби-роуд.
Мать наморщила лоб, пытаясь вспомнить:
– Какую девочку? Не понимаю, о ком ты говоришь.
Байрону показалось, что твердая земля под ним расступилась, исчезла, и он снова идет по хлипкому мосту из веток и камней, а темная вода так и вскипает у него под ногами. И он стал продолжать этот разговор только потому, что чувствовал: никакой возможности вернуться назад уже нет. Терзая уголок простыни, он описал матери все, что видел в то утро: как девочка вылетела из распахнутой калитки на красном велосипеде, как потом, когда они с ней столкнулись и машина остановилась, он снова увидел ее под своим окошком, и она лежала на обочине и не двигалась. Оказалось, что в распоряжении у него крайне малый запас слов, и ему приходилось все время повторять одно и то же: Дигби-роуд, туман, две лишних секунды, ты не виновата. Затем, поскольку мать ничего не говорила и лишь слушала его, прижав пальцы к губам, он сказал:
– А потом я попросил тебя поскорей ехать дальше, потому что не хотел, чтобы ты испугалась.
– Нет, – вдруг сказала она. Это было сказано негромко, и это был совсем не тот ответ, которого ожидал Байрон. – Нет. Это не может быть правдой.
– Но я же сам все видел! Я видел, как все случилось!
– Случилось? Да ничего там не случилось! – Голос матери звучал все громче. – И ни на какую девочку я не наезжала. Я очень осторожно вожу машину. Я вообще очень осторожная. И машину я вожу в точности так, как меня учил твой отец. Если бы там действительно была какая-то девочка, я бы это заметила. Я бы ее увидела. Я бы остановила машину. – Говоря это, она все время смотрела в пол. Казалось, будто она читает эти слова в рисунке ковра. – Я бы непременно вышла из машины!
У Байрона закружилась голова. Он старался дышать как можно чаще, но вдохи получались поверхностные и больше напоминали всхлипы, от которых болезненно содрогались горло и грудь. Господи, он столько раз обдумывал этот разговор! Точнее, обдумывал то, как сделать, чтобы этого разговора никогда не было, и вот сейчас наконец этот разговор начат, но все отчего-то сразу пошло наперекосяк. Это было просто невыносимо! Невыносимо трудно было выложить матери всю правду и обнаружить, что она ничего этого и слышать не желает! Байрону хотелось упасть на пол и ни о чем больше не думать. И ничего больше не чувствовать.
– Что с тобой? – услышал он ласковый голос матери. – Что происходит, солнышко?
Но ему больше нечего было ей сказать – все слова уже были истрачены, и тут комната вдруг стала быстро-быстро вращаться вокруг собственной оси, стены куда-то уплывали, пол опасно кренился под ногами, и Байрон сказал:
– Извини. Меня, кажется, сейчас вырвет.
Но его не вырвало. Хотя он, низко склонившись над унитазом и вцепившись в его края, изо всех сил напрягал мышцы живота и шеи. Тело его содрогалось в конвульсиях, но рвоты он так и не вызвал. Когда мать постучала в дверь и спросила, можно ли ей войти и не принести ли ему чего-нибудь, он смог ответить, что ничего не нужно и с ним все в порядке. Он все никак не мог понять, почему она ему не поверила. Затем он включил воду, а сам сел на пол и стал ждать, когда мать уйдет. Наконец в коридоре, потом и на лестнице послышался стук ее каблучков – какой-то странно замедленный, словно она никуда не спешила, а просто плыла по воздуху в глубокой задумчивости, – и Байрон отпер дверь туалета и побыстрее вернулся к себе.
В тот вечер ему особенно не хватало Джеймса. И дело даже не в том, что ему хотелось рассказать другу нечто особенное, просто он постоянно думал о Джеймсе и о том, как они тогда строили мост на пруду. Если бы Джеймс знал про тот несчастный случай, он бы наверняка придумал какой-нибудь выход, ведь тогда-то он сразу догадался насчет силы притяжения и малой грузоподъемности моста.
Байрон хорошо помнил свои ощущения, когда свалился с этого моста в пруд, но лучше всего он помнил краткий миг перед тем, как, потеряв равновесие, шлепнулся в холодную воду. Он испытал тогда настоящий шок. А потом ноги у него сразу засосало в толстый слой придонного ила, и хотя он знал, что пруд мелкий, все равно страшно испугался, что утонет, и стал бить по воде руками. Ноги засасывало все сильней, вода заливалась в уши, в рот, в нос. «Миссис Хеммингс! Миссис Хеммингс!» – кричал на берегу Джеймс. Сам он, похоже, оказался не в состоянии что-либо сделать. Только метался по берегу и хлопал руками, точно наседка крыльями. Наконец Байрон увидел, что к нему на помощь бежит мать. Она бежала так быстро, раскинув руки, что казалось, вот-вот споткнется и упадет. Она с разбегу влетела в воду, даже не сняв туфли, и тут же его вытащила. А потом повела мальчиков в дом, обнимая обоих за плечи, и, хотя Джеймс-то был совершенно сухой, закутала обоих в махровые полотенца. «Это я виноват, я!» – все повторял Джеймс, и тогда Дайана остановилась, взяла его за плечи и сказала, что ни в чем он не виноват, а наоборот – это он спас Байрона и может этим гордиться. Когда они пришли домой, она первым делом приготовила им крепкий сладкий чай с сэндвичами и все это принесла на лужайку, на солнышко, и Джеймс сказал, стуча зубами: «Какая же у тебя добрая мама! Какая же она добрая!»
Накрывшись простыней, Байрон развернул схему, которую нарисовал у отца в кабинете, и, светя себе фонариком, принялся ее изучать. Ведя пальцем по нарисованным им стрелкам, он добрался до красной отметины – того места, где «Ягуар» внезапно затормозил и остановился, – и сердце у него снова тревожно забилось. Он понимал, что совершенно прав насчет случившегося. В конце концов, он же видел все собственными глазами. Снизу, из кухни, доносилось хлопанье дверцы холодильника – это мать то открывала его, то закрывала, потом послышался знакомый звон кубиков льда, которые она вытряхнула из формы на сушилку, а чуть позже – звуки музыки. На этот раз мать поставила на проигрыватель такую печальную пластинку, что Байрон подумал: уж не плачет ли она? Он снова вспомнил ту девочку с Дигби-роуд, пытаясь понять, как же такая беда могла случиться с его матерью? Больше всего ему хотелось спуститься вниз и подойти к ней, но он не мог даже пошевелиться. Байрон говорил себе: «Еще минутку, и я встану и спущусь вниз», но проходила одна «минутка», потом еще и еще, а он по-прежнему лежал, затаившись, в своей постели. Рассказав Дайане о том, что она натворила, он чувствовал, что и сам стал соучастником преступления, что и он сам виноват в злополучном столкновении с велосипедом. Если бы он сумел промолчать, может быть, всей этой истории удалось бы как-то раствориться в глубинах времени, перейти в категорию небытия. Возможно, она так и осталась бы не совсем реальной.
Позже, когда Дайана тихонько приоткрыла дверь, впустив яркий луч света, от которого у Байрона сразу заболела голова, и шепотом спросила: «Байрон, ты что, до сих пор не спишь?» – он затаился, крепко зажмурившись, стараясь не шевелиться и дышать глубоко, как спящий. Он слышал, как мать, мягко ступая, прошуршала по ковру, вдохнул ее чудесный запах, потом дверь снова приоткрылась, мигнул свет, и в комнате стало темно.