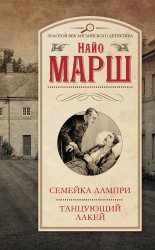Город Зга Зенкин Владимир

Итак, к делу. Я удобно сел на мягкую траву, прислонясь спиной к нагретому за день бетону, вытянул перед собой ноги. Мысли были спокойны, ясны, ни малейшего признака страха, сомненья, досады. «Я всё делаю правильно. Так надо. Всё будет хорошо. С нами. Со всеми. Со всеми людьми. А значит — со мной. Я же не исчезну бесследно. Я кем-то буду. Где-то буду. Поглядим… Ну — с Богом!»
Я сфокусировал внутренний взор на своей грудной клетке, на сердце. Оно работало ровно, сильно. Ни о чём не подозревая. Я начал мысленно обматывать его некой тонкой, но прочной паутиной — быстрее, быстрее — виток за витком — слой за слоем…
Сердце почувствовало несвободу, возмущенно встрепенулось, пытаясь сбросить путы — тщетно… виток за витком, слой за слоем — с насекомым бесстрастием… Уже у меня никаких мыслей, никаких целей-забот, ничего, кроме этого диковинного занятия… ничего… Я — паук, оно — муха. Что там вокруг, вне нас — какая разница… живы мы, мертвы мы — не всё ли равно… виток за витком…
Сердце билось всё слабее, всё реже. В глазах моих медленно плыли отцвеченные рубином, фиолетом, сиреневой отломки тьмы: бессмысленно красивые айсберги. Они надвигались на меня — тяжело-невесомо… обещали… нет, не раздавить, меня уже нельзя раздавить: принять в себя, растворить в себе, сделать такой же гордой парящей глыбой. Эта перспектива была ни радостна — ни печальна, ни ужасна — ни замечательна…
Сердце… едва ощутимые бессильные удары. Почти всё — уже сброшена назойливая суета осознанья внешнего мира. Осталось сбросить последний остаток сует — осознанье себя. Что там, с той стороны? спокойное нечто… ничто… Благо…
Нечто пришло, не с той стороны, а с этой. Глыбы чёрного льда стали разбрасываться прочь, стали бесшумно раскалываться, пропадать. Пространство меж ними осветилось жёлто-зелёным. Потом свеченье тоже пропало. Перед глазами моими возникла прежняя земная ночь, пустырь, трава… Я сижу, прислонившись спиной к бетонным блокам, глубоко, часто дышу.
Сердце!.. сердце бьётся неровно-перебойно, но свободно — оно только что выдралось из липкой паутинной погибели.
Кто? как? почему? Я поднимаю голову вверх — вверху что-то не так. Вверху на звёздно тёмном — клочья белесой пены… летят высоко, беспорядочно… мимо меня. Клочья на лету свёртываются, усыхают. От кого спасается конгломерат? Кто его так отделал?
Я встал, преодолевая головокружение, нетвёрдо держась на ногах, обошёл бетонные блоки.
Я увидел одинокие фигуры Велы с Лёнчиком, стоящие посреди пустыря. Даже в темноте, даже издали была видна их растерянность. Они озирались вокруг в поисках меня. Они смотрели вверх на покидающие поле боя останки конгломерата. По-видимому, они тоже ничего не понимали в происходящем. Жёлтой линзы — защитницы нигде не было. «Неужели!? Пенёк, Вилен… в этом сраженьи…»
— Не вибрируй. Остынь. Камикадзе хренов, — возник во мне бесцеремонный голос, — Всё в порядке. Но не твоя в том заслуга. И не наша. Не нужна вам больше защита. Идите себе.
Я потёр ладонями виски, лоб. Мысли путались, в ушах звенело.
— К-куда? — нелепо спросил я.
— Совсем очумел! — возмутился Пенёк, — Ну-ка посмотри-ка вон там, вон — видишь? Даже ориентир поставили. Это для особо тупых спасителей человечества. Идите. Времени на глупости вам уже не осталось.
Я направился к Веле с Лёнчиком. Издали их окликнул, помахал им рукой. А сам не сводил глаз с оранжевой точки… Яркой булавочной головки, пришпиленной к бархатной черноте дальних зарослей. Я шагал широко и твёрдо, и мысли мои быстро пришли в порядок.
Я знал, кто там. Кто только что побывал здесь. Кажется, всё обошлось, слава Богу. Всё? Если бы всё! Если бы не свербящее чувство неловкости… потери… вины…
Глава двенадцатая
— Ты полагаешь, без нас этого бы не случилось?
— Возможно, случилось бы — когда нибудь. А возможно, и нет.
Роджер Желязны
Костёр горел ровно и аккуратно. От булавочной головки издалека он превращался в оранжевую прореху на драпировочном тёмном фоне с контурами деревьев, кустов, с лоскутом безлунного неба в звёздной пыли.
Мы подходили ближе — и костёр и всё вокруг наполнялось пространством, реальностью.
У костра спиной к нам сидел человек и подкладывал в огонь сухие ветки. Пламя стало взбудораживаться, сминаться и вновь взмывать вверх, выбрасывая стайки нервных искр. Человек слегка отодвинулся от огня, старчески закашлялся, видимо, дохнув дыма.
Волнительный терпкий комок подкатил у меня к горлу. Мы переглянулись с Велой. У неё влажно блестели глаза. Она испытывала те же чувства.
— Здравствуйте, Мик Григорьич! — глухо произнёс я, — Мы… рады вас видеть.
— Проходите, садитесь, — буднично сказал человек, не оборачиваясь, — Обретённое, да пребудет с вами! Я тоже вам рад.
В зыбком свете костра мы увидели наконец лицо Мика Григорьича. Ничуть не изменилось оно за двадцать лет. Ни единой чёрточкой. Как будто мы расстались вчера. Его пронзительные тёмные глаза вдруг развеселились от наших мыслей.
— А вы, небось, уже определили меня в древние старцы? Разочарованы?
— Что вы, Мик Григорьич! — засмеялся я, — Инерция мышления. Двадцать лет, всё-таки.
— Для кого — двадцать лет. А для кого… Вы же понимаете, ребята. Я — такой, каким вы меня знаете.
— Да, Мик Григорьич, — безмятежно улыбнулась Вела, — Мы не просто знаем вас. Мы вас любим. Мы очень вас ждали, Мик Григорьич. А вы?
— А я? — посерьёзнел, даже погрустнел Разметчик, — Я… Конечно. Насчёт «любим»… Мда, запутано всё. Даже для меня. Вы дети уже совсем взрослые. Вы не удивитесь, не испугаетесь, не огорчитесь, если я напомню вам, что меня в данном облике не существует же вовсе. Нету. Не было никогда. Что сейчас я возник во плоти за одну микросекунду до того, как вы меня увидели.
— Огорчимся, Мик Григорьич, — чуть обиженно сказала Вела, — Ещё как огорчимся. Вы всё-таки разрешите нам вам не поверить. Позвольте нам вас и дальше… любить.
— Упрямцы, — вздохнул Разметчик, — Осложняете всё. Ну что ж теперь…
— Мик Григорьич… — начал я.
— Да, вы пришли наконец. Вы намерены во всём разобраться. Попробуем во всём разобраться.
— Мик Григорьич! — с горечью воскликнула Вела, — Вы же знаете наш путь!
— Конечно.
— Почему вы не вмешались раньше? Не помогли уцелеть Пеньку. Почему погибло столько людей?
— И ещё дальше, Мик Григорьич, — добавил я, — Почему произошло то, что произошло? Этот взрыв, эта зона, эта Кайма… Все эти сумасшествия… Неужели нельзя было ничего предпринять? Миссия морформа провалилась, да?
Мик Григорьич досадливо крякнул.
— Ах ты, чёрт!.. Прошу прощенья, друзья мои. За негостеприимство. Вы же с дороги, голодные, уставшие. А я к вам с разбирательствами. Вас же накормить надо. Деликатесов не обещаю, но печёной картошкой угощу.
Он взял палку и начал разгребать стороннюю про-горевшую часть костра, выкатил из золы на траву с десяток чёрных картофелин.
— Для вас. По случаю. Не стесняйтесь.
Какие уж там стеснения. Мы разламывали жёсткие картофельные мундиры, наслажденно вгрызались в горячую рассыпчатую мякоть. Ничего вкусней не существовало на свете.
За несколько минут с картошкой было покончено. Мы запили её водой из фляги. Насытиться мы, разумеется, не насытились, но с утолением острого голода к нам пришёл смутный покой, расслабленность. Ведь рядом сидел человек, который всё обо всём знает лучше нас. Который всё объяснит. Который найдёт выход.
— Ну, как лесной ужин? — довольно усмехнулся Мик Григорьич.
— Объеденье, — сказал Лёнчик. Маловато только.
— А что, эта картошка и этот костёр тоже не настоящие? — поинтересовалась Вела, — Тоже за одну микросекунду?
— Отчего же? Всё натуральное, качественное. Имевшее, так сказать, место быть. Где-то когда-то. Мало ли бывало в здешних местах костров и печёных картошек? Вот один позаимствовал ради вас сюда. Для украшения нашей встречи. Полагаю, прежние хозяева костра не чересчур обиделись.
Невозможно было понять, шутит он или говорит серьёзно.
— Вопросы же ваши, друзья, — продолжал Разметчик, — для меня странны. Они вызваны усталостью и душевной болью, пустым желудком и раздёрганными нервами. Они взяты оттуда, из вашего внезгинского прошлого. С той поры вы обязаны были повзрослеть.
— Не оправдали мы ваших ожиданий, да? — сумрачно спросил я.
Непостижимый взгляд Мика Григорьича: взгляд с изменчивой до бесконечности глубиной и мощью, который в секунду мог весь психосклад человека отсветить, взорвать, размести, сложить по новому, начинить новым внезапным смыслом — этот взгляд вдруг заперся в себе, отсёк свои глубины, задёрнулся плёнкой вежливой скуки. Я понял, что Мик Григорьич рассердился, разумеется, из-за моих глупых слов. Я попытался исправить ошибку: клин — клином, глупость — ещё большей глупостью.
— Наверное, мы не самые лучшие ваши ученики. Раз мы не смогли понять ещё двадцать лет назад, где наше место. Может быть, тогда в Зге всё было бы по-другому. У нас был выбор, и мы выбрали самый примитивный путь. Самый дешёвый. И самый непригодный для нас.
— Мы всё эти годы жили ожиданием, — добавила Вела, — Чего ждали? Надо было действовать. Из-за нашего бездействия всё и произошло.
Видимо, эти наши разглагольствования были настолько ахинейны, что даже сердиться на них всерьёз было нельзя. Разметчик усмехнулся, в удивленьи покачал головой.
— Что вы молчите, Мик Григорьич, — обиженно пробормотал я, — Хоть поругайте нас. Может, легче станет.
Разметчик снял с себя свою серую куртку, протянул Веле. Куртка предназначалась Лёнчику, которого сморил сон. Вела достала из сумки маленький шерстяной плед, раскатала его на траве, уложила Лёнчика, накрыла сверху курткой.
— Часик поспит, — рассудил Мик Григорьич, — И будет, как огурчик. Он у тебя молодец.
— Да, — гордо сказала Вела.
— Так вот, насчёт выбора. Выбор действительно был у многих згинцев. Был и у сподобных. Уехать или остаться. Почти все уехали. И, как оказалось, правильно сделали.
— Правильно!? — изумился я.
— Но вы, уважаемые, не обольщайтесь. Для самобичеванья у вас нет повода. Как бы вам не нравилось это занятие. У вас выбора не было. Ни малейшего.
— То есть? — не поняла Вела.
— А то и есть. Вы уехали из Зги, потому что я вас отправил оттуда. И сопротивляться этому, друзья мои, вы никак не могли, уж извините.
— Вы? Отправили? Почему? — опешил я.
— Именно потому, что вы — лучшие. Вы. Трое. Сподобнейшие. Я не хотел, чтобы вы попали в… коллапс так кто-то это назвал, хотя это неточное названье — в пик антиморформа, в эту вакханалию и превратились в какой-нибудь энергоидиотизм, наподобие ваше-го знакомца «господина Дафта» с его милым «конгломератом». Вы должны были сохранить свою, так сказать, боеспособность. Вы её сохранили. И проявили в деле.
— Боже мой! — сокрушилась Вела, — То, что мы сделали… Это ужасно! Это бессмысленно.
— Минуточку, — подозрительно нахмурился я, — Всё, что происходило, произошло. Всё это не было случайным? Вы знали? Неужели не могло… по другому?!
— Могло. И сможет. И будет. Не с вами. Не со мной.
— Да? И не на Земле, конечно, — склочно продолжил я, — И не с земным человечеством…
— С земным, отчего же. Когда-нибудь ещё.
— Когда-нибудь? Годков эдак через десяток тысяч, да? К тому времени от земного человечества, может быть, и помина не останется.
— Не капризничайте, — миролюбиво усмехнулся Мик Григорьич, — Вы всё прекрасно поняли. Не хотите сделать последний шаг. Признаться себе.
— Не хотим, — с болью прошептала Вела, — Конечно, не хотим. А Вы? Хотите? Вам, Мик Григорьич… Вам, человеку, згинцу, какого мы знаем и любим, что бы вы не говорили о себе, о своём истинном происхождении… Вам легко признаться? Согласиться с этим. С неизбежностью этого.
— Неизбежность? Что ж… Неизбежность и есть. Суровая правда. И мне — человеческое не чуждо. И я опечален. Но не удивлён.
— И теперь что же, Мик Григорьич? — в волненьи спросил я, — Дальше что? Когда мы признаем, что миссия морформа на Земле потерпела крах, по нашей, по человеческой вине. И что иначе и быть не могло. И что это приговор на века…
— Друзья мои, не надо сгущать краски.
— Куда уж гуще, Мик Григорьич!
— А кто, вообще, вам сказал, что морформ — это быстрое и весёлое приключение? Да, есть закономерности развития цивилизаций. Да, ваша теперешняя цивилизация в сущностном постоянстве пребывает уже почти два десятка тысячелетий. Да, вам подходит срок. Вы действительно в принципе уже в состоянии рекомбинировать свои энергоинформное и физиологическое начала. Как это произойдёт — можно спрогнозировать, но в точности предсказать невозможно. Да, морформ. Для его простиженья и созданы посты размета. Зга. Именно. Тихий провинциальный городишко. Одно из предсподобий морформа. Вы. Первые искры.
— «Из искры возгорится пламя», — неуклюже пошутил я, — Ан — не возгорелось. Солома оказалась сырой. Да? И гнилой.
— Мик Григорьич, — прошептала Вела, — Всё-таки, что должно было с нами произойти? Если бы не… Какими мы могли бы стать? И ещё… Вы. Главная для нас загадка. Разметчик. Управитель морформа… если можно так сказать.
— Мо-ожно! — засмеялся Мик Григорьич, — Ещё хлеще — генеральный директор морформа. Нет. Верховный главнокомандующий. Можно сказать что угодно. Но это будет глупость. А ты умная девочка. Я знаю тебя такой, — Разметчик шутливо, но ласково, с удовольствием погладил Велу по голове, по спутанным волосам, отчего она ещё больше смутилась.
— И всё-таки… всё-таки… Нам почти ничего неизвестно. Одна интуиция, предположения, фантазии… Слишком странно, разрозненно всё. Не складывается воедино. Вы — Мик Григорьич. Человек? Я не могу воспринять вас иначе, иным. А вы иной. Вы — оттуда. Что там? Какая связь между нами и вами? Какими мы станем?.. когда-нибудь.
— Молодец! — одобрительно улыбнулся Разметчик, — Это серьезные вопросы. Вы имеете на них право. В основном ваша интуиция вас не обманывает. Но вы хотите всё знать досконально.
— Хотим, — подтвердил я.
— Вот-вот. Эта ваша повальная «досканализация». Склонность к частому анализу явлений, нежели к их синтезу. Копание в разрозненных мелочах, не видя, не представляя целого. Свойство ортодоксно-интеллектных цивилизаций. Один из тормозов вашего развития. Впрочем, это я так, в общем. К данному случаю это, вероятно, не относится.
— Так что, Мик Григорьич? — не унимался я.
— Ну-ка давай-ка сперва дровишек подсобираем. А то останемся без огня.
Мы с Миком Григорьичем поднялись, обошли окрестные кущи, наломали в темноте сухих веток, сложили их рядом с костром. Пламя костра оживилось, заиграло, запотрескивало, пережёвывая, свежую пищу.
Мы втроём молча сидели и смотрели на набирающий силы огонь. Лёнчик тихонько посапывал во сне. Над костром, за костром качался прохладный свод ночной темноты с абрисными слабейшими отпечатьями в ней тёмных деревьев-кустов, за ними, за колдобинными пустырями простирались улицы-окоулки, перекрёстки-тупички нашего города. Удивительно — город вдали существовал не в моём рассудочном понятьи, не в воображеньи, питаемом достоверной памятью. Я действительно видел его сквозь ночь каким-то необычайным ультразрением и, пожелай я напрячь — сфокусировать его, я бы разглядел на улицах Зги, именно то, что находилось там, происходило там в данную минуту.
Но мои ощущения, разброшенные по Зге, оттягивались назад, возвращались к костру. Существо огня было самым главным в ночном мире, главней Зги, главней нас. Оно было совершенно и недоступно и жило своей совершенной жизнью. Мы любовались лохматым благодушным зверюгой-костром и ждали, что скажет Мик Григорьич. Торопить Мика Григорьича было нельзя, бесполезно, опасно. Он всё знает сам, помнит сам, решит сам.
Мы терпеливо ждали, глядя на огонь. Потом — странно — перестали ждать, даже забыли о Мике Григорьиче, о Разметчике. Нас втянул в себя пылающий оранжевый хищник — хитрец-искуситель. Лишь самым краешком слуха, кромкой сознанья я успел уловить уже непонятно чьи слова.
— Ну что ж. Разве, что на чуть-чуть… Одним глазком. Нарушение граданта. Беру грех…
Нам нельзя было понимать эти слова, и мы их быстренько аккуратно забыли.
Нас словно окатил резкий, яркий оранж, прохлынул волной, шквалом сквозь нас, не причинив ни боли, ни страха. Но пространство чувств наших уже сделалось слегка иным: поначалу я не понял в чём оно отличилось от прежнего… Ага, вот в чём — иной глубинный тонар, отсвет. Отсвет лёгкой тоски-томленья, счастливой грусти, охотной жертвенности… Нечто подобное охватывает человека перед гениальной картиной, статуей, под впечатленьем прекрасной музыки, танца, стихов… Это состояние быстро развивалось, оттачивало себя; на время оно стало основным и единственным, погасив весь расхрист прежних чувств. А затем из него, как из звонкого облака, стали выслаиваться какие-то совершенно причудные импульсы-мотивы, побужденья, не подвластные ни логическому анализу, ни интуитивному приятью-неприятью. Я делался не тем, кем был, кем считал себя — ни в каких-то частностях, формах-деталях — нет, в основе своей; моё «я» просто растворялось и замещалось кем-то, имеющим ко мне очень отдалённое отношение.
Я забеспокоился, даже запаниковал — что же это?.. совсем прекращается моё благополучное существование? Плоха ли, хороша ли моя личность, она близка, дорога мне, а теперь… эй! куда? что со мной? зачем? Постепенно вся феерия звонно-цветных волн, воплесков, вихрей, наплывов замедлилась, упорядочилась, сложилась в нечто, в какой-то новый простор, в обиталище моей новой сути-души. Да, новой — не прежней, совершенно непривычной… но всё же, слава Богу, моей; не распался я на психомолекулы, не развеялся в чужой бездне. Я удивлённо обозревал сокровенным зрением, обслушивал внутренним слухом этот замечательный простор-подарок, примерял к себе свежайшие почувствия-помыслы, желанья-фантазии. Сколько ж там было всякого! Такого, о чём раньше я — ни сном ни духом…
В разгаре своего восхищения, я вдруг испугался всерьёз, я вспомнил — а тело моё? где моё тело? что-то со мной… слишком велик, ярок, роскошен этот простор чувств, откуда такая мощь? Неужели за счёт!.. как тогда? как там? в том проклятом фойе у Дафта: «конгломерат», дематериализация? Что? Я не жив уже?
Пелена холодного страха схлынула. Я разглядел себя, свои руки-ноги, туловище. Вот он я: цел-здоров-глуп-счастлив-растерян… Растерян от нового, внезапного самоосмысла.
Скоро… скоро… скорее… Всё встанет на новые места. Всё вновь уляжется, я привыкну к себе — привыкаю…
Скоро мне невмоготу станет даже представить, каким я был. Что я хотел. Что мог.
А могу что? Через невнятность-непривычку, через слякоть испугов, опасок, безверий… пробраться, преодолеть, вычиститься — уже… уже плыву, выплываю, сам; стремительный поток, я — его часть, его цель. Осознан, свободен, чист.
Всё… Всё, кажется. Всего ненужного, тяжкого, медленного уже нет. Нет! Не будет. Что могу? На что способен теперь?
Будем пробовать. Поучимся новой сущности.
А ну-ка, насчёт естества: физики-физиологии. Тот я? Собственный свой? Ни моложе, ни старше, ни красивей ни уродливей. Не выросло ни рогов-копыт, ни крыльев за спиной, слава Богу. Тот. Ан — слегка усомнимся. А как, например — полетать? Легко и пожалуйста: плавное сосредоточие… прохладный ознобец по телу… чуть вскруживается голова, непривычно дышится от потери собственного веса — я медленно взмываю в воздух, парю, покачиваясь, раздумывая, куда направиться. Я никуда не направляюсь, я вновь впускаю в себя свой вес и возвращаюсь на землю. Вот оно как. Не слабо. Впрочем, я это чуть-чуть умел и раньше: однажды в детстве — наш памятный полёт с Велой над Копытцем…
А как на предмет телекинеза? Как с теперешней физической силой? А как мне теперь жара-холод? А насчёт умения жить под водой? а дышать без воздуха? а обходиться без пищи? или без сна? Что ещё можно вздумать?
Стайка пустопорожних вопросов пронеслась и згинула.
Я и без проверок знал, что смогу — если вдруг нужда — поднять товарный вагон, одним взглядом отфутболить что угодно куда угодно. И на дне океана не захлебнусь, и на полюсе не замёрзну, и поголодаю, коли приспичит, годик — другой…
Не это меня занимало. Меня волновал шелест. Тончайший, едва ощутимый шелест вокруг меня, вокруг моей головы — нефизический, несхожий ни с чем. Лёгкие всполохи, скользящие вихорьки невесть откуда прилетевших энергий. Словно невидимым колпаком, я был отгорожен от них, и шелест возникал от колпака, от невозможности сквозь колпак пробиться, от тщетности чьих-то усилий.
Я сконцентрировался. С замирающим сердцем, с немалым напряжением воли убрал, растворил колпак.
На минуту у меня вскружилась голова от внезапного шквала, в мозгу рассыпались мириады легчайших неострых косновений. Затем всё утихло, отстоялось, исчезли шелесты-брызги-цветоизвивы. Но состояние моё осталось странным, разбудораженным. Очень отдалённо оно напоминало состояние человека, чьей-то прихотью выхваченного из тёплой комнаты, из безмятежного сна и брошенного где-то в горах, в скальных расщелинах, на свежем морозном воздухе, среди холодных невнятных запахов, среди тишины-покоя… обманного покоя, который вот-вот рванёт звуками, действиями, событьями.
Что-то долетало ко мне со всех сторон. Я наконец понял что. В меня словно тихонько стучались другие люди. Объявляли о себе излученьями своих душ, сознаний. Их было несметное множество, этих лучейзывов, у меня имелись органы чувств, способные их улавливать. Сам не понимая как, я мог настроиться на любой из них, выбрать тот, что мне более приятен, интересен, нужен — каким-то образом мною определялись эти качества. И тогда мой разум, мой информ впускал в себя информ и разум другого человека, а то и нескольких сразу. Физическое расстояние меж нами не имело никакого значения. Разные человеко-миры на время связывались воедино. Я мог свободно обмениваться мыслями с другими людьми, мог позаимствовать у них те духовные силы, коих мне вдруг недостанет, или отдать им свои. Мы могли напрямую воздействовать друг на друга, объединять свои возможности для достижения общей благой цели. А пожелав — разомкнуться, разлететься по своим путям.
Это было потрясающее занятие — общаться с сущностями людей, самых разных: родных и близких мне, случайных знакомых, тех, о коих доныне ведать не ведал — сподабливаться с ними до глубинных импульсов, истоков, сокровений… Даже на краткие секунды — минуты. Даже по выхваченным невесть откуда обрывкам слов, мыслей. Это происходило не в воображеньи моём, не в причудливом зеркале моей спохватившейся памяти.
Новая внезапная реальность. Стихия, хлынувшая на меня.
Боже! Как мало я знал, хотел знать о дорогих мне людях! Как мало я успел сделать для них!
Мама… Сколько мы не виделись с тобой? Месяца два… Кажется, что несколько лет. Или постарела ты за эти два месяца на несколько лет. Да… Одиночество — злая вещь. Можно принять его неизбежность, скорбно свыкнуться с ним. Подружиться с ним нельзя.
С тех пор, как мы похоронили отца… цвет глаз твоих изменился: искристая морская волна сделалась сереньким тусклым песчаником; как же так — я заметил это только сейчас. Только сейчас… твои неприкаянные шаги — из угла в угол — вдоль и поперёк, по своей маленькой квартирёнке… только сейчас — твои тревожные мысли обо мне. Ты почти всё обо мне понимала. Что я не такой, как другие, совсем не такой, и жить чужой жизнью у меня не получается, что я мыкаюсь, запертый в этом нормальном, благополучном мире — клетке, не зная, куда деться от истинного себя.
Гм… конечно. Два месяца — срок. Ты ведь, наверняка, не ведаешь, где я сейчас, что произошло, что со мною случилось, каким я стал. Что за меня уже не нужно переживать.
За меня… А вот за тебя, мамочка… Я стал иным. Я могу увидеть. Я вижу в тебе… Я-то вижу, а ты ещё нет. Изменилось в тебе — плохо изменилось. Твой недуг. Пока лишь зародыш твоего недуга. Никто ещё о нём не знает, невозможно ещё о нём знать. Никто не видит его. Вижу я. Отсюда. Расстояние между нами — ничто. Крохотный, будто бы безобидный клочок пустоты — эмбрион грядущей болезни, злодеяния против тебя. В тебе… Слава Богу, что мне удалось разглядеть!
Соберись с силами, мама. Тебе сейчас будет не очень уютно. Наверное, ты не поймёшь почему. Потому что я сейчас попытаюсь погасить этот чёрный тлеющий уголь… отменить приговор, вынесенный тебе. Потерпи, мамочка, я очень постараюсь. Я, знаешь ли, тут кой-чему научился. Сядь, если ты стоишь. Соберись, сосредоточься. Верь мне. Потерпи — всё будет хорошо.
Юран… Незадушевный приятель мой, бывший собутыльник, компаньон по концертно-вокзальному убогому промыслу. Каково сейчас тебе можется? Музыкант — Божьим знамением. Музхалтурщик — людскими обстоятельствами. Каково твоей симпатичной супруге и твоим беспокойным чадам?
Я могу войти в твоё сознанье… Я вхожу в твоё сознанье, Юрик, я вижу в тебе ещё больший разлад, разруху. Ты уже не чаешь подняться, распрямиться, достичь назначенного тебе. Махнул ты на всё рукой — слаб человек изверившийся. И на водочку приналёг уже не шутя… уже почти без просветов. Зря это — свинство это, уважаемый! не только для высокого дара твоего, а и для семьи твоей — они в чём виноваты? Удобное, но недостойное заблуждение: считать, что тебе хуже, чем остальным, спасаться в одиночку. Вот ведь… я нравоучаю тебя, Юрик… А кем бы я сам там стал? что бы из меня там слепилось-сляпалось? Если бы не моя Зга.
А посему — как знаешь, принимай — возымел я силу и право вмешаться. Без спроса. Вначале я разъединю тебя с душеспасительницей водочкой. А уж потом ты сам вновь съединишься-помиришься с истиною твоей летящей. Полетишь, как миленький — куда ты денешься, голубь! Голубю, запуленному вверх — хошь-не хошь, а лететь… А уж я тебя, по старой дружбе, высоко запулю, не обижайся.
Так что, ежели ты держишь в руке стакан с вожделённою влагой, поспеши подальше отставить его, дабы не стало дурно тебе от одного запаха. И изготовь расхристанный дух свой к катаклизму: к шторму, цунами, вулканоизвержью, падению астероида, нашествию Чингизхана… Это, Юрик, нелёгкая процедура — превращаться в подлинного себя — уж я знаю.
Лёнчик… Мой маленький друг, мужественный спутник в трудном походе, храбрый боец. Сын… Да. Конечно. Отныне и навсегда — сын. Ты такой же сподобный, как я. Ты проходишь свой путь познанья. Ты достигнешь моего рубежа, обгонишь меня и направишься дальше в недоступное мне совершенство. И юному духу твоему даже не потребна добавка моей силы, он и так могуч, летящ и свободен. А нужна тебе — ныне — присно — во веки — любовь моя, моя вера в тебя. Любви-веры-истины никогда не бывает всклень.
Скорее, ты мне, Лёнчик, способен помочь. В чём? В том, что, хоть и стал я иным, я не весь иной, я не очищен ещё вполне от мерзи прежнего мира, слишком цепки занозы злости-досады на всех за всё, слишком потаенны остатки ядиков страха, согбенья, тщеты…
В тебе же этого нет, не может быть. Потому помоги и мне избавиться от мельчайшей крапины, от последней мизерины недобра-смуты в моей душе.
Ага, вот и ты. Вот наконец и ты — во всей красе. Знаешь, как я рад тебя видеть? Оказывается, я могу тебя видеть, когда очень захочу. Самим собой… Да знаю я, знаю, Пенёк — успокойся — что собой тебя видеть нельзя. Плевать! Хочу видеть и вижу. Тебя. А невдалеке от тебя — Вилена, нового беззаветного друга нашего, неукротимого человека. Его я тоже хочу видеть — и вижу.
Знаю, что ты не терпишь сантиментов. А всё равно скажу. Пенюха! То, что ты сделал для нас… Тфу ты, Господи! не о том, извини. Просто… ты — наш… ты нужен нам. И наверное, мы — тебе. Так что, если сможешь, не пропадай чересчур надолго. Да, конечно же… Эй, Вилен, одинокий упрямец, тебя это тоже касается. Не пропадай, ладно?
Ну так вот, Пнище — дружище, ты видишь, как сильно я вдруг поумнел. Не без твоих чутких вмешательств. Я даже не задаю конфузных вопросов типа: «Ах, почему же тебя убили?.. Ах, кто же позволил?.. Ах, кто виноват во всём?..»
Человечество не может стать иным, не станет иным. Пока не сделается очевидным абсурдом это: «Кто виноват?.. Кто позволил?.. Кто плохой?.. Кто хороший?..» Морформ начинается в человеке самим человеком. Заканчивается он, может быть, с помощью посторонних сил. А исход, плодородящее зерно — в нас. И нам до этого самопонятья ещё неблизкий путь. Нам — человечеству. Мы с тобою — не в счёт.
Я не спрашиваю: могло ли не случиться в Зге то, что случилось? Я знаю ответ. Меня другое гложет. Ладно… могло — не могло… Случилось. Грянуло. Отгремело. Затихло. И что? Отбой? Отступленье? Полный откат назад? Дальше, чем назад. Потому что теперь ко всему добавляется ещё новый страх… малый невнятный страшек: «а как бы опять не вышло такое… а стоит ли?.. а зачем?»
Человечество наше с тобой не законсервируется ли навсегда в густом желейном бессмысле ожидания того, чего оно не хочет, желания того, чего оно боится? И мы с тобою, и все сподобные — теперешние и будущие — не сможем пробить, разогнать бессмысл. И Мик Григорьич, и вселенские силы, стоящие за ним, сочтут ли нужным вмешаться?
Потому что слишком ординарна, жёстка человеческая природа… сущность. И нельзя её изменить без насилия над ней. А насилие и морформ — несовместны. Любое насилие аннигилирует морформ, превращая его в свою противоположность, а сущность человека в тёмный хаос.
Эй, Пенёк, чего молчишь, не возражаешь мне, не высмеиваешь эти мои «пророчества»? Неужели же прав я? Ну опровергни, поехидничай, разложи меня на лопатки, разбей в пух и прах — ты же умеешь это! Скажи, что всё это чушь собачья. Что, разумеется, есть выход. Есть выход… есть выход…
— Ну-ну, успокойся. Не настолько всё безнадёжно. Ты слишком категоричен к людям. Дух человечества всё же развивается по восходящей спирали, может быть, проходя рядом с прежними ошибками, пораженьями. Но не повторяя их, выше их. Извини, что я вмешиваюсь…
— Боже мой! Вела! Любовь моя… Спасибо огромное, что ты вмешиваешься, вмешивайся сколько душе угодно. Потому что ты и есть этот выход: такие, как ты и есть выход, надежда, спасенье от ортодоксного тупика, от самодовольной самокончины нашей цивилизации. Женщина — ближе всего к истинному морформу. И начнётся новое человечество, наверное, с женщины. А когда? Мы-то с тобою, похоже, уже начались?
— Опять спешишь, дорогой мой. Желаемое за действительное… Да, мы сподобные. Но мы не отдельные существа. Мы — люди. Мы можем войти в новое состоянье раньше, чем остальные, проникнуться, преобразиться морформом более остальных. Но мы не можем этого сделать без остальных, сами собою. Мы — часть целого.
— Да понимаю я… понимаю. Давно понял. Слегка увлёкся. Мик Григорьич, по дружбе, подыграл нам, вбросил нас в недоступное и незаслуженное естество. Примерил на нас новую сущность… новый «праздничный костюм». А мне ужасно не хочется его снимать. Но снимать придётся. До праздника ещё далеко.
— Не переживай. Мы подождём. Мы дождёмся. Наши дети дождутся. Дети детей… Это же, всё равно, мы. А нам с тобою вдвоём и в прежнем естестве не так уж плохо. Я тебя люблю. Этого хватит на одну маленькую вечность.
— Да… на одну двухместную вечность. С двигателем в две человеко-любви. Полетим, а?
— Ещё как полетим! Прекрасна не только цель полёта. И сам полёт.
— Конечно… конечно. Но — слушай-ка! Пока мы с тобою ещё… в этом — в этих «праздничных костюмах», может быть, попробуем… вдвоём праздника? Ты — золушка на балу. Я — трубочист, заколдованный в принца. Наш танец, ваша сиянность!
— С радостью, мой принц! Никто нас не видит? Жаль!
— Никто нас не может видеть. Эй, музыка!
Мы были иными, но не чересчур. Мы были мужчиной и женщиной из плоти и крови, брошенными навстречу друг другу, захваченными сразу несколькими стихиями; несусветная музыка, вдруг возникшая в нас, взявшая нас во власть безраздельно. Эти звуки не могли произвестись никакими изощрёнными инструментами: мощные аккорды катастроф — счастий, падений — возлётов. До музыки — мы не жили… после музыки — нам не жить… чудесное заблуждение: поверить, что она нескончима.
Извечная сластная тоска-истома, сбыточные желания — потреба жаркой, поспешной близи друг друга… всё меж нами можно и нужно — сейчас, минуту сию, позарез, навсегда, до блаженной погибели… Мы — один для другого — вдвоём… Где мы — неизвестно, потерялась Земля — никого кроме. Успеть…
Это были ещё наши понятия, ещё наш мир. Но былое пространство-время уже пропадало, неведомые стихии уже несли нас в запредел, в ирреальность.
Мы просто очутились друг перед другом на другой Земле, земные мужчина и женщина — мы любили друг друга, а запредел помогал нам в этом…
Они были бережны и аккуратны с нами, страннейшие силы нового мира — воплощенья, они старались не разрушить нас, не свести нас с ума… и всё же мы были почти безумны от неслыханной остроты чувств, от диковинных наслажденных осязаний, осознаний друг друга…
Потом… потом, когда мы наконец утихомирились, исчерпались, смогли не спеша оглядеться в новом обретённом пространстве — времени… К нам снизошло мудрое спокойствие. Созерцание.
Этот мир, оказывается, соразмерен и прост. В этом мире очень легко жить. Потому что в нём нет двух главных зол, двух страхов-исчадий, двух истребителей человеческой души-сущности. Страха преждевременной смерти. И страха несостоянья. Нельзя в этом мире умереть преждевременно, раньше, чем ты достигнешь всего, совершишь всё, ради чего ты появился. Нельзя не выполнить назначенного тебе, того, к чему простирается сподобье твоё. Твоё предопределенье свяжется с тобою мириадами тончайших энергонитей, информных лучей. Они невнятны, слабы, обрывны в том прежнем бытие, а здесь ты их, если пожелаешь, увидишь воочию, ты ощутишь их цельно и явственно: они неоступно будут томить тебя, подвигать к поступкам, поискам, помыслам, к благому действу во имя заветных своих целей.
А истинные заветы твоих целей — всё те же вековечные заветы. Ничего нового — всё иное. Любовь и Познание. Отмытые от тщеты. Счастливое изумление человеком. Ближним твоим. Собою. Другими такими же. Восхищение познанным. Неутолимый соблазн неведомого.
Ничего нового — всё иное.
И ещё — Причастие. Причастие к твоему человечеству и через него — человечество — к сообразью и смыслу всего, к колоссальному Целому, к Своду-Гумануму Внутренней Вселенной. Полноправной, полножизненной частицей, импульсом которого явишься ты. Твоя неумираемая душа — сущность…
А невдалеке от всех этих мыслей, устремлений, взмывов, азартов… обособно от всех неимоверных чувств…
Чувство тихой, терпкой печали.
Оттого что мир этот свободно существовал без нас.
И был прекрасен.
Эпилог
Прошло десять лет. Зга разрослась, преобразилась до неузнаваемости. Отовсюду понаехали люди: и бывшие згинцы, и их родные-близкие, и — большей частью — совсем посторонние. Обосновались, обстроились, крепко, надолго. Зажили.
Что их сюда притянуло? Ничего особенного в Зге, как в населённом пункте, уже не было. Давно исчезли все энергоаномалии. Радиационный фон был в норме. Атмосферные и климатические условия — средне благоприятные.
Постепенно подзабылись старожилами давние лихие события, а новоприезжим и вовсе не было дела до них.
Мастерились красивые дома, облагораживались улицы, асфальтировались дороги, мерно, складно работали немногочисленные згинские фабрички-заводики, магазины-базары, фирмы-конторы умеренного пошиба. Не чересчур бурливо, не излишне вяло текла добротная провинциальная жизнь.
Огромные строения бывшего научно-исследовательского комплекса (бывшего, потому что объект исследований самовольно пропал, а, стало быть, и комплексу со всем своим обильным и дорогим оборудованием, со всеми оставшимися работниками пришлось так же отбывать в иные места, скорее всего, в столицу) долгое время пустовали. Великоваты и дороговаты они были для местных нужд.
Первым делом распределили под квартиры для згинцев две жилые шестиэтажки. Потом одно из зданий отвели под городскую больницу, другое — под гостиницу, ещё в двух расположилась куча различных управлений, организаций, офисов. А пятый восьмиэтажный корпус был зарезервирован и поныне дожидался новых хозяев.
Стояли последние дни лета. Со дня на день должен был приехать наш Лёнчик со своей группой. Они приезжали уже третий раз в этом году для, как он выражался, «домашне-полевых работ».
Лёнчик в шутку именовал себя «тонкополярником, сущноголиком-морформистом».
К двадцати двум годам он закончил два факультета столичного университета: физический и психологический, три изотерических школы мирового уровня, побывал в Индии, на Тибете, в Китае. Он собрал группу единомышленников. Они самостоятельно занимались тонкими энергополями, сопутными сущности человека и морформными проявлениями в этой самой сущности. Они сами разрабатывали свои способы восприятий, которые официальная наука никогда не приняла бы всерьёз. О результатах своей деятельности Лёнчик не рассказывал даже нам с Велой. «Будет время, будет… — успокаивал он нас, — Всё ещё сыро, невнятно. Но дело идёт, можете поверить». Мы верили. Мы знали упрямство, хватку и способности Лёнчика.
Наша семилетняя дочка Стешка была, конечно же, далека от всех этих проблем. Но она уже успела дать нам поводы для беспокойства.
Вот и сегодня…
Вела готовила ужин, а я поливал яблони в саду, когда с улицы прибежал соседский мальчик Антон и сообщил, что Стешка пропала.
— Как пропала!? — встрепенулась Вела.
— Как… была-была, а потом, раз — и нету. Ан… ангили… ро… валась, — блеснул познаниями Антон.
— Глупости не болтай, — строго сказал я, подходя к крыльцу.
У Велы в глазах быстро росла паника.
— Успокойся, — я тронул её за плечи, — Это уже второй раз. В прошлом году зимой, помнишь?
— От этого мне не легче.
Мы вышли на улицу, направились к поросли молодых клёнов и верб. Под их ветвями на травянистой полянке играли дети. Теперь уже не играли, а с удивлением разглядывали то место под деревом, где недавно стояла Стешка, щупали воздух и азартно обсуждали произошедшее.
— Здесь? — спросил я.
— Тута. Она водила, мы — прятались. А потом, раз — и всё.
— Она стояла, закрыв глаза? Руками?
— Конечно, — солидно сказал Антон, — А как ещё водить? Я следил, чтоб она не подглядывала.
Мы стали ждать. Вела, нервно кусала губы.
— Всё нормально, — я взял в руки её прохладную подрагивающую ладонь. — Плохого там не может случиться. Ты же знаешь.
— Знаю, — вздохнула Вела, — Ей же семь лет всего.
— Это наш с тобою ребёнок. Всё от нас — в ней. Ничего не поделаешь.
— Теперь у неё это будет постоянно?
— Думаю, что без сюрпризов не обойтись.
— Боже всемилостивый! Пусть будет всё хорошо! Дай, Боже, чтоб она возвращалась! Всегда возвращалась!..
Стешка появилась минут через пять, растрёпанная, сияющая, с круглыми от восторга глазами.
Мы шли домой, держа её за руки. Она пыталась качаться на наших руках, как на качелях.
— Ты уже взрослая, большая, — утихомиривала её Вела, — Мне тебя не удержать.
— Да, Стефания, — назидательно продолжил я, — Ты, действительно, уже взрослая. Поэтому давай договоримся. В следующий раз — если ты захочешь опять… если тебе станет совсем уже… невтерпёж… Ты нас предупреждай, пожалуйста. Мы тебе не будем мешать. Но чтобы мы — знали. И были неподалёку. Хорошо? Обещаешь?
— Обещаю, — беззаботно ответила Стешка…
2008 г.