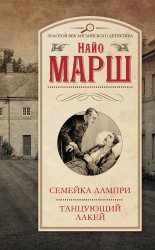Город Зга Зенкин Владимир

— Зачем? — осторожно спросила Вела.
— Для вас. Чтобы вы посмотрели на них. Оценили их. Это безупречные люди. Абсолютно преданные мне. Не выполнить приказ для них невозможно. Если я прикажу им, к примеру, перестрелять друг друга, они тотчас это сделают. Если я прикажу им уничтожить здание школы, они развалят его по кирпичу за несколько минут.
Лёнчик почти лёг на подоконник, высунулся наружу, помахал руками внизу стоящим, прокричал им приветствие. Удивлённо повернулся к нам.
— Смотрите, не реагируют. Все уставились в одну точку, как истуканы.
— Нет, юный мой друг, — пояснил Марк, — Они не истуканы. Они смотрят на меня. Они не могут больше никуда смотреть, потому что я мысленно, телепатемой приказал им так сделать. Когда я скомандую «отбой», командиры взводов повторят мой приказ — все разойдутся и станут заниматься своими делами. Они способны действовать совершенно самостоятельно, мыслить, анализировать любую ситуацию, принимать решения. Они живые люди, не роботы. Только умеют гораздо больше, чем обычные люди. Вы могли рассмотреть их поближе, когда они сопровождали вас сюда.
— Да, мы имели такую радость, — подтвердила Вела, — Не совсем ясно насчёт гражданских. Они, похоже, чем-то отличаются от военных. В сторону человеческого.
— Вы про тех, что пришли после взрыва? Они не попали в коллапс, их психика в меньшей степени реконбинирована. В них осталась прежняя индивидуальность, интеллект у них, конечно, повыше, чем у солдат. Люди это высокообразованные, научные работники, в основном. Зато физические данные — оставляют желать. Все они тоже подчиняются телепатическим приказам. Правда, нет такой безоговорочной дисциплины и сверхнадёжности, как у военных. Впрочем, при необходимости на них можно воздействовать… интенсивно, и они сделают всё для блага…
— Для чьёго блага? — жёстко спросила Вела.
— Для общего блага человечества. Для чего же ещё.
— Вы знаете, у нас имеются подозрения, что не все находящиеся в Зге озабочены благом человечества так, как эти господа, — кивнул я на стоящих внизу. Некоторые гражданские, а может быть, и военные заняты другими делами. И вашей замечательной личностью они как-то не увлеклись.
Чуть подобрались губы «заждителя», чуть сузились, затенились глаза.
— Ничего особенного. Есть другие люди, вы правы. В зданиях научного комплекса, например. В парке прячется несколько человек. Да вот совсем недалеко отсюда один тихий сумасшедший… живёт на дубе — вы видели, наверное, этот дуб на въезде в город — копает экскаватором какую-то траншею.
— И вас не смущает, — осторожно спросил я, — то, что он там — сам по себе? Вне вашей опёки.
— Один полуживой человечек? Никому не опасен, не интересен. Но скоро и он будет с нами. Или не будет ни с кем. Скоро все будут с нами, уверяю вас. Есть правила, есть исключения. Временные исключения. А правила — вот они, — Марк пафосно плеснул рукою на школьный двор, — Вот они, первые представители новой высшей цивилизации. Основание пирамиды цивилизации. А вершина пирамиды — мы.
— Кстати, пожалуйста, скомандуйте им «отбой», — попросила Вела, — не очень приятно смотреть на окоченелые манекены.
— Извольте, — усмехнулся Марк.
Через секунду столбнячные ряды облегчённо выдохнули, расслабились. Командиры стали отдавать распоряжения, ожившие люди начали расходиться со двора, разбиваясь на маленькие группки, переговариваясь, смеясь, не обращая на нас уже ни малейшего внимания.
— Видите, — продолжал Марк, — это никакие не зомби, не маньяки. Они спят, едят, курят, иногда пьют водку, играют в карты… Ничто человеческое им не чуждо. Но в считанные минуты из них можно получить получить мощнейшую, практически неуязвимую ударную силу, способную смести любое препятствие.
— Интер-ресно, — мрачно ухмыльнулся Пенёк, — Кого же ты собираешься ими сметать?
— Поживём…
— Однако сдаётся мне, что маловато всё-таки этих волкодавов для завоевания мирового господства. Полагаю, что наша планетка Земля всё-таки побольше и посложнее, чем ты себе вообразил.
Марк огорчённо покачал головой, отвернулся от Пенька. Пенёк его раздражал.
— О Гос-споди! Да о чём вы? Кто собирается завоёвывать мировое господство? Что за чушь! Давайте же поймём, наконец! Создаётся совершенно новый мир. Происходит вселенский акт творения — не мною, не вами — теми высшими разумными силами, которые никому из нас не подвластны. И эти силы избрали нас с вами первыми, отзначенными для будущего мира. Всё преобразится на Земле по программе преображенья. И люди станут другими. Для того существует Кайма и она раздвигается, охватывая планету. Но мы с вами уже стали… уже становимся теми, кем нам должно стать. И эти все, — он кивнул на школьный двор из окна, — уже обрели своё новое естество. И все остальные там, — он сделал широкий жест к горизонту, — тоже обретут его — дайте срок. Всё «приидет на круги своя». На иные «круги». О которых никто ещё — ни сном ни духом. Кроме нас. А нам с вами надо лишь привыкать к своему избранству, учиться высшему самосознанью, высшей мудрости. Нам даётся этот мир. Мы — его смысл и гармония. Но и в ответе — мы за него.
Тонко тикал, звенел во мне сигнал опасности. Я взглянул на лица своих спутников. И Пенёк, и Вела, и даже Лёнчик изготовлены были к возражениям, к спору, к скандалу, к настоянию на своём, к любым словам и действиям против его слов и действий. Всем был ясен этот человек.
Но скандал нам пока ни к чему.
— Уважаемый господин Марк, — сказал я, — После дальней дороги мы нуждаемся в некотором отдыхе. Слишком много впечатлений. Нам бы помыться, поесть, отдохнуть. Собраться с мыслями.
— Бога ради! — спохватился хозяин кабинета, — Извините, что не я первый предложил вам это! Большая моя оплошность. Никаких проблем. В вашем распоряжении будет две комнаты, здесь, в здании школы: одна для дамы, другая для мужчин. Всё необходимое, включая чистые постели. Умывальная, душевая. Еду, мы вам тоже обеспечим, у нас прекрасная столовая, закусочная — всё сами организовали. Отдыхайте, отсыпайтесь, осмысливайтесь. А завтра с утра мы с вами примемся за дело. Уже с полным взаимопониманием. Иначе и быть не может. Иначе никак… не может быть, — добавил он странным тоном.
Мы собрались подняться с рассветом, но я встал раньше. В комнате было ещё темно. За окнами ночное небо уже разбавлялось серо-голубым.
Четыре кровати по углам — мы ночевали вместе в одной комнате по-походному. Лёнчик, раскинув руки, досматривал свой последний приключенческий сон. Вела, наоборот, свернулась в комочек, даже во сне она была сосредоточена и насторожена. Пенёк, запрокинув голову, недовольно сопел.
Так тому быть. Всё обговорено, решено, сомнений нет. Сегодня доберёмся до нашей цели. Там всё определится окончательно. Там мы должны встретить того, кто нам необходим. А от этой «райской компании» во главе с самоиспечённым божком-фюрером надо поскорее отделываться и с наименьшим шумом. Хорошо бы вовсе без шума. Но чуяло моё сердце — без шума сегодня вряд ли обойдётся.
Я, было, взял рюкзак, чтобы достать наше ружьё, собрать зарядить его. Остановился. Охотничья двухстволка против трёх сотен автоматов, пулемётов, гранат, что там ещё у них… Что ж, будем надеяться, в случае самого худшего, у нас появится оружие покруче пулемётов. Но нет. Нельзя. Никак нельзя. Надо — без шума.
Проснулась Вела, затем Пенёк. Разбудили Лёнчика. Сборы заняли несколько минут. Мы открыли створки окна, благо, комната находилась на первом этаже.
— Ну, с Богом, — сказал я, влезая на подоконник, — Пусть всё будет хорошо.
Я спрыгнул на ноздреватый асфальт, огляделся. Поблизости никого. Школьный двор пуст, сумеречен, уныл.
Я помогал Лёнчику, Веле спускаться из окна, принимал от Пенька рюкзаки, а меня свербило ниоткуда взявшееся тёмное почувствие: «не то, не так делаем… всё неверно, неправильно, глупо». «А как правильно? — мысленно огрызнулся я на себя, — Кто подскажет, как правильно? Правильно-неправильно — уже делаем. Назад не вернёмся».
Крадучись, прошли вдоль стены, завернули за угол, перебежали открытое пространство до железной ка-литки в ограде, выбрались на улицу.
Улица была пуста, беспризорна, в диких зарослях деревьев, кустарников, бурьяна. За зарослями виднелись лишь крыши одноэтажных обветшалых домов.
Мы вздохнули с облегчением. Похоже, что никто не заметил. А зелёные уличные дебри плотно скрыли от нас школу и всё, что с ней связано. Теперь — не медлить, не медлить.
Успокоились мы преждевременно. За спиной послышался тяжёлый топот. Из-за зарослей показались догонявшие нас солдаты, целая орава солдат. Они заполнили всю ширину узкой улочки. Куцая мысль о спасении бегством чиркнула во мне и погасла: «куда бежать? с ребёнком, женщиной…»
Люди в военной форме окружили нас, все при оружии, и оружие наизготовку. На лицах — знакомая нам тусклая бесстрасть. Тот же вчерашний капитан, те же отстуженные глаза.
— Что, господа, утренняя зарядка? — вопросил я, сосредотачиваясь на переносице капитана, излавливая и притягивая его взгляд, — Развлекательный марш-бросок? От нас что угодно?
— Угодно вернуть вас назад, — сипло, отрывисто сказал капитан, с трудом уводя свой взгляд от моего взгляда, — Непреречно. Или будет применено оружие.
— Вы это серьёзно, господа? У вас вообще со здоровьем как?
— Отставить разговоры! Приказано вернуться — вернётесь. Надцель сопутства. Назад!
— Ты на кого это гавкаешь! — взревел Пенёк, подступил к капитану со сжатыми кулаками, — Ты! Кукла заводная! Ты понятие имеешь — кто мы? Или тебе показать…
Капитан молча поднял пистолет, нацелил в грудь Пенька, отщелкнул предохранитель. Послышались щелчки снимаемых с предохранителей автоматов. Они явно не шутили.
— Всем спокойно! — крикнул я, — Мы вернёмся. С вами что говорить. Поговорим с вашим кукловодом.
В напряженном молчании мы вернулись прежним путём через калитку, обогнули здание спортзала, вышли на школьный двор. Двор был полон вооружённой солдатни. Очевидно, всё вчерашнее воинство уже успело прибежать по высочайшему мановению. Удивительная оперативность. Зачем? Ради нас, разумеется. Только сегодня уже не для строевого смотра. Для напуга нашего: костюмированного спектакля. А то и для более гнусных вещей.
Солдаты стояли не колоннами, а плотными группами, распределяясь по всему простору двора. Все следили за нами, но все, как один, быстро отводили глаза, как только мы пытались впрямую с ними встретиться взглядами. «Приказано так. Побаивается нас «зиждитель». Не зря. А где же он сам?»
— Что будем делать? — тихонько спросила Вела.
— По обстоятельствам. Но, ради Бога, пока — ничего резкого, необдуманного. Слышь, Пенёк, тебя очень прошу. Мы сильнее их. И умнее. Но поймите — мы не бессмертны. Пуля — и для нас — пуля. Беречь себя. И друг друга.
В здание мы не вошли. Мы стояли перед парадным крыльцом в окружении солдат и ждали. И ожидание затягивалось. «Как же… «Божественная особа». «Повелитель мира». Черни положено ждать? Вот сволочь!».
Уже совсем рассвело, и первые лучи солнца проблёскивали из-за деревьев. Мелкие облачка на небе светились нежной розовиной. И круглое облачко в зените — не розовина почему-то, а серебро, ртуть — острые текучие просверки. Вот она, объявилась, наконец, наша спутница. Хорошо или плохо, что объявилась? Наверное, что-то важное назревает.
Я с невнятной надеждой вглядывался в Стаю: «Эй, что посоветуешь? Чем поможешь?»
Стая была ярче, чем раньше. К ртутистым искрам примешивались мерцания густой бронзы и меди.
Но располагалась Стая гораздо выше, чем обычно. Раза два она зигзагообразными движениями явно пыталась снизиться над нашими головами. И вновь набирала высоту. Какая-то упорная сила оттесняла её почти до уровня других облаков. Вот как. Даже всемогущая Стая не может преодолеть здешнее гнусное энергомесиво. Или не хочет?
Мои небесные созерцания прервало появление «зиждителя». Он остановился на крыльце, скрестил руки на груди. Лицо непроницаемо, сфинксовски сурово. Смотрел он куда-то поверх наших голов в одному ему, надо полагать, ведомые дали. Мне стало даже смешно, настолько он не походил на вчерашнего радушного хозяина. Ни дать ни взять — какой-нибудь латиноамериканский кокаиновый диктаторишко со своей «гвардией». Это он для них пыжился? Или перед нами ломал комедию?
— Ну так как понимать прикажете, «ваше всевышество»? — обратился я к нему, — Мы кто здесь: гости или пленники? Если гости — мы вольны идти куда захотим и когда захотим. А если уже пленники — то объяснения нам предстоят очень серьёзные.
— А выбор не только в этом, — чуть ли не ласково усмехнулся Марк, — Гости-пленники… есть ещё варианты. Друзья или враги, например. Вместе вы все или порознь. И даже совсем интересный: живые вы или мёртвые… Вам выбирать. А нам — содействовать. Впрочем, вы, кажется, уже выбрали. По всем вариантам — знак минус. Поздравляю. Скорблю.
— Ты бы не торопился скорбеть, «зиждитель» долбаный, — угрожающе проговорил Пенёк, — Кому по ком скорбеть, ещё вопрос. Если у тебя и у этих идиотов, — он кивнул на безмолвных солдат, — в башках всё попереворачивалось от проклятой бомбы, которую они сами же взорвали, то вас лечить всех надо. За хорошими замками и крепкими решётками. Вы — психи все пошлые, а не новая цивилизация.
— Это ж надо! — весело удивился Марк, — Как низко ты нас ценишь. Ну-ка посмотри вон туда.
Мы повернули головы. Мощный ветвистый тополь, возвышавшийся вдали над домами и деревьями, с резким треском сломился пополам. Верхушка рухнула на крышу рядом стоящего дома, раздробив шифер, смяв стропила.
— Один мысленный импульс. Пустячок. Любой из моих людей может подобное. Так какие ты нам приготовил замки и решётки?
— Жалкий балаган, — заключил Пенёк, — Наверное, ты не згинец. Среди згинцев я не встречал такой чванливой мрази. Смотри, что я тебе покажу.
Я остановил Пенька за руку, — не надо глупостей.
Может быть, не стоило его останавливать… Может быть, всё получилось бы по-другому. Но я остановил Пенька за руку. Куда она подевалась тогда, моя прозорливость! Как мне тогда её недостало!
— Послушайте, господин Марк, — что есть сил миролюбиво сказал я, — У нас сегодня нет ни малейшего желания спорить с вами о нашем божественном пред-назначении и уж, тем более, соревноваться в количестве поваленных деревьев или, к примеру, пробитых стен. Оставайтесь тем, кем вы себя считаете, занимайтесь своими делами, пока есть такая возможность. Мы на вашу избранность не претендуем. Никаких препятствий вам чинить не собираемся. Просто позвольте нам уйти своей дорогой. Коль мы с вами, как вы вчера утверждали, ровня друг другу, давайте же уважать друг друга.
— Никуда вы отсюда не уйдёте, — глухим вибрирующим голосом объявил «зиждитель», — Вы не очень-то мне нужны, как друзья. А уж как недруги, вы мне, тем более, ни к чему. Именно, потому что мы — ровня.
Я взглянул на Пенька, на Велу, на Лёнчика. Без слов было ясно: добром это не кончится. — Сосредотачивайтесь, — шепнул я, — Стройте барьер. Барьер… у них автоматы.
Я сделал шаг к крыльцу, но не стал подниматься. Несколько ступенек разделяло нас с ним. Сердце моё билось ровно и звонко.
— Слушай, ты!.. Ты называешь себя згинцем и сподобным. Возможно, ты и згинец. Возможно даже, по-своему сподобный. Если так, ты не можешь не знать такую личность, как Мик Григорьич.
У Марка криво изогнулся край губ.
— Конечно. Вижу по лицу. Так вот, истинно сподобных нас было очень немного. И все мы чувствовали друг друга. Мы отпечатлялись друг в друге своими интуивами. Почему мы тебя никогда не чувствовали? Почему ты не отпечатлился в нас? Не знаешь? Знаешь ты. И я теперь знаю. Мик Григорьич отъединил тебя от нас. Это он поставил энергозаслон. Он изолировал тебя от всего мира. Потому, что ты опасен для людей. Ты — антисподобный. Ты — интуивная химера. А теперь заслон разрушен, благодаря взрыву бомбы, коллапсу. Надолго ли — не знаю. Но, если не хочешь беды для себя, не трогай нас. Забудь о нашем существовании. Прикажи своей солдатне убрать оружие. Мы уходим. И мы уйдём.
Этот наш путь через школьный двор до ворот я потом много раз мысленно пытался пройти по-другому. Наверное, его можно было пройти по-другому. Но уже ничего не исправишь. И мы прошли его так, как прошли…
Мы шли медленно, уверенно, внешне спокойно. Я замыкал шествие, обернувшись назад, в сторону безмолвной толпы с поднятым оружием. Я смотрел на них на всех сразу, не мигая, от напряжения в затылке у меня пульсно покалывало. Пока я держу их в поле зрения, они не выстрелят, не должны выстрелить.
А другая часть моего сознанья работала над сотвореньем барьера, невидимого щита, который отразит пули, если они всё-таки начнут стрелять. Я не знал, получится ли барьер, сможет ли он защитить нас. Я не имел понятия, как его создавать. Я просто мысленно воображал его вокруг нас.
Пенёк обернулся на меня, всё понял и стал делать то же самое. Не сговариваясь, мы разделили школьный двор со всем народом на две части: я держал под прицелом своего взгляда левую половину вместе с крыльцом и стоящим на нём «зиждителем», Пенёк — правую, где было наибольшее скопление солдат. Вместе наши усилия, наверное, увенчались бы успехом. Но мы сделали ошибку, отстав от идущих впереди Велы с Лёнчиком. Ворота были уже близко, мы проходили мимо какого-то маленького строеньица, кажется, трансформаторной будки.
В это время случилось непредвиденное. Услыхав шум и вскрики, я быстро повернул голову. Впереди мелькнули три огромные фигуры спецназовцев, выскочивших из-за будки. Один из них ударом локтя сбил с ног Велу, схватил Лёнчика, стиснув его под мышкой, словно куклу, бросился с ним назад в обход нас к школе. Двое других помчались следом, очевидно, для подстраховки.
Это произошло молниеносно, мы с Пеньком от неожиданности слегка опешили и не успели пересечь им путь.
Пенёк среагировал раньше меня. Сбросил рюкзак с плеч, разъярённо рыча, ринулся за верзилой, тащившим Лёнчика. Глянув на Велу — цела ли? — вроде цела, пытается подняться — я устремился за убегавшими. В несколько невероятных прыжков Пенёк догнал одного из солдат, сшиб его с ног и, не замедлив хода, продолжал настигать верзилу. Тот, которого догонял я, обернулся, что-то мелькнуло у него в руке — нож? — не похоже, да и какой нож остановит меня сейчас… Я размахнулся для удара, я чувствовал, что одним ударом смогу убить его, проломить ему голову, силы у нас уже были нечеловеческие — кулак мой во что-то попал, но я не увидел во что, перед моим лицом вспухло сизое облачко… Кинжальный огонь резанул по глазам, по гортани, по лёгким — всё вокруг зашаталось, померкло. Газ… это баллончик был у него — успел прыснуть…
Голова раскалялась и раскалывалась на обломки. Я стиснул ладонями виски, вмял пальцами глаза в глазницы — словно вывернул взгляд внутрь себя, словно возопил внутрь себя: «Не-е-е-а!.. Впе-рё-ё-о-о!.. Ты-ы-ы-а-а!..»
Я смог не потерять сознание. Смог разлепить веки, сквозь кипящую пелену в глазах разглядеть окружающее. Но ноги мои налились свинцом, я не мог не только бежать, но и двигаться, попытка шагнуть свалила меня на колени.
Пытаясь подняться с колен, удержать равновесие, я увидел… словно в плывучем сне… впереди себя… увидел всё, что произошло дальше… Всё замедлилось, застопорилось, лишилось достоверия. Вязкий мерещный бедлам: школа, школьный двор, люди в форме, с оружием… стоящие перед ними Пенёк, Лёнчик, валяющийся верзила… Пенёк, конечно, догнал его — теперь верзила никому не опасен. К Пеньку подбегают ещё трое солдат — один остаётся лежать, двое других отступают… Что теперь? На Пенька набросится вся толпа? Толпа недвижима…
Что случилось? Резкие, дикие звуки, почти незнакомые для моего смятого сознания. Что? звуки? выстрелы… Выстрелы!? два одиночных — вскрик Лёнчика. Лёнчик сгибается пополам… Движенье Пенька к Лёнчику — Лёнчик сбит на землю… частая очередь… Пенёк, как в странном танце, выгибается дугой, замирает, падает сверху на Лёнчика… Пе-нёк! Невыносимо длинная секунда-пауза — сейчас… сейчас будут выстрелы… выстрелы по нам — как же так? невозможно! Что? выстрелов нет… Нет? Может быть, не потому, что их нет. Потому что их поглотил звук: неслышимый страшный звук… теперь — и слышимый… Откуда? чей? что? голос? Не голос, ничего похожего на голос, звук, издаваемый не человеком. Кричит Вела… Вела! Та, кем стала Вела…
Незнакомая бледная, всклокоченная женщина с пятном крови на лбу пробегает мимо. Жесткая незримая волна задевает меня, электризует мою кровь, заставляет сердце колотиться о рёбра. Я выпрямляюсь, кое-как переставляя неподъёмные ноги, пытаюсь идти за ней.
Я смотрю на Велу, опускающуюся на колени рядом с лежащими Пеньком и Лёнчиком… на оцепе-невших солдат с поднятыми автоматами, нахожу примёрзшую к крыльцу фигурку «зиждителя». Выстрелов нет — звуков нет — ничего в мире нет — нету и крика Велы… крик оборван. И молчание Велы оказывается страшнее крика.
В воздухе вокруг неё — бесчинство полувидимых искрянных вихрей, тёмных размывов, смутных светов-теней. Вела наклоняется к лежащим, поворачивает на спину Пенька, тормошит Лёнчика…
Секунды раздираются, вытягиваются в бесконечность…
Вела смотрит на свои ладони, окрашенные кровью… не узнавая. Я не вижу сзади её глаз. Я тороплюсь к ней, отрывая от земли ноги-болванки.
Скорее, скорее… Иначе…
Вела, поднимает взгляд на толпу, на крыльцо, на здание школы… Я не успеваю. Я слишком поздно добираюсь. Я хватаю её за плечи, чтобы встряхнуть, повернуть к себе… Плечи её — жёстче дерева, лицо — неживо, хрупко, как тонкая фарфоровая маска. Я понимаю, что её уже нельзя трогать. Я опускаюсь на землю рядом. Я лишь смотрю, куда смотрит она. И в поле её взгляда происходит ужасное.
Ближайшие к нам солдаты задёргались в странных конвульсиях. Лица их исказились дикой болью и страхом, быстро сделались красно-багровы, коричневы, потом помертвели, обесчувствелись. Одежда их вспучивалась, словно раздуваемая изнутри ветром. В оседающих на землю телах быстро проступало что-то, меняющее цвет… что-то прорывалось изнутри наружу — огонь. Они вспыхивали уже мёртвые: неведомый огонь возникал глубоко в них, выжигал их изнутри и, высвободившись из их тел, охватывал уже открытым факелом кожу, одежду, волосы…
Раздавались смятые всхрипы сгоравших. Вся остальная толпа пребывала в тяжком оцепененьи. Лишь некоторые пытались сделать судорожные шаги, чтобы удалиться, но ноги не подчинялись им. Некоторые смогли нажать на курки автоматов. Выстрелы слышались доподлинные. И перед нами в воздухе засверкали тонкие брызги горящего металла. Пули, вонзаясь в невидимую твердь-пустоту, плавились, вскипали, оставляя после себя лишь слабые шлейфики дыма.
Количество человеческих факелов стремительно увеличивалось. Несколько солдат, находящихся от нас дальше всего, смогли преодолеть оцепенение, они неровными мучительными шагами подались со двора. Но уйти им не удалось. Уже в отдаленьи, на повороте за здание школы они скорчивались и падали на землю.
Смрадный коричневый дым от сгорающей плоти плыл над школьным двором.
Я потряс головой, не веря тому, что видел. Повернулся к рядом сидящей неподвижной Веле — она была бледна до голубизны. Глаза — расширенные, немигающие, выдвинувшиеся из глазниц… глаза не её — не Велы — не человека.
Она смотрела на школьный двор, медленно обводила его взглядом и вряд ли видела, что там творилось. Но несусвет, происходящий там, начинался из этих глаз. Я с отчаяньем понимал это и понимал, что ничем не могу никому помочь. Я чувствовал, знал, что, если трону Велу, как-то воздействую на неё, она просто умрёт.
Через минуту — другую на школьном дворе не осталось уже никого в живых. Но неведомое энергобезумие продолжалось.
Прозрачное нечто перед нами, твердь-пустота, которую не могли пробить пули, взбесившийся воздух, прокатившись по школьному двору, превращая сотни людей в чёрные дымящиеся мумии, двинулся дальше, через здание школы. Со звоном лопались, вылетали стёкла из окон на всех этажах, слышался шум падающих предметов, хлопки рвущихся ламп-светильников, деревянный скрип, металлический скрежет. Дощатое строение оранжереи вспыхнуло, как спичечный коробок. Вскоре языки пламени показались из школьных окон. Нас хлестнули резкие порывы ветра, возникшие, вероятно, от перепада давлений. Один из них чуть не снёс нас с места. Вела наклонилась вперёд и, если бы я не придержал её, сильно ударилась бы головой об асфальт. Она вновь выпрямилась, посмотрела на меня совершенно безумным отсторонним взглядом. Внутри меня вдруг раскалённым выплеском ошпарилось сердце, смялись лёгкие, заперлось дыханье. Когда она отвела взгляд, я с трудом отдышался. Что сталось бы со мною от этого взгляда, если бы я не был таким же, как она.
Невидимая убийственная волна, оставив за собой горящую школу, двигалась дальше по улице. Быстро чернели, обугливались кроны деревьев, звенели-лопались стёкла в окнах, трещал, рассыпался шифер на крышах, загорались красным огнём деревянные строения. Волна шла уже сама собой, не подчиняясь ни Веле, ни мне. Докуда она дойдёт, каких ещё натворит бед, мы не знали.
Вела, попыталась подняться с земли, зашаталась, без чувств, без сил упала мне на руки.
Я поднял её, отнёс со двора к спортивной площадке, уложил на мягкую траву. С тревогой прислушался к её дыханью: кажется, дышит ровнее. Хорошо, что она потеряла сознание. Сейчас ей самое время отключиться.
Бегом вернулся к неподвижным Пеньку с Лёнчиком. Пенёк лежал на спине в луже крови. Остановившиеся глаза его смотрели в небо. Ничем уже не помочь.
— Э-эх, Пенюша!.. — острой тоской у меня стиснулось сердце.
Лёнчик был жив, судя по едва уловимому пульсу, но очень плох. Пуля прошла через лёгкое навылет. Крови вытекло много. Хотя кровотечение уже прекратилось.
Я поднял его на руки, отнёс на зелёную траву к Веле. Потом возвратился к тому месту, где мы бросили рюкзаки, за нашей походной аптечкой. На ходу ещё раз оглянул жуткую картину школьного двора: валяющиеся как попало, друг на друге, в самых разных позах чёрные головни — останки бывших людей. Гос-споди! Как же так! Они… Мы… Чего ради? Помешательство… Наважденье…
Но я не задержался с раздумьями. Нужно было спасать своих. В первую очередь, Лёнчика. Что? Перевязать рану, сделать обезболивающий укол, привести в чувство… Мои познания в скоропомощной медицине были весьма необширны.
Лёнчик находился в глубоком бессознательном шоке. Нельзя его тормошить. Но и ждать, медлить нельзя. В больницу бы его срочно, на операционный стол… Какая здесь, к чёрту, больница!
Я по-настоящему испугался и растерялся. Если что, не дай Бог!.. с Лёнчиком… Никогда себе не прощу… Что делать? Надо скорее — нести его… Куда?!
Лоб мой покрылся холодным потом. Я встал, огляделся, выбирая направление. В отчаяньи поднял голову кверху. Прямо над нами в прозрачной голубизне парила Стая. Из серебристо-блестящей она сделалась тёмной, похожей на дымный сгусток с пульсными фиолетовыми просверками.
— Ну что висишь, созерцательница хренова?! — зло заорал я на неё, — Любуешься, сволочь! Нравится картина? Небось, сама всё подстроила. Т-ты!.. Отрыжка высшего разума! Ты нас привела сюда. Помоги же, Бога ради! Ребёнок умирает! Что делать?!
Стая висела неподвижно, но сверкание в ней участилось, сделалось ярче. Неужели, в ответ на мои слова? Затем она принялась снижаться, зигзагово раскачиваясь, резко меняя цвета своих просверков: фиолет — серебро — медь — кобальт — рубин… С явными усилиями преодолевая ещё не утихшее энерго-бесчинство вокруг нас.
Я опять, во второй раз с тревожным удивлением разглядел вблизи её внутреннюю структуру: мириады мерцающих продолговатых элементов изменчивой формы, размера, цвета; элементы быстро, беспрерывно складывались в какие-то непонятные узоры-картины, картины рассыпались, собирались вновь, по-новому. Они были живыми и жили своей странной жизнью. Они составляли одну систему, один организм; организм, скорее всего, неорганический — энергетический, информный, какой-нибудь ещё… и организм, наверняка, небезразумный, во всяком случае, функционирующий по какой-то логической целесообразной программе. И программа его деятельности привязана к нам. Стая занималась персонально нами. Она встретила нас там, по ту сторону Каймы. Она сопроводила нас сюда и наблюдала за всем происходящим. Вот только вмешаться в происходящее она не сочла нужным, не захотела. А может быть, не смогла? Вероятно, Стая — не всесильна. Я вспомнил, как высоко она висела сегодня над школой. Возможно, её активная энергетика не смогла преодолеть тот дикий энергоинформный хаос, который сотворили мы, «зиждитель», все его люди. Даже сейчас она снижается с трудом и, как показалось мне, с неохотой.
Стая всё-таки снизилась, уплотнилась над Лёнчиком, уменьшилась в размерах. Потом быстро окутала лежащего Лёнчика, так, что его стало трудно различить в дымных размывах, в переливчатой кутерьме кусочков линий, спиралей, зигзагов, запятых-закорючек, в россыпях тонких колючих искр. И к тому же Стая вдруг зазвучала. Несколько густых консонансных аккордов из не совсем звуков… из звуков, несущих, кроме собственного звучания, акустических волн, что-то ещё, что не могло восприняться никакими органами чувств и воспринималось непосредственно мозгом, сознаньем, душой, то есть сущностными началами человека.
Это звучанье со своими подзвуками, надзвуками, внутризвуками… чем там ещё, плюс — завораживающее мерцанье, переливы-извивы неожиданно унесли меня из действительности, из текущей точки бытия. Куда? Я не сразу понял куда. Ну конечно… Эти аккорды были знакомы мне. Я уже слышал их — давно. Они только однажды прозвучали во мне в странной, тревожной связи.
Будь я постарше тогда, я бы, может быть, принял это, как знак, как веленье. Но я был юн и беспечен. К тому же, эти звуки были не из действительности, а всего лишь из моего сна. Я запомнил их, впечатлился ими и благополучно забыл. До сегодня. Боже!.. Понять бы мне тогда до конца, что увидел я в своём сне!
Это была последняя ночь в Зге перед нашим отъездом, перед нашей повальной эвакуацией. Завтра утром прибудет много-премного машин: автобусов для людей, грузовиков для вещей, и жители Зги покинут свой город. Мне было восемнадцать. Я предвкушал новую жизнь, новые впечатления. Я долго не мог уснуть, ворочался на своём диване и слышал, как за стенкой тихонько переговариваются мои родители. Я всё-таки уснул, и мне приснился полёт. Полёты во сне — обычное дело; что там во сне, когда мне и наяву доводилось летать.
Но то был совсем другой полёт. Я спасался от чего-то невразумительного, металлично-пластмассо-чешуйчато-кожистого, то ли машины, то ли существа, смехотворно нелепого «рыбо-летучемыше-вертолёто-планера». Но мне было не смешно, а досадно и неприятно. Эта штуковина пыталась догнать меня, не чтобы причинить вред — напротив, чтобы посадить на спину… взять на борт, словом, помочь мне лететь дальше. Поскольку сам я, в её понимании (она, оказывается, и понимать могла), лететь не мог, не умел, не хотел и не знал куда. Но я — мог, умел, хотел и знал. И поэтому всячески старался от неё отделаться, оторваться: закладывал крутейшие виражи, взмывал свечкой вверх, падал вниз камнем, прибавлял скорости. Она то отставала, почти исчезая у горизонта, то вдруг нагоняла меня — дурная назойливая махина — пыхтела, сопела, тарахтела, посвистывала за спиной.
Эти гонки были бесконечны, я устал от них и разозлился на себя. «Не можешь избавиться от какой-то неуклюжей коряги! Тогда лети с ней, пускай везёт, раз хочет». «Коряга» мгновенно услыхала мои мысли, услужливо подлетела снизу, и я уселся на тёплую, гладкую… кожу ли… чешую ли… обшивку ли…
Дальше полёт был спокоен и плавен, я отдышался, пришёл в себя, с любопытством оглядывал всё вокруг — куда это мы направились?
Но вокруг нас быстро темнело, наволакивались холодные тучи, не видать стало ни солнца, ни звёзд, ни Земли, даже свои вытянутые ноги я скоро перестал различать сквозь войлочный туман. Даже мысли, желания мои начали притупляться, затягиваться серой пеленой. Я терял ощущенье пространства, времени, самого себя.
— Да что же это! — собрал я всю свою волю, все остатки сил, — Скорее прочь отсюда! Убрать, прогнать эту живую-неживую гадость. Уб-бить… Разрушить, уничтожить её!
Я вскочил на ноги и стал озлобленно молотить пятками по тому, что было подо мною. Я лупил кулаками по полу-твёрдой полу-мягкой поверхности. Я пытался даже грызть зубами её. В руках у меня, откуда невесть, очутился нож, и я немедля всадил его в это…
Я почувствовал, что скольжу вниз. Тучи закончились, и внизу открылась земля с высоты орлиного полёта. Нелепое машино-животное подо мной вдруг развалилось на мельчайшие кусочки, исчезло, как ни бывало вовсе.
Но мне было не до радости, по этому поводу, потому что я падал. Я не мог, не умел летать. Я понял с изумленьем-ужасом, что это гнусное создание каким-то подлым образом украло мою способность к полёту, пока несло меня на себе. И, что со мной сейчас всё будет кончено…
Внизу я видел родную Згу, об которую мне суждено разбиться. Зга была очень красива. Яркая, ласковая зелень бесчисленных деревьев, цветные мозаичные квадратики крыш, блескуче голубая ленточка речки Згинки, прохладно лазурные пятнышки озёр.
Я смог разглядеть эту красоту и раньше времени не умер от страха, потому что вдруг услышал музыку, странную музыку, густые негромкие аккорды: во мне, в воздухе, всюду… Откуда она взялась? Впитывая эти аккорды, я падал — город наближался на меня…
То, что я увидел вблизи, было не так красиво, как с высоты. Совсем наоборот. Зелёная листва деревьев почему-то оказалась чёрной. И крыши домов почему-то были черны, изломаны. Я падал на какую-то школу, не мою школу, школу в другом районе города. Вид школы мне всегда был приятен, я любил школу и всё, что с ней связано. Но вид этой школы испугал меня больше, чем собственное падение. Она была выгоревшая вся дотла: проваленная крыша, закопчённые стены, мёртвые глазницы окон. Школьный двор: недобрые взблески солнца в битом стекле, обломки кирпича и шифера. Перевёрнутые, обглоданные огнём скамейки, бледный пепел цветочных клумб. И множество каких-то чёрных-чёрных больших уродливых кукол — целых… разломленных пополам… рассыпанных на куски… Ими покрыт почти весь школьный двор. Я падал прямо в их скопище. Что за дурацкие отвратные куклы? Откуда они взялись?
Я падал не стремительно, мгновенья были тягучими, как и полагается во сне. И мысли тоже. Я уже начал чуть-чуть понимать, что это за куклы… Но допонять не успел. И доупасть не успел. Меня раз-будила мама.
За окном ярко светило утреннее весёлое солнце. В это утро я покидал Згу. Мне было восемнадцать лет.
Лёнчик пошевелился, открыл глаза. Сделал попытку привстать. Стая поднялась над ним на несколько метров, повисла серебристым эллипсоидом и, удовлетворённо посверкивая, наблюдала за результатом своего действа.
Я подскочил к Лёнчику.
— Лежи-лежи. Всё в порядке. Ты как себя?..
— Голова кружится, — слабо проговорил он.
Я расстегнул на нём рубашку, осмотрел рану. Кровь подсохла, рана слегка затянулась. Я, как смог, перевязал его: обмотал бинтами, уложил снова, постелив на траву свою куртку и приспособив под голову свёрнутый в рулон спальный мешок.
Очнулась Вела, с трудом поднялось на локте, в страхе и растерянности воззрилась на нас.
— С ним всё в порядке, — поспешил успокоить я её, — Спасибо нашему другу, — кивнул я на Стаю, — Ты сама как?
Вела не слышала моих слов и не видела ничего вокруг, кроме Лёнчика. Я помог ей подойти к нему, она опустилась на траву, дрожащими руками трогала, гладила, обнимала его, осыпала поцелуями, удостовериваясь, что он жив. Несусветная бледность её разбавилась слабым румянцем. Глаза её уже были обычными женскими уязвимыми, полными слёз глазами. И уже невозможно было представить в них то — уму непостижимое, нечеловеческое…
— А Пенёк где? — обеспокоено спросил Лёнчик.
Пенёк… У меня вдруг мелькнула шальная мысль — надежда.
«Стая… Стая-спаситель. Волшебник… Может, она?..»
— Лежите здесь, не вставайте, — строго приказал я Веле с Лёнчиком. Поднял руки к Стае, как в шаманском ритуале.
— Ну пожалуйста! Прошу! Умоляю! Ты всё можешь. Попробуй, а? Если б ты знала, как это для нас!..
Я пошёл к школьному двору, то и дело оглядываясь на Стаю. Поняла ли? Похоже, что поняла. Стая медленно, на небольшой высоте тронулась следом. Благо, что со спортивной площадки было не видно двора, его загораживало пристроенное здание спортзала, пускай без стёкол, с обгоревшими рамами со шлейфами сизого дыма изнутри. Но печальная эта картина всё-таки не равна была той, которую являл школьный двор. Ни за что нельзя им на это смотреть. Вела мало что помнит, а Лёнчик не успел ничего увидеть. Лёнчик лежит и подняться пока не может. А Вела никуда не отойдёт от него.
Стая вслед за мной приблизилась к недвижимому Пеньку, распласталась в полуметре над ним. Через несколько секунд взмыла вверх, быстро сменила цвет с серебристого на тёмно-дымный и мерцание её прекратилось. Я понял — тяжко вздохнул. Чудес не бывает на свете. Хороших, во всяком случае.
Я поднял тело Пенька — до чего же он был тяжёлый! — понёс к своим на спортплощадку. Под болящими взглядами Велы и Лёнчика опустил его на траву.
— Вот так, — глухо произнёс я, — Был человек… Если бы не он — неизвестно, как бы все…
Вела с Лёнчиком застыли в молчании, ещё до конца не веря, не понимая.
— Будьте здесь. Не бойтесь. Уже всё прошло. Я поищу лопату. Надо похоронить.
Глава девятая
— Так оно всегда получается, дружок. Стараешься, как лучше, а получается хуже.
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
Третье наше утро в Зге было дождливым, пасмурным.
Встретили мы его в чужом случайном доме, в котором расположились, чтобы прийти в себя от последних событий. Вела с Лёнчиком ещё спали. Я вышел на крыльцо под узкий навес, вокруг плясали тонкие прохладные дождевые струи. Огляделся. Обычный одноэтажный дом на обычной окраинной улочке. Дом был в порядке, улица была в порядке, деревья были, как деревья… Но там в конце улицы за поворотом, и за другим поворотом, и за тополиной аллеей осталась вчерашняя школа… осталось всё вчерашнее.
Там у ограды — небольшой холмик земли — временная могила нашего Пенька. Он похоронен в собственном спальном мешке. Будет срок — мы его перехороним на кладбище, как подобает.
После этой печальной работы мы покинули догорающую школу, покинули не через ворота, а с другой стороны через калитку в сетчатой ограде — лишь бы не очутиться вновь на страшном школьном дворе. Я нёс Лёнчика на руках, а Вела ковыляла следом. Мы отошли на приличное расстояние от района, подвергшегося Велиному воздействию и наконец остановились в этом заброшенном доме на беспризорной улочке. Мне пришлось ещё раз вернуться к школе за нашими рюкзаками, и лишь после этого мы смогли спокойно перевести дух.
Состояние Лёнчика поразительно быстро улучшалось, но он был ещё слаб и двигаться сам не мог. Ждать, пока он совсем поправится, тоже было нельзя: неизвестно, что произойдёт в Зге за это время, тем более, после вчерашнего. Поэтому решено было до утра нам побыть вместе, а утром мне одному отправиться к Стволу, возможно, что-то выяснить или что-нибудь предпринять.
Утренний дождь был мне не помехой, у меня имелся дождевик, непромокаемые ботинки. Я был готов выступить, я стоял на крыльце, размышляя: разбудить Велу или не надо, пускай уже выспится. Записку что ли написать?
Вела вышла на крыльцо, избавив меня от сомнений.
— Уже? Такую рань? Ты ел что-нибудь?
— Ел. Сами поешьте. Из наших запасов ещё две банки тушёнки, три батона, сыра немного.
— Будь осторожен. Очень тебя прошу.
— Не волнуйся. Вы тоже — повнимательней. Хотя, не думаю, что кто-нибудь теперь сможет быть для вас… всерьёз опасен. Но… Вдруг что, сконцентрируй, отправь мыслепосыл. Я пойму.
— Думаешь — получиться?
— У нас теперь всё получится. Всё будет хорошо.
— К вечеру вернись. Мы будем очень ждать.
— К вечеру обязательно. Если не раньше. Ну всё, пошёл я.
Я обнял её, прижал к себе. Маленькая, слабая, уставшая от невзгод женщина… Что нужно, чтобы сделать её счастливой? Чтобы глаза её навсегда остались её чудесными ласковыми глазами. Чтобы, не приведи Бог, из глаз этих вновь не изошло то…
Я запер штакетную калитку на крючок и быстро зашагал по улочке. Улочка вывела меня на широкую улицу, одну из сквозных улиц, которая переходила в загородное шоссе. Теперь — прямая дорога до центра и до моего родного района. И где-то там, между ними должны располагаться здания научно-исследовательского комплекса, станции зондирования, зона Ствола и сам Ствол. Так, по крайней мере, нам было объяснено провожавшими нас за Кайму, и так это изображалось на карте. Минут за тридцать — сорок дойду. Зга — маленький город. Всё рядом.
Дождевые капли лупили по старому асфальту, шуршали по моему дождевику. Под ногами пузырились многочисленные лужицы. Но идти мне было легко и даже приятно. Несмотря на всё происшедшее. Несмотря на то, что пришлось оставить Велу и Лёнчика. Несмотря на полную неизвестность впереди. Дождь всегда неплохой утешитель. Дождь не обманщик, он не обещает радостей и побед, которые почти никогда не сбываются. Он обещает покой, который сбывается почти всегда. Потому что покой — в человеке, а не вне его.
У меня не было никакого плана действий. Я понятия не имел, с чем встречусь и как поступлю. Я просто надеялся, даже верил, что худшее уже позади. Не может же нам быть хуже, чем было вчера. Всё будет хорошо. Я обещал Веле. Значит — будет. Значит, я — отвечаю за это.
Никого не попадалось мне навстречу. Никто не догонял меня. Безлюдный дождливый город. Знакомый и чужой одновременно. Реальный и призрачный. Открытый, простой и доверчивый, как в прежние годы. Заколдованный, втиснутый в невидимый панцирь, заклятый печатями диких тайн. Моя Зга…
Я прошёл мимо автобусной станции, на которой не было ни одного автобуса, ни одного человека. Ступил на центральную площадь — попросту расширенную часть улицы, по обе части которой стояли осанистые здания местных управлений, поблёскивал стёклами универмаг, почивал на своих разлапистых колоннах дворец культуры.
Ничего не изменилось на площади. Лишь деревья стали гуще, никем не подрезаемый кустарник газонов беспорядочно разросся-разветвился. И — всё изменилось. Всё словно покрылось маревом отчужденья. Потому, что не было главного в городе — людей.
Чем дальше я шёл, тем больше портилось моё настроение, тем сильнее давило на меня это безлюдье. Я старался не думать об этом. Скоро всё должно проясниться. Должно…
Дождь прекратился. Я снял мокрый дождевик, встряхнул, сложил его, затолкал в висящую на плече сумку.
За площадью мне надо будет повернуть направо, на улицу, которая выведет меня прямиком к научному комплексу и к самому Стволу — конечной цели нашего путешествия. Наверняка, конечной. И обязательно, непременно там в конце отыщется и начало. Новое, благое начало.
Площадь оказалась не совсем безжизненной. Перед поворотом стояла рыжая грустная собака и ждала меня. Вислые уши дворняги чутко подёргивались на звуки моих шагов. Она переступала лапами в нетерпеньи. Я ей зачем-то был очень нужен. Я шёл слишком медленно.
Выглядела собака немолодо и нездорово. Худые, впалые бока, блеклая, свалявшаяся шерсть, серая проплешина на спине, низкая усталая посадка головы, вялый потёртый нос. По всему — жилось псине здесь трудновато.
— Привет, земляк! — бодро возгласил я, — Или землячка. Как твои собачьи дела? Вижу-вижу, что не блестяще.
Собака подняла голову, внимательно глядя на меня снизу вверх. Встретившись с ней глазами, я вздрогнул от неожиданности. Во взгляде собаки было очень мало собачьего. Бессомненно человеческий испытывающий взгляд, многослой-многосмысл: человеческая печаль-пониманье, печаль-предвиденье, печаль-неотвратимость. Для животных нет неотвратимости, она не может осознаться ими.
— О-о-о!.. дорогая… Похоже, что с тобою здешние безобразия тоже сыграли шутку. С чего это ты вдруг решила очеловечиваться? Неприятно и неприлично для уважающей себя собаки. Ты в самом деле всё понимаешь?
Собака как-то рыкнула-хмыкнула и кивнула головой.
— И говорить умеешь?
Собака покачала головой.
— Не умеешь или не хочешь?
Собака взглянула на меня с откровенной иронией.
— Да, конечно, — согласился я, — Думающая по-человечьи собака — уже ничего хорошего. А к тому же ещё и гавкающая по-человечьи: это — ты права — форменная пошлость. Ты предпочитаешь общаться молча?
Собака кратко кивнула на ходу, двинулась вперёд, приглашая меня за собой.
Мы миновали распахнутую калитку в узорной ограде Управления внутренним порядком, обогнули могучее трёхэтажное здание. Широкий, вымощенный бетонными плитами двор одного из самых строгих и опрятных в городе учреждений был захламлен пожухлой многолетней листвой, сухими ветками с окрестных деревьев и даже какими-то разноцветными обёртками, картинками-коробками, очевидно пригнанными ветром от соседнего универмага. Никто не управлял порядком ни в городе, ни во дворе Управления.
Собака остановилась у маленькой приоткрытой дверцы, ведущей в подвал и обернулась ко мне.
— Что? Это здесь, твои проблемы? Тебе нужна моя помощь?
Она торопливо закивала головой, взбалтывая ушами — забавно гляделись простые человечьи жесты в нечеловечьем исполнении. В глазах была просьба, решимость, больное сомненье. Удивительно легко читал я собачьи мысли, они просто перетекали в меня из почти не мигающих дегтярных глаз.
— Там, — показал я пальцем на дверцу, — тот, кто тебя очеловечивает? Вопреки твоему желанию.
Кивок головы, — Да.
— И сопротивляться этому ты не можешь.
— Да.
— Это враг твой? Он удерживает тебя силой?
— Нет.
— Друг твой? Хозяин?
— Да.