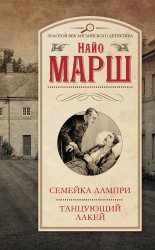Город Зга Зенкин Владимир

Поразмыслить было о чём.
Вторые сутки мы вчетвером бродим по этому лесу среди молодых, но удивительно пышнолистых деревьев, среди плотных колючих кустарников, по странно густой траве — с чего ей в лесу быть густой, без должного солнца? — и не имеем возможности выйти на равнину. За два дня мы не отдалились от Каймы и на километр. А запасов провизии с собой в рюкзаках мы взяли максимум на пять дней. Никто из нас ничего не понимает. Зачем, к чему, как? Откуда взялись пугальщики? Как обойти их? Как одолеть дикий нелепый страх, что они приносят? Что значит всё это? Мы не нужны здесь? Кому-то здесь мы очень мешаем? Мы — незванные гости? Кто-то… или что-то намерено не пропустить нас дальше этого леса? Не может быть, чтобы наш поход, едва успев начаться, бесславно закончился.
«Стоп, — осадил я себя, — Ну-ка давай без суеты, без истерик, медленно, по порядку. Всё — по порядку. По причинам. Должны быть всему причины».
Позавчера мы перешагнули Кайму. Всё прежнее, тамошнее, всё позади и уже разметено, размыто-забыто, и уже не существуют для нас вооружённые солдаты в пятнисто-ржавой форме, подозрительно-настороженные лица генералов Ниткина и Паслёна, чуть прикамуфлированные бодрым дружелюбием, грустно-недоуменное лицо Муравьёвой; она всё ещё до конца не верила. Взгляд Бейна… Что-то мелькнуло в его прощальном взгляде, что-то совершенно не свойственное ему, несовместимое с его чином, положением, характером — острая, отчаянная зависть. Наверное, он слишком глубоко, недопустимо глубоко проникся этим. Наверное, он многое отдал бы, чтобы оказаться одним из нас. И я единственному ему кивнул на прощанье, прежде, чем окунуться в белесый туман Каймы.
Никакого препятствия, никакого сопротивления я не почувствовал. Лишь терпкий встрепет-сквознячок воздуха по лицу. Лёгкий всплеск сердца. Да всплывающий звук — хлопок паруса под ветром…
Сразу же, с нескольких шагов мы очутились в этом лесу, в его буйном великолепии. Лес тянулся широкой полосой вдоль Каймы. Вернее, Кайма — вдоль леса.
Такой сочной зелени, такого обилия её полутонов, переходов, оттенков-отсветов, такой мощи растительных сил в лесу, я не видел. Листья обыкновеннейших деревьев: берёз, клёнов, лип, тополей были крупны, гладки, вычурны формой. Хвоя одиночных ёлочек-сосенок зелена до изумрудности. Словно здесь была не беспризорная лесная полоса, а какой-то особый заповедник, где каждому деревцу обеспечивался персональный уход лесовода-чудотворца.
Пенёк, острее нас чувствующий лес, больше нас удивлённый его подозрительной роскошью, сказал так:
— Что-то достаёт, выкачивает из него жизненные силы и тратит их впустую. Энергетика Каймы. Когда Кайма сюда добралась?
— Говорили — недели две, — вспомнил я.
— Вот. Две недели. Что сделалось с лесом за такой срок. Не обманывайтесь его красотой. Это плохая красота. Красота через край. После этого расцвета-разгула лес будет очень болеть. И, может быть, даже умрёт, зачахнет.
— Воздействует ли всё это на людей? — обеспокоилась Вела.
— Возможно, — рассудил я, — Но, думаю, всё же не настолько фатально.
— Будем надеяться, — заключил Пенёк.
Такова была первая загадка, явленная нам за Каймой.
Второй загадкой оказались пугальщики. Вот с ними необходимо разобраться срочно и досконально. Найти выход. Он обязательно есть, этот выход. Его не может не быть.
Я сидел на траве, прислонившись спиной к прохладному берёзовому стволу, и размышлял.
Итак — пугальщики. Явление здешней ненормальной среды, природы? Одно из воплощений случившегося? Или нашей психики? Скорее всего — и то и другое. Похоже, новая гипертрофированная Зга — Сущность сразу же оседлала нашу психику и вертит ею, как заблагорассудится.
Из наших четырёх сознаний извлечены образы, внушающие наибольший страх или отвращение, старательно материализованы и предъявляются персонально каждому из нас при попытке выйти за пределы леса. С образами всё ясно — каждому своё: Лёнчику — голливудский ужастиковый монстр, Пеньку, что терпеть не может металлических гремящих машин и механизмов — танк-разрушитель. У нас с Велой тоже подарки, так сказать, «по интересам», по вывертам нашей психики.
Неясно другое. Зачем? Чтобы мы не вышли из леса, не дошло до Зги? Странно. Зачем тогда нас пропустили через Кайму? Чтобы нас задержать, не пустить, избавиться от нас, выбрали бы более простые и надежные способы. Пугальщики не для этого. Для чего? Какая в этом система, какой смысл? Может быть, тот, кто создал пугальщиков, решил произвести впечатление? Показать, что нас здесь не ждёт радушный приём. Что наши цели недостижимы или очень труднодостижимы. Он нас не выгоняет. Он тактично советует убраться отсюда подобру-поздорову. Он напоминает нам, что мы простые люди, хоть и згинцы, что мы подвержены земным слабостям, страху, ужасу, что духовные и физические силы у нас не сверхъестественные, и поэтому у нас ничего не выйдет. Создатель пугальщиков предполагает, что…
Какая-то яркая незнакомая мне птица села на ветку берёзы совсем близко от меня. Птица была массивна, и ветка слегка прогнулась под ней. Не обращая на меня внимания, она чистила острым клювом блескучие жёлто-стальные перья, то и дело вздёргивая голову и оглядываясь, то распускала в веер, то собирала в плотный пучок хвост. При этом издавала тренькающие балалаечные звуки.
Я разглядывал её снизу. Птица реальна? Реальна. Хоть и неизвестного мне вида. Я не большой знаток птиц. Пугальщик реален? По виду — реален. По сути — нет. Реален, когда я приближаюсь к нему. А когда меня нет рядом, его тоже нет. Так. А для птицы я, в принципе, тоже пугальщик. Я для неё означаю опасность, когда я рядом. Когда я двигаюсь. Но когда она улетит от меня — я взмахнул рукой в сторону птицы, она с возмущенным присвистом сорвалась с ветки и взмыла вверх — я для неё тоже исчезну. Я так же реален для неё, как мой пугальщик реален для меня. С одной разницей — я существую сам по себе и без птицы, а мой пугальщик без меня не существует.
Я усмехнулся, покачал головой. «Вот теперь ты выдал что-то хоть чуть-чуть умное, а до этого нёс несусветную чушь. Пропустить через Кайму… задержать… произвести впечатленье… цель и смысл… Создатель пугальщиков предполагает… Создатель пугальщиков? Какой создатель?! Какие впечатленья?! Ты в своём уме? Ты рассуждаешь, как бравые генералы Ниткин и Паслён, что, от них понабрался? Опомнись!» Мне всегда нравилось читать себе нравоученья, как второму лицу. Для пущей убедительности.
«Вы сподобны, сопричастны этому миру. Вы должны стать частью его и забыть про себя прежних. Вы ещё не знаете, каков этот мир к вам, к вашим личностям — добр или зол (есть ли вообще тут такие понятия?) Вы должны не только восприять Згу-Сущность, какой какой бы она не оказалась, но и попытаться воздействовать на неё. Да помнить, что не бывает одностороннего восприятия и однонаправленного действа.
А вы принесли с собой мелколюдское: злость, суету, обиду, наверие… Вот оно! Вот именно! Это вы и притащили в себе ваш страх и тревогу, оттуда, из того мира. В том мире они вам были какими-никакими, а помощниками, охранителями, поводырями, они обеспечивали там ваше выживание. А здесь они — против вас, они помеха, они кандалы на душе и сознаньи. И пугальщики — обличья страха; вы их тоже сами с собой притащили. Не избавитесь от этой мерзи, не станете истинно сподобными — значит зря сюда пришли. Значит — всё зря».
Я поднялся с травы и направился вглубь леса к месту нашей стоянки. Издалека до меня долетели звуки голосов, слишком громких, возбуждённых голосов, шум какой-то возни, треск ломаемых сучьев. Я встревоженно прибавил ходу.
«Идиот! Оставить их одних в незнакомом месте! Мало ли, что может…»
На поляне около палатки стояли Вела с Ленчиком размахивая руками, что-то кричали Пеньку, а Пенёк вытаскивал из леса на поляну какого-то человека. Человек сопротивлялся, хватался руками за ветки деревьев, обламывая их, что-то испуганно бормотал. Пенёк, при своём малом росте обладавший нешуточной силой, волок его на середину поляны.
— Эй ты, интурист! — напустился он на меня, — Где тебя носит? Верёвку давай скорей, связать его надо.
— Кто это? — изумился я.
— Сейчас разберемся. Верёвку давай.
Я принёс веревку из рюкзака, мы связали пленнику руки и ноги, не слишком туго, не стяжкой, чтобы он мог ими слегка двигать, но не мог развязаться и убежать.
— Объясните же, наконец, в чём дело.
— Это ты, дорогой, объясни в чём дело, — обиженно сказала Вела, — Куда ты пропал так надолго?
— Я же говорил — хочу поразмыслить немного, разобраться. Я был здесь недалеко, — о том, что я в одиночку ходил к своему пугальщику, я благоразумно умолчал — иначе, не сдобровать бы мне.
— Это называется немного! — возмутилась Вела, — Мы же волнуемся…
— Виноват, извините. Но зато я кое-что понял.
— Что же ты понял такое? — раздражённо спросил Пенёк.
— Потом. Вы мне про это расскажите, — кивнул я на пленника.
Выяснилось следующее. Собирая дрова для костра, Пенёк вдруг заметил в лесу человека. Человек прятался в зарослях, перебегая с места на место, наблюдал за происходящим на поляне. Хитрым манёвром Пенёк обошёл человека сзади, подкрался, сцапал за шиворот и вытащил на общее обозрение.
Человек выглядел диковато. Одет он был в изрядно потрёпанную грязную рубаху-ковбойку, в джинсы-полулохмотья. Бесформенная, многодневной небритости борода, густые спутанные волосы. Потемневшая от ветра и солнца кожа. Но кожа горожанина, еще не успевшая деревенски загрубеть. По промелькам в глазах угадывался ум, образованность, интеллигентность. По промелькам. Потому что всё остальное между этими самыми «промельками» занимал страх.
Человек был не просто испуган. Человек был жестоко болен страхом. Он вздрагивал всем телом при каждом шорохе или резком движении, поминутно озирался вокруг. Ожидал нападения? Искал убежища? Страх глодал его изнутри, а источник страха был где-то снаружи. Это были, очевидно, не мы, на нас он смотрел вполне спокойно, но его очень нервировали верёвки, которыми он был связан, он постоянно дёргал руками-ногами, ворочался, пытаясь освободиться. Верёвки мешали ему убежать, спрятаться от чего-то гораздо более страшного, чем мы.
Я улыбнулся ему, аккуратно коснулся его плеча.
— Успокойся, мы все твои друзья. Мы пришли помочь тебе. Сейчас мы тебя развяжем, и ты будешь делать всё, что захочешь. Можешь, конечно, убежать, но лучше останься с нами. Вместе легче и веселей.
Он заговорил что-то невразумительное, заёрзал, протянул ко мне связанные руки.
— Но вначале скажи, что с тобой произошло? Чего ты так боишься?
Он бормотал быстро, свистящим шепотом, произнося невнятные части слов. Отдельные слова угадывались, но в какойто смысл они никак не могли сложиться.
— Это, чего ты боишься, находиться там, за лесом?
— Оно не даёт тебе выйти отсюда, да? — я выговаривал медленно, громко, плавно, подавая ему пример. Он понял, отрицательно затряс головой, показывая руками в разные стороны, — Вле… левс… вез… всу… взед… взде… здев… везд…
— Что? Это здесь? В лесу? Везде? Но там ничего нет. Мы ничего не видим. Тебе просто кажется.
Он продолжал трясти головой, подскакивая на месте, в паническом нетерпении протягивая связанные руки.
— Сколько вас тут? Кроме тебя еще есть люди?
Он закивал утвердительно. Похоже, у него не было тяжкого умопомешательства. Вероятно, временный шок, затмение.
— Ты из тех, кого пропустила Кайма? Из тех, кто захотел вернуться? Мы поможем тебе вернуться. Мы идём в Згу.
Пленник вдруг заверещал благим матом. Глаза его округлились, губы побелели. Взвизгивая что-то сов-сем бессмысленное, он тыкал связанными руками в сторону зарослей, в сторону тучной зелёной ели, возвышающейся над другими деревьями. Ни под елью, ни вокруг неё ничего не было. Это для нас не было. Он отчаянно завертелся на месте, задёргался, силясь порвать верёвки, затем покатился по траве, любым способом пытаясь спасаться от чего-то одному ему ведомого. Вопли и взрыды его стали совершенно истеричными, мало похожими на человеческие. Мне ещё не доводилось видеть людей, объятых таким ужасом. От этого, наверное, и умереть можно.
Я схватил нож, догнал пленника, быстро перерезал верёвки у него на руках и ногах. Он вскочил, в несколько секунд добежал до зарослей и скрылся в них.
Я проводил его взглядом, затем повернулся к красавице ели, от которой он улепётывал. Глубоко вздохнул. Теперь я понял всё до конца. Действительно. Логично. Неизбежно. Если не мы — их, то они — нас. Третьего не дано.
Подошла встревоженная Вела, прижимая к себе за плечи Лёнчика.
— Боже мой! Что с ним? Он сошел с ума? Отчего он сошёл с ума?
— От страха.
— От страха? Чего он испугался? Здесь же ничего нет.
— Ошибаетесь. Сюда явился его пугальщик. Вон там он только что стоял, — я кивнул на роскошную еловую крону, — Вернее, двигался. К нему.
— Какпугальщик? — побледнел Лёнчик, — Пугальщики же там, за лесом.
— Нет, дорогие мои. Пугальщики не всегда будут там за лесом. Скоро они придут сюда в лес.
— Что значит, в лес? — осёкся голос Велы, — Что ты говоришь такое?
— Успокойтесь! — я не удержался от снисходительной улыбки, глядя на лица своих друзей, — Все будет хорошо. Я все объясню. Сегодня мы переночуем здесь у костра в нашей шикарной палатке. Хорошо поужинаем и выспимся. А завтра утром выйдем из леса. Обязательно выйдем из леса. И забудем про пугальщиков. Потому что наши пугальщики — это мы.
«Свино-гиено-крокодил» перетаптывался на кривых вывернутых ногах. С нетерпением ожидая, когда я подойду поближе. Я шёл, видимо, для него слишком медленно, и он, чтобы облегчить мою задачу, сам мелкими шагами двинулся мне навстречу. Уродина подросла за ночь и стала ростом с хорошего носорога. Несуразная вытянутая пасть с жёлтыми зубами занимала большую часть головы и могла при желании — а желание отчётливо читалось в лютых зрачках — перекусить меня пополам.
«Перекусить? Как бы не так!»
Я на ходу оглянулся назад. Вела с Лёнчиком и Пе-нёк стояли на опушке леса и, замерев, смотрели на мои действия. Рядом лежали наши упакованные рюкзаки, я бросил свой, чтобы потом забрать. В лес мы уже не вернёмся.
Я заставил себя, глядеть на чудище прямо, не отводя глаз, не мигая. Мне сделалось жарко. Маленькие алые пузырьки жары выбрасывались из сердца с его ударами, всплывали к мозгу и там лопались, расплёскивались, обжигали-застили сознанье чернильной алостью. Вязкий клубок тошноты возник внизу живота и покатился к горлу.
Вот он — его отвратное величество господин страх… всё же прорвался через выстроенные мною заслоны здравомыслия и логики. Но сегодня ты меня не возьмёшь, не ослепишь. Сегодня я сильнее. Отныне и навсегда, я — сильнее.
Мне ли пугаться этой дурацкой пустой химеры, фантома, неизвестно для чего сляпанного из ненормальностей, из тёмных причуд моей психики! Мне ли, родившемуся и выросшему в этой стране, где страх во всех его разновидах является частью бытия, стойкой примесью атмосферы! Где человек во веки необережён от любых мерзавств, обманов, предательств государства-общества. Где любая надежда, что завтра будет лучше сегодняшнего, соседствует с привычной опаской — не хуже бы было… В стране пугальщиков. Реальных пугальщиков, не таких, как этот зубастый «пшик».
Пшик? Зверюга был уже в нескольких метрах. Я слышал его жёсткое сопенье, какие-то гортанные хрипы-хрюки-взрыки. С чёрных складчатых губ на траву капала мутная слизь. Короткий хвост нетерпеливо дёргался. Густая шерсть на загривке встала дыбом. Задние ноги упёрлись копытами в землю и подгибались для прыжка.
Что-то мало походила на фантом, эта образина. В голове моей чиркнуло — вот эти зубы вонзаются в меня, разрывая кожу, плоть, дробя, выворачивая кости — боль-кровь-безумье-тьма-конец…
Мозг мой заливало алой жарою, а по спине брызнул холод. Колени стали размягчаться, как воск.
Но вместо оцепененья, вдруг невесть откуда рванула ярость, я с диким, отчаянным воплем, уже ничего не соображая, ринулся к зверю… вцепился в шею придушить, самому перегрызть его гнусную глотку. Я ощутил ладонями жёсткую шерсть, от разинутой перед моим лицом пасти пахнуло утробным смрадом. Я почувствовал удар в грудь, движенье, рывок его туши — живой горы из мышц, крови и злобы, для которой нет препятствий и я не препятствие.
Если бы не спасительный заряд ярости, я был бы уничтожен собственным ужасом раньше, чем до меня добрались бы зубы чудовища. Я с остервенением стискивал руками шею своего врага и знал, что я его не выпущу, ни за что не выпущу… даже когда меня не будет…
Темень. Мрак. Кромешный мрак. Свет. Не ослепительный. Спокойный, хороший свет. Небо. Облака. Густая спокойная трава. Ничего. Никого рядом. Я один. В отдаленьи у леса застыли фигурки моих друзей.
Я, тяжело дыша, поднял руки к лицу, посмотрел на них. Ладони были чистыми. Но из-под ногтей двух пальцев правой руки выступала кровь.
Мне хотелось опуститься на траву. Но я выпрямился, заставил себя широко улыбнуться. Махнул рукой остальным, громко закричал: — Э-э-й! Всё хорошо! Я говорил!.. Не бойтесь! Идите сюда! Вела, смелей! Я здесь! Всё получится!
Двинулись Вела с Лёнчиком, крепко взявшись за руки, плечо о плечо, одинаковыми нервными шагами. На лицах их даже издалека была видна отчаянная решимость. Я стоял на их пути, махал им руками, кричал, подбадривал. Но видели и слышали они совсем не меня. И чем ближе продвигались они к тому, что виде-ли, тем шаги их становились короче и неуверенней, а решимость их быстро исчезала. Вот они совсем остановились, по лицам разлилась бледность. Округлившимися, беспомощными глазами они смотрели на своих, незримых для меня, пугальщиков. Вела инстинктивно отодвигала себе за спину Лёнчика, Лёнчик, наоборот, стремился шагнуть вперёд, чтобы прикрыть мать. Ещё несколько секунд — и их разумный испуг перейдёт в безумную, неуправимую панику-ужас, от которой им уже не избавиться.
Я бросился к ним, вопя и рыча страшным голосом — никогда в жизни я так громко не орал.
— Впер-рё-ёд!! Не стоять! Вы-ы-а!! Впер-рё-ё!! Убейте их! Пор-рви-ите! Впер-рё-ёд, в-вашу!!. Я вас сейча-ас!!.
Очевидно, я своим оголтелым видом и рычаньем превратился в пугало уже идущее в сравнение с их пугальщиками, поэтому их внимание слегка отвлеклось на меня.
Подбежав, я грубо схватил их за шивороты, резко толкнул вперёд и заревел им уже в самые уши.
— Пор-рвите их! Убей-те! Они — ничто! Вы — звери! Монстры! Убий-цы! Рас-тер-за-ть!.. Впер-рё-ё-а!! Тва-а-р-ри-и!!.
Мой напор возымел действие. Моё остервенение передалось им. Они бросились вперёд, вопя и визжа, как бешеные орангутанги-людоеды.
Через несколько секунд всё было кончено с их пугальщиками. Вела с Лёнчиком зашатались в отключке сознаний и упали бы, если бы я их не подхватил. Я осторожно опустил их на траву. Они приходили в себя, удивлённо озирались, разглядывали друг друга и меня, ещё не веря, что живы.
— Поздравляю вас, господа хищники, — сказал я, — Дать вам волю — вы бы сейчас точно кого-нибудь слопали.
Потом мы все втроём наблюдали за подвигом Пенька. Ему наша помощь не понадобилась, злости-наглости в Пеньке было с преизбытком. Он шёл мерными неспешными шагами, наклонив голову вперёд, на своего заклятого врага, на танк под номером 863, словно вознамерясь протаранить его лбом. Лёнчик невольно хихикнул. Я улыбнулся. Но мы хорошо знали, что Пеньку сейчас не до веселья. Я представил, что творилось сейчас в его сознаньи, и поёжился. Но Пенёк продолжал идти, не ускоряя, не замедляя шага, только ещё больше набычась.
И он, наконец, протаранил свой танк, расшиб его на мелкие мерзкие железяки. Закачался, устоял на ногах, выпрямился, поднял голову, помотал ею, весь встряхнулся, как собака после купанья. Торжественно поднял вверх кулак в ответ на наши восхищённые возгласы.
Мы вернулись на опушку за рюкзаками. Присели, отдохнули перед дорогой. Оживлённо переговариваясь ни о чём, обо всём, кроме пережитого. Спокойно оглядывали окрестности: лес — картинно зелёную пышно взбитую пену, травянисто солнечный ковёр равнины, по которой нам двигаться дальше.
Взглянув на небо, среди перистых белых облаков я увидел необычное облако. Оно не двигалось, не плыло под ветром, как остальные. И располагалось оно чуть ниже, чем остальные. Облако мерцало неярким серебром и ртутью.
Стая. Вот он, наш наблюдатель. Наш экзаменатор.
Я поднялся на ноги, помахал Стае рукой под удивлёнными взглядами своих спутников.
— Привет, эй! Узнаёшь? Это мы! Ну как, сдали мы первый экзамен? А? Чего молчишь?
В облаке продолжалось спокойное движение искр, штрихов-зигзагов, светлых и темных пятен. Ничего не означали они. Или… Мне на миг показалось может, с нервного взбудоража — что-то сложилось в Стае. Что-то внятное… лицо? улыбка? Одобрительная улыбка? Насмешка — улыбка? Улыбка — обещанье? Мол, сдали-то вы сдали… Но ещё не самый трудный он, этот экзамен. Ох, не самый…
Тогда.
Мы с мамой ехали сперва автобусом, потом поездом и приехали в большой чужой город.
Нас встретила на вокзале тетя Света и на такси привезла к себе. Тетя Света была маминой подругой и жила в белом клетчатом доме на пятнадцатом этаже. С её балкона было далеко видно, дома вокруг стояли, как будто сложенные из детского конструктора, дороги походили на серые ленты, а машины и люди с высоты были маленькими и смешными.
Тётю Свету я неплохо знал, она приезжала к нам в Згу три раза, а мы к ней приехали впервые. Да и то мама хотела оставить меня дома с папой и бабушкой — дальняя дорога, незнакомый город и все такое. Но я твёрдо сказал, что хватит, что я уже взрослый, что мне уже стукнуло шесть лет, что я не боюсь дальней дороги и, что мне пора повидать мир.
В первый день нашего гощенья у тети Светы шёл дождь, и никуда нельзя было выйти. Поэтому я любовался на город с балкона, разглядывал игрушечную мокрую жизнь внизу: блестящий асфальт, ползущих по нему цветных жучков-автомобилей, железных гусениц-трамваев, густую зелень раскинувшегося невдалеке парка; из зелени выпирало «чёртово колесо», похожее на колесо от детского велосипеда.
Напротив, на другой стороне улицы располагался небольшой дом с большими гаражами, а в гаражах стояли пожарные машины. То и дело гаражи открывались, ярко красные с белыми полосами пожарки выруливали на улицу и уносились вдаль, иногда с включенными сиреной и мигалкой, иногда без.
Я смотрел и удивлялся — неужели в городе столько пожаров в такой дождь? А может быть, машины ездили и по каким-то другим важным делам.
А ещё я очень завидовал тете Свете, что её дом находится в таком приятном и полезном соседстве. С одной стороны — парк: катайся на шикарном «чёртовом колесе» столько влезет. С другой стороны — пожарка. Вдруг что — сразу приедут, потушат. Что ещё надо для счастья?
На второй день светило весёлое солнце, и мы вчетвером отправились гулять. Четвёртой была тети-Светина дочь, долговязая белобрысая Люська. Люська училась уже в пятом классе, смотрела на меня сверху вниз и разговаривала, как взрослая с малышом. Поэтому Люська мне сразу не понравилась. Я предпочёл бы обойтись без неё и шепотом сказал об этом маме. Но мама молча погрозила мне пальцем. Так что, мы отправились гулять вчетвером.
Мама и тётя Света хотели гулять по магазинам, а я и Люська хотели гулять в парке на аттракционах. Поэтому решено было совместить наши интересы: вначале зайти в расположенный неподалёку универмаг, затем проехать трамваем к другому универмагу, потом вернуться назад и провести остаток дня в парке. Этот план меня не очень устраивал своей универмаговой частью, но пришлось подчиниться и терпеть.
В универмаге было полным-полно людей. Вначале мы вчетвером бродили в людской толпе. Потом мама и тетя Света встали сразу в две длинных очереди за какими-то блузками и за какими-то туфлями. Я уже порядком устал и заявил, что не могу больше быть в этом ужасном универмаге. Но мама и тетя Света ни за что не хотели уходить без блузок и туфель. Поэтому они вывели нас с Люськой на улицу, посадили на скамейку у входа, приказав Люське никуда меня не отпускать, а сами помчались внутрь к своим очередям.
Сидеть на скамейке было, конечно, не то, что болтаться в универмаге, но всё равно скучно.
— Хочешь мороженного? — предложила Люська.
— А деньги у тебя есть?
— Есть, — гордо сказала Люська.
— Ну, давай.
— Тогда ты сиди, сторожи моё место. А то займут. Видишь — сколько народа? Я — щас.
Скамейки действительно все сплошь были заняты. Поэтому я остался, а Люська побежала искать мороженое.
Я сидел и ждал со спокойной совестью. Ведь это Люське было приказано не отпускать меня. А мне насчёт Люськи никаких распоряжений не было дано.
Я прождал, по моим понятиям, довольно долго. Люська не появлялась. Наверное, и за мороженым была очередь. В этом дурацком городе, наверное, за всем на свете были очереди.
Наконец мне надоело ждать, и я отправился искать Люську. Я был уверен, что, как только я зайду за угол дома, за которым она скрылась, я её сразу увижу. Но за углом тоже было полно людей, незнакомых людей, и никакой Люськи там не было. Я растерянно остановился, повернул назад. Наши места на скамейке уже кто-то занял. Я вернулся опять за угол.
Может, Люська пошла к тем стеклянным будочкам-ларькам? Или отправилась внутрь универмага? Я раздумывал, идти или оставаться на месте. Потом всё же направился к стеклянным будочкам, решив, что я быстрее разыщу Люську, если буду ходить, а не стоять на месте как пень.
Возле будочек, меня остановил какой-то незнакомый дядька.
— Мальчик, ты кого ищешь?
— Люську. Или маму с тетей Светой.
— А где они все ты знаешь?
— Люська пошла за мороженым. А мама с тетей Светой в универмаге в очереди.
— Тебя как зовут?
— Игорь.
— А откуда ты?
— Мы приехали с мамой из Зги к тете Свете в гости.
Дядька был очень высокий с очень лысой головой. Он присел на корточки, взял меня за плечи огромными ладонями.
— Игорёк! Ну конечно, это ты. Наконец-то я тебя нашёл!
— Я вас не знаю, — удивился я и повёл плечами, освобождаясь от его ладоней.
— Я друг тети Светы. Они все: и тётя Света, и твоя мама, и Люся, сидят в машине и ждут тебя. Они послали меня за тобой.
— Почему в машине? — ещё больше удивился я, — Они же были…
— Да-да, я их встретил там, отвёл в свою машину и мы все уезжаем.
— Куда?
— А куда вы хотели ехать?
— В парк, — без запинки выпалил я.
— В парк. Тут совсем рядом. Пошли быстрее.
У дядьки на лысой голове лицо было тоже лысое, без бровей и почти без ресниц, и нос был какой-то не такой — круглый приплющенный, и глаза были какие-то тоже не такие — маленькие и скользкие.
Не очень приятное было лицо, и я недоверчиво покачал головой.
Но дядька улыбался большим зубастым ртом, хлопал себя ладонями по коленям и говорил весело и слегка пискляво.
— Всё они уже купили и мороженое купили. Только ты гуляешь тут сам по себе. Пошли-пошли, Игорёк, мама ждёт.
Он взял меня за руку и быстро повёл через людское движенье куда-то в сторону, за соседний дом. Я не хотел идти, но почему-то пошёл. А вдруг в самом деле…
Он подвёл меня к машине с тёмными стёклами, открыл переднюю дверцу, поднял и посадил меня на сиденье, а сам, быстро обежав машину, уселся за руль, завёл мотор, и машина тронулась. Я оглянулся назад. Заднее сиденье было пусто.
— А где все?! — изумлённо разинул я рот.
— Ах да, — пискляво засмеялся дядька, — Ну конечно. Они ждали, пока я тебя искал. Им надоело, они взяли такси и поехали ко мне домой. Они будут ждать нас там.
— Вы врёте, — сказал я, — Мама не может уехать без меня.
— Поехали-поехали. Маме нужно было срочно позвонить по телефону. Тётя Света знает, где я живу. Они готовят вкусный обед и ждут нас. Вот увидишь. Мы быстро приедем, тут недалеко.
Мне очень не нравился этот дядька с носом-лепёшкой. Мне стало тоскливо и холодно. Я заёрзал на сиденье, решая, что делать, заорать, что есть мочи, чтобы услышали на улице… Или открыть дверцу и выскочить на ходу… Но как она открывается, эта дверца? И стёкла машины подняты — кто меня там услышит? Кроме того, я всё же надеялся, что дядька сказал правду, что скоро я увижу маму и, что, может быть, я зря испугался. В шесть лет человек ещё неискусен в причинно-следственной логике.
Ехали мы долго. Машина мчалась по широким шумным улицам, сворачивала в тихие улочки, в сов-сем безлюдные узкие переулки. Большие дома кончились, пошли одноэтажные, стоящие далеко друг от друга среди густых деревьев, как у нас в Зге. Машина нырнула в узкий проезд между деревьями, въехала в какой-то двор и остановилась против какого-то старого дома из бурых кирпичей. Окна были загорожены деревянными ставнями, дверь плотно прикрыта. Неухоженый, поросший травой двор был пуст. Я сразу понял, что внутри дома никого нет.
— Куда вы меня привезли? — всхлипнул я, — Где моя мама?
— Они все там, там, они все внутри, они заждались нас, давай быстрей.
Я хотел спросить, почему ставни закрыты и почему дом такой заброшенный, но дядька взял меня за руку и повёл к крыльцу. Не знаю, почему я не кричал и не вырывался, что-то такое было в противном дядьке, такое, что заставило меня молчать и следовать за ним. И несмотря ни на что, я всё ещё капельку надеялся, что, а вдруг мама действительно там…
Эта капелька разом пропала, когда дядька завёл меня в дом, захлопнул входную дверь, запер её на засов, через тёмный коридор втащил меня в комнату, включил свет, щелкнул ключом в дверном замке, положил ключ себе в карман.
Комната была большой, пустой и недоброй. В этой комнате ни за что нельзя было жить. И наверное, никто здесь не жил. Потому что, как можно жить в комнате, посредине которой стоит длинный стол, а на столе разлёгся огромный жуткий крокодил с разинутой пастью?
Чуть-чуть придя в себя от потрясенья, я понял — неживой крокодил, неподвижный, чучело, но обликом и свирепостью глаз точь-в-точь — живой, из тех, что я видел по телевизору.
У стены стоял тёмный шкаф со множеством ящиков. Сбоку от шкафа на стене висела картина. Большая цветная картина. Очень плохая картина. Страшная собака, или волк, или какой-то другой, неизвестный мне зверь — вздыбленный густой загривок, круглые уши, курносая морда, пасть с оскалёнными желтыми зубищами, злые-презлые глаза. Зверь, хоть и нарисованный, тоже был, как живой — вот-вот бросится с картины в комнату и…
— Нравится, Игорёк? — спросил дядька, нехорошо улыбаясь. Его улыбки я испугался больше, чем крокодилового чучела и зверской картины, — Вот здесь мы с тобой немножечко поживём. Столько, сколько сможем. А жизнь у нас с тобой будет совсем не скучная, да-а…
У меня дёргался подбородок, в горле стоял душный комок.
— Д-дяденька… отп-пустите м-меня к маме… — шептал я, не слыша своего голоса, — отпуст-тите меня к м-маме, я не хочу зд-десь… отпустит-те меня к маме…
Недалеко от стола с крокодилом на большом треножнике стоял фотоаппарат. А противоположная стена была завешена широким белым куском ткани. И трёхногий фотоаппарат, и белую ткань на стене я видел в фотографии, где недавно фотографировался с мамой, папой и бабушкой. А кого здесь будут фотографировать? Крокодила? Меня? Зачем?
— Зачем я вам нужен, дяденька? Отпустите меня к ма…
— А что, Игорюша, — продолжал улыбаться дядька — безгубный кривой рот — узкая щель меж расплюснутым носом и скошенным подбородком-не исключено, что ты и вернёшься к своей драгоценной мамочке. Ма-аленький шансик. Хотя…
Дядька подошел к шкафу. Достал из ящика, поставил на стол, какие-то пузырьки, какую-то баночку, стал что-то наливать из пузырьков в баночку. Потом из другого ящика достал большой шприц, опустил иглой в баночку и принялся наполнять его жёлтой жидкостью.
Я часто болел, и мне часто делали уколы. Я не очень боялся шприцев, даже больших. Но этот шприц в руках этого лыбящегося дядьки поверг меня в тоскливый ужас. У меня даже в глазах померкло.
— Не бойся, — сказал дядька, усаживаясь на стул, — этого не бойся. Это не тебе.
Он закатал рукав своей рубахи, какой-то резиновой трубкой стянул руку выше локтя, сделал себе укол. Я, ничего не понимая, зачарованно смотрел, как жидкость из шприца уходит ему в руку… зачем это он? Что будет?
— Теперь подождём, — дядька откинулся на спинку стула, прикрыл глаза.
Дядькина рожа порозовела, лепёшчатый нос ещё больше расплылся, на лбу выступили капли пота. Так он молча сидел несколько минут, похоже, забыв обо мне. А я отчаянно озирался на глухие закрытые окна, на запертую дверь, шарил глазами по стенам, по потолку, не зная, что предпринять. Что будет? Что дядька сделает? Зачем ему я?.. Как спастись из этой ужасной комнаты? Где же ты, моя мамочка? где же ты меня ищешь? почему ты не узнаешь, что я здесь? что мне страшно, что я…
Дядька вдруг резко вскочил со стула, с глухим мычаньем, с какими-то подхлипами-подвизгами повёл в воздухе руками, обхватывая, сжимая-стискивая что-то невидимое, раздвигая невидимые заросли. Потом приблизился и наклонился ко мне.
У меня мороз брызнул по спине, внизу живота защемило-закололо, кажется, я даже описался, когда вблизи увидел его глаза — маленькие, круглые, безблесные, плавающие в липкой больной мути, не выражающие никаких чувств, даже злобы, даже ненависти — им было всё равно, что вокруг делается, что сделается… я с каким-то уже не детским, утробным ужасом понял, что эти глаза… что хозяин этих глаз может сделать со мной всё, что угодно, что для этого я и здесь, что для этого он и привёз меня… что крокодил на столе — для этого… что мерзкий зверь на картине — для этого… что трехногий фотоаппарат — для этого… чтобы это… всё это сфотографировать, и что я… что мне — никогда — никуда… никуда… В голове у меня взвихрилась темень. Я почувствовал, что сейчас просто умру… умру, даже не дождавшись того, что сделает со мной дядька.
Но я не умер. Почему-то всё получилось наоборот. В почти помрачнённом от истошного страха моём сознании вдруг возникло что-то. Что-то золотисто-янтарное, круглое — какое-то кольцо-круг-обруч. Обруч кружился на месте и казался несколькими искрящими обручами, но он был один и круженье его убыстрялось. И звон от него раздавался: тонкий, спокойный звон, колокольчик… колокольчик, который мама надевала на шею нашей козе Чупе… нет, другой — тоньше, красивей, и непрерывный он был, этот звон, не рассыпчатый — цельный и сильный.
Тем временем страшный дядька погладил меня по голове корявой ладонью, приговаривая:
— Ты правильно, хорошо боишься. Ты давай, бойся, бойся, старайся, мальчик, учись, как надо бояться. Я научу тебя настоящему страху, истинному ужасу. Потому что самое величайшее, что создано для людей Богом и Дьяволом — это страх — столп мироздания. А сейчас здесь я — двуедин, бог и дьявол. Я вершу суд и учу высшей науке страха. И ты сегодня — мой подсудимый и лучший мой ученик. Будь же достоин своей великой миссии! Мы… мы решим, что тебе… что лучше тебе… А если… О-о! И тогда тебе отверзнется всё. Ты в едином миге познаешь всё тайны бытия, свербящие загадки жизни и смерти… смерти. О-о-ум! Именно! Её ничтожности, её презренства — рабыни-жизни. Её величества, безподобья… царицы царей, госпожи господ — смерти, повелительницы всея… всех. Внимай! Блаженству, сообразию… красоте… красно-чёрному… Внимай! О-о-у-мм!
Глаза у дядьки делались совсем мутными, дикими, неживыми. Он схватил меня за шиворот, вскинул вверх, поднёс к столу. Он принялся раскачивать меня на согнутой руке из стороны в сторону, совсем близко от острых крокодиловых зубов, визгливо выкрикивая что-то уже совершенно непонятное, брызгая слюной. Горло мне сдавил воротник рубашки, становилось трудно дышать.
Размахивая руками, я ухватил его за рубаху раскачивания прекратились. Он повернул меня лицом к себе, и мы близко-близко ещё раз встретились глазами. И я смотрел на него, не мигая, уже почему-то не чувствуя ни страха, ни боли, ни отвращения. Лишь всё быстрей и быстрей вращался во мне янтарный обруч. Он уже слился в сплошной искристый шар, и звон, шедший от него, превратился в звонкий вихрь. Этот вихрь был во много раз сильнее, чем я. Этот вихрь становился мною.
Дядькины безумные алюминиевые глаза изменились.
— Отпус-т-ти… меня. От-пус-ти, слы-шишь! — задыхаясь, беззвучно прошевелил я зубами.
Дядька медленно поставил меня на пол, убрал свою лапу с моей шеи. Я кое-как отдышался и опять взглянул на него снизу вверх. Звон-вихрь давил мне на виски и потоком вырывался наружу, направляемый моим взглядом. А сверкающий шар-обруч вертелся так быстро, что, если он вдруг возьмёт лопнет, взорвётся, — подумал я, — моя голова разлетится вдребезги.
Огромные дядькины ладони стали мелко дрожать. На его роже проступило тяжкое недоумение.
— Достань ключ. Дядька… — уже громко, очень громко произнёс я, не опуская головы, — Достань ключ! Открой дверь. Выпусти меня из дома. Выпусти меня! Слышишь?
Дядькина ладонь зашарила в кармане, достала ключ. Он, шатаясь, подошёл к двери, принялся открывать, не попадая ключом в скважину, роняя ключ на пол. Наконец, дверь открылась. Он прошёл по тёмному коридору к выходной двери. Отодвинул засов. Сам выпрямился, прислонился к стене, давая мне проход. Словно я был не щуплый мальчишка, а великан, шириною во весь коридор. И я прошёл мимо него, медленно, очень-очень медленно почему-то. Толкнул дверь и вышел на залитое солнцем крыльцо.
Я не скатился кубарём с крыльца и не бросился сломя голову бежать. То, что происходило во мне, меня сдерживало.
Я остановился на крыльце, вздыхая полной грудью свежий вкусный воздух.
Мне не хотелось оборачиваться. Но я обернулся к тёмному дверному проёму. Стиснув зубы. Сжав кулаки.
Дядька стоял в проёме, как истукан. Его мёрзлые мутные зрачки словно ушли куда-то внутрь от непонятного ужаса. Щёки, лоб и лепёшка носа стали пепельно-серыми. Потом он вдруг схватился руками за голову, скрючился в три погибели, взмычал иступлённо, бессильно, не разгибаясь, стал пятиться назад, упал на пол, свернувшись в несуразный дёргающийся комок, отполз или откатился вглубь, исчез в тёмном проёме коридора.
Я спустился с крыльца, обогнул стоящую во дворе машину, выбрался на улицу и быстро пошёл по ней. Я не имел понятия, куда идти, но шёл и шёл вперёд, ни о чём не думая. Я ощущал, как во мне перестает, кружится, как быстро гаснет янтарный обруч, как исчезает странный звон. Когда это всё пропало, мне стало плохо. У меня закружилась голова, тошнота подкатила к горлу, ноги сделались ватными, непослушными. Я добрёл до каких-то кустов, росших вдоль дощатого забора. За кустами была густая, мягкая трава. Я упал в неё, уже ничего не видя, не слыша, не чувствуя…
Когда я очнулся, был уже вечер. И уже начало темнеть. Надо мной склонилась незнакомая взволнованная женщина.
— Мальчик, мальчик! Что с тобой? Ты уснул что-ли? Как ты себя чувствуешь? Мальчик!
Я чувствовал себя уже неплохо. Только немножко побаливала голова.
— Тётенька! Я заблудился. Отведите меня домой, к маме, пожалуйста. Тётенька! Не бросайте меня!
Конечно, адреса тёти Светы я не знал. Но я помнил универмаг, парк, «чёртово колесо», пожарку. Этих признаков оказалось достаточно. Женщина села со мной в такси и довезла меня до дома тёти Светы. Ещё не успело стемнеть. А у подъезда мне совсем повезло, я сразу увидел сидящую на скамейке зарёванную Люську.
Уже за полночь я лежал в постели, уставший, обессиленный, счастливый оттого, что рядом сидит мама и гладит мою голову. Уже всё обо всём рассказано, уже даны все клятвы и обещания, уже все отруганы, обхвалены, обцелованы, прощены. Уже все успокоились. Кроме мамы, наверное. У неё лицо припухшее от слёз, глаза влажные, но всё равно счастливые. Потому что я — здесь. Папе и бабушке мы договорились ни о чём не говорить.
— Мама, а его точно поймают?
— Поймают. Туда поехала милиция. Тетя, которая тебя привезла, покажет, где этот дом.
— Мама, — спросил я, глядя в окно на небо в крапинках звёзд, — А что со мной было там, мама? Что-то было во мне такое… А? Почему я так смог?
— Смог, — грустно улыбнулась мама, — Молодец. Это не ты смог, маленький мой. Хотя… и ты тоже.
— А кто, мама? Что это было, а? А мне потом ни капельки не было страшно. Вот.
— Слава Богу — всё прошло. И ты — здесь. Ты вырастешь и поймёшь, что это было.
— Я хочу сейчас, мама.