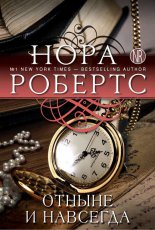Война никогда не кончается (сборник) Деген Ион

— А к танкам вы прикасались?
— Нет.
С огромным сожалением опишу только смысл комментариев, не имея возможности передать неоценимое богатство его речи. Если бы вы услышали, как это излагалось!
За время, в течение которого он воевал, у него было четыре командира танка. Из них только один мог его заменить как водителя. Стреляли они в основном, как бы это выразиться, ну скажем, недостаточно хорошо. В тактике разбирались как свинья в апельсинах. Откуда им было быть лучшими? Вот мы чем занимаемся? Строевой подготовкой. Тянем учебно-строевой шаг. Понадобится тебе учебно-строевой шаг в башне во время атаки? Ничего нельзя сказать о долгих часах политподготовки. Надо. За все время учебы курсант выстрелит всего-навсего три снаряда. На фронте уже «тридцатьчетверки» с 85-миллиметровыми орудиями. Нам на этих танках воевать. А мы их видели? А вождение танка? Даже тридцатьчетверку, которая на фронте уже будет редкостью, нам не дают водить. Только старенькие «бетушки», — двойки, пятерки и Т-26. Да и то в неделю по чайной ложке. Рота у нас самая лучшая в училище. А какая в среднем успеваемость во взводе? Так сколько же из наших двадцати пяти курсантов в бою проявят себя полноценными командирами машин? Чего же требовать от такого командира-танкиста? А ведь придется стать и командирами взводов и даже рот. Поэтому надо ли удивляться потерям? Отлично заправлять койки нас научат. Ну а воевать будем учиться собственной кровью.
К концу одиннадцатого дня в роте вдруг вспомнили о том, что Митя сидит на строгой гауптвахте. То есть десять суток. Максимум. Тут уже заволновался не только командир взвода лейтенант Осипов, но и командир роты капитан Федин. Дикое нарушение устава гарнизонной службы. ЧП! Чрезвычайное происшествие!
Утром двенадцатого дня лейтенант Осипов по приказу заместителя начальника училища по политчасти лично пошел на гарнизонную гауптвахту лично освобождать арестованного. Но Митя категорически отказался выходить, пока за ним, извинившись, не явится сам арестовавший его. Пришел Капитан Федин. Просил. Уговаривал. Тот же результат. Где это видано, чтобы арестованный просидел на строгой гауптвахте больше десяти суток? Да еще орденоносец. Пришел майор, командир батальона. Митя предложил компромисс. Он согласен ограничиться извинением командира батальона, который перед строем роты у гауптвахты прикрепит награды под звуки марша, исполняемого духовым оркестром училища.
Вы не поверите! Начальство согласилось. Но тут духовой оркестр училища решил сыграть свою партию. Музыканты Митю любили. И они тянули время до окончания занятий, чтобы процедурой освобождения могло насладиться как можно большее количество курсантов.
Пришли не только курсанты почти всех четырех батальонов нашего училища. Пришли даже курсанты-летчики. Пришли курсанты пулеметного училища. Пришли пехотинцы стрелкового полка, солдаты которого охраняли гарнизонную гауптвахту. Вероятно, этот плац ни в прошлом, ни в будущем не видел такого количества военного люда.
Полковник, бывший полковой комиссар, заместитель начальника училища по политчасти не пришел.
16.01.2012 г.
Нарушитель заповеди
Что было движущей силой всех этих историй? Девятнадцать лет? Обостренное чувство справедливости? Вседозволенность? Может быть, не в такой последовательности следовало расставить предполагаемые движущие силы? Не знаю.
На заводе в Нижнем Тагиле я получил танк Т-34, часы, шестискладный нож и экипаж из четырех человек.
Механик-водитель был на два года старше меня. Но он еще не воевал. Поэтому я, только что испеченный младший лейтенант, но еще до училища дважды побывавший на фронте, казался ему представителем высшей касты. Тем более что, сев за рычаги, я вытащил танк из болота, в которое он умудрился сесть со всем своим огромным водительским опытом, приобретенным в учебно-танковом полку, в котором, как значилось, у него было целых восемь часов вождения.
Кроме старшего сержанта, были еще три сержанта. Меньше остальных меня тревожил лобовой стрелок. В старых «тридцатьчетверках» с семидесятишестимиллиметровой пушкой этого члена экипажа называли стрелком-радистом. В новых машинах с восьмидесяти-пятимиллиметровой пушкой рация была возле сиденья командира, поэтому лобовой стрелок уже не был радистом, а только стрелком из танкового пулемета Дегтярева. Но что мог он увидеть сквозь маленькое отверстие в лобовой броне? Кому нужен был этот член экипажа? Разве что как дополнительная тягловая сила, когда приходилось возиться с гусеницей или копать капонир для танка. Да еще боевые потери, и так самые большие в танковых войсках, повышались на двадцать процентов.
Лобовой стрелок был моим ровесником. Кубанский казак, он несколько месяцев прожил под немецкой оккупацией и, хотя еще не воевал, имел некоторое представление о войне.
Командир орудия был чуть моложе меня. Выжать слово из этого уральца могли только чрезвычайные обстоятельства. При этом слово, как правило, было матерным. Дважды до первого боя я видел, как он стреляет, и у меня не было к нему особых претензий.
Зато его тезка и тоже уралец вызывал у меня самые серьезные опасения. Васе-башнеру, как и мне, только что исполнилось девятнадцать лет. Но мне он казался намного моложе. Щупленький, тощенький, в гимнастерке, свисавшей, словно ее повесили на самодельную проволочную вешалку. А ведь башнер в неописуемой тесноте на ходу танка должен заряжать пушку 15-килограммовыми снарядами, чаще всего доставая их из металлических чемоданов, расположенных под ногами.
Опасения начались у меня через несколько дней после того, как я познакомился со своим экипажем, когда нам приказали получить боекомплект.
Танк уже стоял на платформе. Ящики со снарядами надо было тащить с эстакады метрах в двухстах от нашего состава.
Почему нам не приказали загрузить боекомплект, когда танки стояли в нескольких метрах от эстакады, или почему нельзя было подогнать платформы к эстакаде, я не понимал.
Впрочем, это не единственное, чего я не понимал в течение уже прошедших почти трех лет войны.
Экипаж мой с ужасом смотрел на груз, подлежащий переноске. В ящике пять снарядов по пятнадцать килограммов каждый. Да ящик еще больше пяти килограммов. Да двести метров не дороги, даже не тропинки, а выбитых шпал, рельсов и стрелок. А тут еще, хотя начало июня уже считается летом, подтаял выпавший снежок, и сапоги скользили по грязи.
Механик-водитель и лобовой стрелок, не скрывая ужаса, взяли ящик. Оба Васи с трудом подняли второй.
— А не взорвутся они, если часом упадут? — спросил лобовой стрелок.
— Не взорвутся, — подбодрил их командир, тут же почувствовал, что этим утверждением я не очень успокоил моих сержантов.
— Ну-ка, взвалите мне ящик на спину.
Они шли за мной со своим ужасом и грузом. Сквозь стенки ящика, сквозь толщу снарядов я чувствовал взгляды моих подчиненных, полные удивления и уважения.
Командиры других танков последовали моему примеру. Но в отличие от меня в училище они не занимались тяжелой атлетикой. Поэтому ящики они тащили в паре, что не уменьшало их престижа у подчиненных.
И только два экипажа нашей маршевой роты надрывались под начальственным присмотром своих командиров.
Один из них пришел в училище из гражданки. В училище ему вдолбили в голову понятие об офицерской чести и прочих глупостях, которые могли пригодиться корнету лейб-гвардии, но не командиру танка. Его можно было пожалеть.
Зато второй командир еще до войны был старшиной-сверхсрочником. Сейчас погоны младшего лейтенанта позволяли ему парить выше облаков, откуда здоровый лоб не мог спуститься на скользкую грязную землю, чтобы помочь своему маломощному экипажу.
Возвращаясь к эстакаде за очередной порцией ящиков, я видел, как бывший старшина подгоняет своих подчиненных, и не без злорадства подумал о том, что ждет его в первом же бою.
После последней ходки мы загрузили снаряды в гнезда и в металлические чемоданы и повалились на доски платформы, показавшиеся мне периной.
Башнер не был в состоянии донести до рта тяжести своей «козьей ножки». Я смотрел на него с тоской. Вопрос, сверливший меня беспрерывно, выплеснулся наружу:
— Что я буду делать с тобой в бою? У тебя же не мускулы, а пакля для чистки пушки. Как это тебя взяли в танкисты?
— Хлебушка бы мне, — мрачно ответил Вася-башнер. — Я так до армии был ничегось вроде. Отощал я дюже в полку.
Хлебушка! Где взять этого хлебушка, если даже я после обеда в офицерской столовой выходил с единственным желанием — поесть бы чего-нибудь.
И тут произошло нечто невероятное. Сейчас, вспоминая цепочку мыслей и действий в тот холодный июньский день на железнодорожных путях танкового завода, я знаю, что именно так делаются великие открытия.
На эстакаде, почти напротив нашей платформы, сиротливо приткнулся запасной бак для горючего. Бак на девяносто литров газойля. На каждом танке три таких бака.
Как он оказался на эстакаде? Есть ли в нем горючее? Не говоря ни слова, я соскочил с платформы и начал исследование. Новенький бак с едва высохшей краской был пуст. Спустя минуту он уже стоял на платформе.
Еще не опубликовав статьи с описанием моей гениальной идеи и не подав заявки на открытие, я приказал ребятам тащить газойль. Добро, на каждом шагу были пожарные ведра, а у кранов с газойлю вообще не существовало никакого контроля и ограничений.
Через несколько минут у кормы, запрятанный брезентом, которым была накрыта машина, стоял четвертый запасной бак с газойлю. Три бака были приторочены к танку, и я отвечал за каждую каплю горючего в них. Но этот бак был нашей свободно конвертируемой валютой, на которую я собирался покупать продовольствие на всех станциях между Нижним Тагилом и фронтом. Шутка ли — девяносто литров газойля, который тут же приобрел торговую марку «керосин», продукт не менее дефицитный, чем хлеб, водка, соль, табак и мыло.
В тот же день к нашему составу из тридцати платформ прицепили два мощных паровоза, и мы двинулись в путь.
Мелькали полустанки и станции. Даже Свердловск мы проскочили без остановки, бочком, стороной. Так впервые в жизни я узнал, что на пути гениальных открытий возникают препятствия, не учтенные открывателем.
Но тут обнаружилось еще одно ужасное последствие нашего безостановочного движения. Вася, командир орудия, метался по платформе и выл. Он не мог помочиться на ходу состава. Ему было необходимо какое-нибудь закрытое пространство для создания ощущения относительного покоя. Можно было бы осуществить эту операцию внутри танка или даже под брезентом, но у нас не оказалось соответствующей посуды.
Только после первой долгожданной остановки оба Васи (и не только они) были ублаготворены.
За пять литров газойля, названного нами керосином, мы получили такое количество сметаны, масла, творога, молока и прочих невиданных в армии деликатесов, что можно было осоветь от одного их вида.
Тут пригодились мои занятия тяжелой атлетикой. Я вытащил из танка снаряд, вручил его Васе-башнеру, и стал тренировать сержанта, что сопровождалось частыми перерывами — поесть и опорожниться.
Дело в том, что у Васи начался профузный понос, который я лечил не голодной диетой, как делали это консервативные врачи, а усиленным питанием. Понос, правда, продолжался, но это отражалось только на состоянии железнодорожного пути между Чусовой и Москвой.
Мы следовали мудрому совету: ешь много, но часто. Интересная медицинская деталь. Во время заболеваний желудочно-кишечного тракта у больных пропадает аппетит. У Васи не пропал. Возможно, проявился резервный аппетит всех дней его недоедания.
Это почти невероятно, но за четыре дня, пока мы приехали под Смоленск, Вася уже не просто поднимал снаряд одной рукой из самого неудобного положения, но даже этак небрежно слегка подбрасывал его. Мне кажется, дело не только в еде, но и в том, что он перестал бояться снаряда.
Под Смоленском мы съехали на твердую землю, оставив на платформе волшебный бак, в котором еще плескались остатки газойля, хотя мы были щедрыми менялами и даже снабжали едой соседние экипажи.
Несколько дней наша маршевая рота кочевала вслед за наступающим фронтом в составе какого-то подразделения, о котором у меня нет ни малейшего представления.
Я был рад маршу. Мой механик-водитель нарабатывал часы вождения, и через несколько дней я уже почувствовал результаты этой практики. Нам даже устроили тактические занятия со стрельбой, и у меня была возможность остаться довольным своим экипажем.
А затем нами пополнили знаменитую отдельную танковую бригаду, понесшую серьезные потери в летнем наступлении. Мы вступили в бой. У меня появилась возможность не просто быть довольным своим экипажем, но даже гордиться им.
У нас уже не было серьезных продовольственных проблем. Но приобретенный в голодном тылу рефлекс раздобывания пищи не притупился и сейчас, когда мы перестали голодать. Именно этим рефлексом я объясняю еще одно действие, которое сегодня, спустя сорок семь лет, в канун судного дня заставляет меня покаяться.
Мы вышли из боя и расположились на тесной поляне у самой просеки в старом сосновом лесу. Мимо нас беспрерывным потоком к фронту текли войска.
За два дня расслабляющего безделья мы засекли закономерность, предопределившую наш неблаговидный поступок. В потоке техники значительную долю составляли «студебеккеры» автотранспортного полка. Они шли чуть ли не впритык один за другим. Таким образом, каждый шофер охранял идущую впереди машину. Только в кузове замыкающего колонну автомобиля сидел автоматчик.
Стоя на броне танка, мы видели содержимое кузовов, которое пробуждало наши низменные инстинкты.
У повара мы выяснили, что на обед для всего батальона, для ста пятидесяти человек, он закладывает в котел одиннадцать банок свиной тушенки.
(Кстати, за несколько дней до описываемого события союзники открыли Второй фронт, и мы перестали этим именем называть свиную тушенку.) В кузовах некоторых «студебеккеров» мы видели горы из ящиков этой самой тушенки. А в каждом ящике двадцать четыре банки.
Я тщательно изучил просеку и выбрал место, где она образовывала крутую дугу. В конце дуги вплотную к дороге я поставил свой танк. Второй танк стоял у начала дуги.
Когда мимо нас потянулся конвейер знакомого нам автотранспортного полка и была выбрана жертва, танк, стоявший у начала дуги, слегка выдвинулся в просеку, чем замедлил движение «студебеккера». Шофер потерял из виду идущий впереди автомобиль. В этот самый момент молчаливый Вася, командир орудия, ловко прыгнул с кормы танка в кузов неохраняемого автомобиля, сбросил в подлесок два ящика свиной тушенки и немедленно последовал за ними.
Операция была осуществлена блестяще. Комар носу не подточил. А комаров в этом лесу хватало. Каждый из экипажей двух танков стал обладателем двадцати четырех банок свиной тушенки.
Задумались ли мы о последствиях приведшей нас в восторг операции? Подумали ли мы о судьбе шофера, который должен будет объяснить пропажу двух ящиков свиной тушенки — целого состояния по тем временам? Что с ним? Расстреляли его? Послали в штрафную роту? Погиб он в этой роте или кровью искупил свою несуществовавшую вину? Не знаю, задумался ли над этим мой экипаж. Я не задумался, как, впрочем, не задумался и над тем, что нарушаю заповедь «Не укради».
Третий случай вроде бы не укладывается точно в нарушение одной из десяти заповедей, а все, что было совершено, служило делу восстановления справедливости. Но…
Холодное серое утро не предвещало ничего хорошего. Даже день накануне включил тумблер суеверия, приготовив экипаж к самому худшему.
Мы мирно обедали внутри танка, когда болванка на излете чиркнула по касательной нашу башню. Оглушило нас здорово. А ведь до переднего края было не меньше двух километров. Я попросил у командира роты разрешения проверить рацию, но он категорически запретил, сославшись на дисциплину радиосвязи. Только во время атаки я обнаружил, что рация повреждена.
Впрочем, это уже почти ничего не добавило к нашим несчастьям.
Не знаю, какой идиот и на каком уровне планировал эту атаку.
Десять танков, слегка прикрытые октябрьским туманом, шли по размытой грунтовой дороге вдоль опушки бора. Мой танк шел первым. Когда последняя машина вытянется на поле, по команде ротного мы должны были разом развернуться влево и, атакуя линией, продемонстрировать нашу доблесть и геройство. Тут-то я и обнаружил, что рация моя вышла из строя.
Рота, как и положено, развернулась. Мой танк не отстал, хотя я не услышал команды. А дальше мне уже некогда было следить за действиями роты.
Метрах в шестидесяти передо мной стоял «тигр». Набалдашник его орудия ехидно скалился, уставившись в меня. Скомандовав «огонь!», я, конечно, не подумал, что напоминаю кролика, лезущего в пасть питона. Возможно, мой бронебойный снаряд оглушил экипаж «тигра», и поэтому их болванка попала не в центр моей машины. Механик, стреляющий и я выскочили из вспыхнувшего танка. Лобовой стрелок и башнер погибли.
Мы спрятались в воронке у дороги и оттуда с ужасом следили за тем, как шестнадцать «тигров», забавляясь, уничтожают нашу роту. Почти на одной линии с моей машиной горели еще два танка взвода. Метрах в сорока впереди, под самым носом у немцев вспыхнула машина моего друга Толи.
Из своего люка, словно подброшенный катапультой, прямо из башни, не становясь на корпус или надкрылок, с высоты почти двух с половиной метров он спрыгнул на землю и, пригибаясь и хромая, помчался к опушке леса.
Тут я увидел, что на Толе один сапог. Я представил себе, как командирское сиденье силой двух пружин прижало его ногу, как у Толи не было времени воевать с сиденьем, как он вырвал ногу, оставив сапог в горящей машине.
Мы уцелели в этом нелепом, в этом идиотском бою, вернее, в этом бессмысленном, нет — преступном уничтожении танковой роты.
А у Толи возникла проблема. Обувь у него была сорок шестого размера. Таких сапог не оказалось ни в батальоне, ни в бригаде. Толя ходил по осенней распутице в одном сапоге и тряпках, намотанных на левую ногу. Помпохоз капитан Барановский беспомощно разводил руками при встречах с деликатным лейтенантом в одном сапоге, но чаще, пользуясь его ограниченной подвижностью, избегал встреч.
Однажды, заметив маневр капитана Барановского, я догнал помпохоза и предъявил ему ультиматум: если завтра у Толи не будет сапог, я обую его в отличные сапоги капитана Барановского, добро у него тоже сорок шестой размер.
Капитана возмутил ультиматум лейтенанта. Он проворчал что-то о разгильдяйстве и тщетности надежд этих наглых командиров, сидящих в танках, на то, что им сойдет с рук любое нарушение дисциплины и субординации.
Я согласился с ним и сказал, что броня защищает нас не столько от немецких болванок, сколько от советских интендантов, и если завтра у Толи не будет сапог… и так далее.
Вероятно, Барановский решил, что словесная угроза капитану — предел наглости лейтенанта и на большее он не решится. Кроме того, был еще один аспект, позволявший помпохозу усомниться в том, что угроза будет осуществлена.
Но я уже упомянул обостренное чувство справедливости и вседозволенность.
На следующий день… Нудные осенние дожди превратили ухоженную прусскую землю в сплошное несчастье. Даже я, обутый в хорошие сапоги, чувствовал себя мухой, попавшей на липучку. Что уж говорить о Толе, который утром выбрался из землянки и с усилием вытаскивал из глины ноги, укутанные в брезентовые онучи.
Но даже не увидев единоборства моего друга с прусской глиной, я бы не забыл о вчерашней беседе с капитаном Барановским.
Итак, предстояло техническое воплощение предъявленного ультиматума.
Я уже упомянул о еще одном аспекте, позволившем нашему помпохозу посчитать, что я не решусь на большее, чем словесную угрозу. В батальоне знали о моем увлечении тяжелой атлетикой. Но Барановский был почти на голову выше меня и тяжелее килограммов на тридцать. Для того чтобы снять с него сапоги, мне пришлось бы его нокаутировать. В принципе это можно было сделать без особого труда. Я знал приемы, позволявшие мне пришибить его до кратковременной потери сознания. Но лейтенант все же не хотел доводить насилие над капитаном до такой степени. Поэтому мне нужны были ассистенты, которые помогли бы деликатно спеленать помпохоза.
Толя сперва отверг мое предложение. Но я продолжал убеждать. А дождь продолжал лить. А ноги в брезентовых онучах продолжали увязать в глине. И как говорится, капля точит… а тут была не капля, а потоки. Таким образом, ассистент номер один был укомплектован.
— Не приказать ли командиру танка из моего взвода стать ассистентом номер два, — подумал я и тут же отверг эту мысль.
На такую операцию идут не по приказу, а добровольно, по велению сердца.
Именно в этот момент возник старший лейтенант, командир второй роты. Он только что позавтракал. От него приятно несло нормативной водкой. Поэтому мне не пришлось «открыть краны» красноречия. Он включился в нашу команду, как только услышал, что мы идем снимать с помпохоза сапоги.
Капитан Барановский занимал комнату в юнкерском поместье, в котором располагался штаб батальона. Он не проявил гостеприимства, когда мы ввалились к нему. Более того, он закричал, чтобы мы немедленно очистили помещение. Но когда старший лейтенант и я прижали его к постели, а Толя в такт велосипедным движениям ног капитана стащил один, а затем второй сапог, Барановский только сопел и тяжело выдавливал из своей туши:
— Вы окончательно сдурели.
Не знаю, сообщил ли замкомбата кому-нибудь об этом деликатном инциденте. Думаю, что нет.
Уже через несколько часов я встретил его обутого в хорошие сапоги.
До самого зимнего наступления у нас не возникало никаких конфликтных ситуаций.
В зимнем наступлении я был ранен, и капитан Барановский любезно прислал мне в госпиталь вкладную книжку и прочие интендантские аттестаты. Поэтому мне остается только констатировать благородство нашего замкомбата по хозчасти.
В том же зимнем наступлении погиб Толя. Не знаю, сняли ли с него, с убитого, сапоги капитана Барановского.
Стихотворение у меня почему-то получилось не о сапогах, а о валенках. Я не мог знать, когда написал его, что Толя погибнет, что стихотворение станет поводом для еще одной легенды обо мне, что многое, совершенное мной, вызовет у меня чувство раскаяния, а раскаяние о трех описанных проступках возникнет задолго до того, как я прочитаю в оригинале десять заповедей.
1991 г.
Вильнюс
Не знаю, почему командир батальона выбрал именно меня. В бригаде мы находились чуть больше двух недель. Мы — это пополнение, десять танков, которыми чуть-чуть заштопали прорехи потерь, понесенных при прорыве обороны знаменитой гвардейской танковой бригадой. Во время переправы через Березину командир батальона тоже именно мне представил возможность отличиться.
Возможность отличиться… Так деликатно выражались, посылая на явную гибель.
На Березине я уцелел. И вот сейчас командир батальона снова представил мне «возможность отличиться».
В начале летнего наступления Вторая отдельная гвардейская танковая бригада прорвала немецкую оборону между Витебском и Оршей. В прорыв ринулись танковые корпуса. То ли потому, что наступление постепенно выдыхалось, то ли сопротивление немцев оказалось здесь более упорным, чем в других местах, взять Вильнюс с ходу не удалось. Войска продолжали наступать к Неману, оставив Вильнюс в окружении. Обескровленная танковая бригада получила приказ штурмовать город.
Танки были уже западнее Борисова, а тылы застряли за Березиной. Мы оказались без горючего, без боеприпасов. Жалких остатков едва хватило экипировать три танка. И вот сейчас командир батальона объяснял мне, какое высокое доверие оказано моему взводу. Он будет представлять бригаду в боях за Вильнюс. Задача, которую должны выполнить шестьдесят пять танков, взваливалась на три «тридцатьчетверки». Возможность отличиться…
Много лет спустя, пытаясь оправдать себя за то, что я так поздно понял всю порочность так называемой социалистической системы, я ссылался на встречи с идейными коммунистами. Гвардии старший лейтенант Варивода был парторгом нашего батальона. Он сам напросился поехать в качестве офицера связи. Сидя на корме моего танка, покрытый густым слоем пыли, он время от времени поглядывал на часы. Но я не нуждался в этом намеке. Механики-водители выжимали из дизелей все, на что были способны моторы.
Без единого привала, по грунтовым дорогам и песчаным просекам мы прошли более двухсот километров и незадолго до заката остановились перед штабом стрелкового корпуса. В отличие от населенных пунктов Белоруссии, сожженных дотла, с надгробиями печных труб, с нищетой окружающих полей, в литовском фольварке все дышало благополучием и достатком. В этом фольварке генерал-лейтенант со своим штабом тоже излучал благополучие. Он спокойно выслушал доклад Вариводы, критически оглядел меня с ног до головы.
— И это, — он подбородком указал на меня, — и есть знаменитая Вторая гвардейская танковая бригада, которая должна обеспечить мне взятие Вильнюса?
Ответа, естественно, не последовало. Внизу, километрах в шести отсюда полыхал Вильнюс. Грохот орудий порой сливался в сплошной поток.
— Ну, что ж, — сказал генерал, — бригада так бригада. Отдыхайте, ребята. Утро вечера мудренее.
Мы вышли из штаба и направились к танкам. Лицо Вариводы выражало растерянное непонимание, и я не задал парторгу вопроса, зачем надо было сжигать резиновые бандажи катков и гнать душу из дизелей и из людей.
Вечером, отираясь возле штаба, мы поняли, что происходит. В городе шли бои между поляками и немцами. Поляками не нашими, а подчинявшимися лондонскому правительству. Советские войска только не давали немцам вырваться из кольца.
Сомнения и стыд залили душу лапотного патриота, но я не посмел поделиться с Вариводой своими мыслями. Да и он ничего не сказал по этому поводу.
Рано утром я получил приказ прибыть в распоряжение командира одного из полков 144-й стрелковой дивизии. В город мы въехали мимо кладбища, красивого, никогда даже не предполагал, что бывают такие. Я не стал загадывать, смогу ли когда-нибудь рассмотреть его не с надкрылка танка. Слева от вокзала мы пересекли железнодорожные пути и остановились в районе складов.
Командир полка объяснил мне обстановку. Он уверенно заявил, что перед нами примерно шестьдесят немцев, два орудия и один-два танка.
Мне очень хотелось сказать командиру полка, что я не доверил бы ему командовать машиной в моем взводе, но ведь он был подполковником, а я — младшим лейтенантом. К тому же мне было девятнадцать лет, а ему в два раза больше.
Хорошо, что я не придал значения словам командира полка. Через пять дней из шестидесяти немцев мы взяли в плен более пяти тысяч солдат и офицеров. А сколько было убито?
На командном пункте выдающегося полководца я расстался с Вариводой и повел взвод в бой.
Трудно воевать в городе. Танки расползлись по разным улицам. Мы не видели друг друга. Радиосвязь следовало бы назвать радиоразобщением. Два немецких орудия, упомянутых подполковником, по-видимому, размножались неполовым делением.
Снаряд ударил в правую гусеницу моего танка. Механик-водитель включил заднюю передачу. По крутой дуге, оставляя разбитую гусеницу, танк вполз в палисадник, по счастливой случайности оказавшийся в нужном месте. Мы осмотрели машину. Снаряд искорежил ленивец и передний каток. Без ремонтников мы не справимся.
Оставив свой экипаж, я пошел разыскивать танки. Один из них без признаков жизни прижался к многоэтажному дому на широкой улице.
Именно в этот момент я увидел группу вооруженных людей с красно-белыми повязками на руках. Это были поляки, подчинявшиеся лондонскому правительству. Стыдясь самого себя, я подошел к ним и спросил, не нужна ли им помощь танка. Поляки с удивлением посмотрели на меня. Им понадобилось какое-то время, заполненное молчанием, чтобы догадаться о моей непричастности к решениям командования. Один из поляков тепло пожал мою руку и сказал, что танк мог бы оказаться полезным вон там. Поляк был прав.
Придерживая подсумок с гранатами и пригибаясь, хотя пули не свистели над головой, ко мне подбежал лейтенант, которого я видел в штабе полка. Он передал просьбу командира полка поддержать батальон, штурмующий вон там. Лейтенант показал то же направление, что и поляк.
Я приказал командиру машины взять команду над моим подбитым танком и занял его место.
Зачем я так поступил? У меня ведь появился шанс уцелеть до следующих боев, до той поры, пока я получу новый танк или свою отремонтированную машину. Сейчас ведь у меня еще дрожали поджилки, еще я не очухался от подлого страха, заполнившего меня в тот самый миг, когда снаряд угодил в гусеницу. А что если бы чуть левее и выше? Почему я не приказал командиру машины поддержать штурмующий батальон, а самому оставаться в безопасности? Не знаю. Может быть, потому, что на меня сейчас смотрели поляки, которых вчера оставили на растерзание немцев? Может быть, потому, что кто-нибудь мог подумать: еврей кантуется? Может быть, потому, что в девятнадцать лет в таких ситуациях вообще не ищут логичных объяснений? Не знаю.
Танк пересек небольшую площадь, проехал сквозь высокую тесную арку, справа примыкающую к церкви, а слева — к жилому дому, и стал спускаться по улице, идущей к реке.
Штабной лейтенант, сидевший за мной на крыле танка, указал на подворотню с остатками деревянных ворот.
Вместе с механиком-водителем мы подошли к подворотне и шагами стали измерять ее ширину. Лейтенант уверял, что она больше трех метров. И механик и я сомневались в этом, но решили попробовать провести танк, ширина которого ровно три метра. Я вошел в темную подворотню и терпеливо показывал направление, пока танк вписался в проем. Надкрылки заскрежетали по кирпичу, и скрежет этот был сильнее рокота мотора и шлепания траков гусеницы. Вероятно, молитва атеиста, представившего себе, что ожидает его, если танк не выберется из этой ловушки, была услышана Всевышним, и машина, как пуля из ствола, вырвалась во двор.
Слева, в полуподвале, находился командный пункт штурмующего батальона. Капитан, командир батальона, ознакомил меня с обстановкой и поставил задачу.
В тот день, 8 июля 1944 года, батальон мог выставить для штурма семнадцать штыков.
Ну что ж, подумал я, пропорция соблюдается. Если три танка, а сейчас уже только два, могли считаться бригадой, то почему бы семнадцать человек не посчитать батальоном?
А еще батальону придали одно семидесятишестимиллиметровое орудие — все, что осталось у растерянного артиллерийского младшего лейтенанта. Попробуй не растеряться, если у тебя кроме двух бронебойных снарядов есть только пустые ящики.
Артиллеристы, естественно, даже не думали об огневой поддержке батальона. Они дрожали при одной мысли, что на них пойдут немецкие танки. Поэтому на нас они смотрели, как на дар небес, а я не стал им объяснять, что после каждого выстрела с опасением думал о боекомплекте.
Ночью мы впервые вспомнили о еде. Но еще до ужина, или уже до завтрака, я отправился на поиски третьего танка. Командовал им мой товарищ по училищу младший лейтенант Ванюшка Соловьев. Его танк поддерживал штурм соседнего батальона.
Мы договорились о взаимодействии, о том, как в меру возможности осуществить его, когда каждый из нас должен был считаться танковым батальоном.
В эту ночь я в последний раз увидел Ванюшку Соловьева. На следующий день мы нашли его обугленное тело у стены дома, за которым, по-видимому, надеялся спрятаться, когда выскочил из горящего танка. Здесь же мы разобрали камни тротуара, выкопали могилу и похоронили сгоревший экипаж.
Много лет спустя мой друг Рафаил Нахманович, режиссер Украинской студии документальных фильмов, поехал снимать киноленту о войне. Я рассказал ему о Ванюшке Соловьеве и точно описал, где находится его могила. Могилы в этом месте он не нашел. Но он встретился с подполковником-военкомом, который обрадовался, узнав, что я жив.
Военком Алексей Клопов во время боев за Вильнюс был старшим сержантом, башнером в одном из танков нашей роты. Он начал розыски. Не знаю, нашли ли останки моего друга. Но на памятнике на военном кладбище высекли имя гвардии младшего лейтенанта Ивана Соловьева.
Три дня и три ночи утратили пространственно-временные границы.
Человеческий мозг не в состоянии полностью охватить ужас, название которому — уличные бои. Только отдельные сцены. Рушатся здания. Трупы на брусчатке. На тротуарах. Истошные вопли раненых. Обрывки пересыпанной матюками солдатской речи. Бессмысленность потерь.
— Вперед, мать вашу!.. Если через двадцать минут ты не возьмешь мне этот… дом, застрелю к… матери!
И брали.
На третий день не осталось ни одного из семнадцати человек штурмующего батальона. Повара, писари, ординарцы, связные были вооружены огнеметами и брошены в бойню, чтобы медленно, но неуклонно, из дома в дом, из улицы в улицу приближаться к реке.
У нас не было никакой связи с бригадой. Даже Варивода забыл о нашем существовании. Я не имел ни малейшего представления о том, сколько дней или недель продлятся уличные бои. Я не знал, имеем ли мы право на передышку. Что оставалось мне, «великому полководцу»? Командовать танком непосредственной поддержки пехоты. Что я и делал, скупо поддерживая батальон огнем двух пулеметов и тысячу раз взвешивая, могу ли я позволить себе еще один выстрел из пушки. А еще можно было гусеницами давить орудия, которые немцы установили на перекрестках. Никто не отдал мне такого приказа. Но мог ли я разрешить себе не сделать того, что можно было сделать?
Я выбирался из танка, приближался почти к самому перекрестку, тщательно изучал пути подхода, отступления и все промежутки между домами, где возможно будет найти укрытие. Только после этого танк на максимальной скорости наваливался на орудие и тут же отступал, чтобы не попасть под огонь пушки на соседнем перекрестке.
Но 12 июля в этой тактике произошел пробой. Мы раздавили зенитное орудие и тут же слева, метрах в пятидесяти заметили еще одно. Я решил, что мы успеем раздавить его раньше, чем немцы развернут это орудие на нас. Так оно и получилось. Но было бы лучше удовлетвориться одной пушкой.
Мы метались от перекрестка к перекрестку, давя одно орудие, чтобы тут же увернуться от другого, и в конце концов заблудились в путанице улиц.
Я вытащил карту города, пытаясь сообразить, где мы находимся. Но не было ориентира.
Положение отчаянное. Почти без боеприпасов. Горючее на исходе. А тут еще на корму танка взобрались два немца в эсэсовской форме. Я бы не заметил их, если бы не услышал скрежета металла на крыше командирской башенки. Сквозь заднюю щель я увидел немца и догадался, что он пытается чем-то открыть мой люк. Штыком или большим ножом это можно было сделать запросто.
Дело в том, что командирский люк «тридцатьчетверки» спроектировал кретин. В переднюю половину вмонтирован перископ. Задняя половина закрывалась, когда командир тянул ее за ремень, стягивающий две защелки. Обычно мы воевали, не закрывая задней половины люка. Но в городе, где тебя обстреливают сверху, люк пришлось закрыть. При этом возникла другая опасность. Если танк подобьют, надо выскочить как можно быстрее. В училище на эвакуацию танка нам давали шесть секунд. За шесть секунд из командирского люка должны выпрыгнуть два человека. Чтобы открыть заднюю створку люка, одной рукой ты тянешь вниз ремень, стягивающий защелки, второй рукой поднимаешь створку, преодолевая не только немалый вес 20-миллиметровой брони, но также сопротивление собственной руки. Поэтому еще до того, как мы вступили в бой, я стянул ремень, отключив таким образом защелки.
Створка люка была не закрыта, а прикрыта. Немцу надо было только подцепить ее и поднять. Что есть силы я ухватился за ремень и крикнул стреляющему: «Режь!» Стреляющий полосонул ножом по ремню. Щелкнули защелки. Командирская башенка стала закупоренной не только для немцев, но, по существу, и для нас.
Несколько лет назад я с горечью вспомнил этот люк, и ремень, и защелки, когда в израильском танке «Меркова» одним мизинцем, без труда, открыл отлично сбалансированный люк толщиной не в двадцать миллиметров, а раз в восемь толще.
Танк с необычным десантом на корме метался по тесным улицам незнакомого города. И вдруг я увидел церковь, служившую мне ориентиром в течение трех дней. Вон за тем углом нас уже не достанет ни один снаряд. Мы выскочили на улицу, которую очистил от немцев наш родной стрелковый батальон. И тут произошло самое невероятное.
Через несколько минут артиллерийский младший лейтенант, смущенно оправдываясь, рассказывал, почему это случилось. Пять дней они дрожали при мысли о немецких танках. И вот на несчастную пушку мчится танк с немецким десантом на корме. Только смертельная опасность могла подхлестнуть расчет за считаные секунды развернуть орудие на девяносто градусов. Они даже не предполагали, что танк может появиться с этой стороны.
Вот эти секунды и спасли нашу жизнь. До пушки оставалось менее пятидесяти метров.
Механик-водитель открыл свой люк и, почти остановив машину, выдал такую матовую фиоритуру, какую улицы Вильнюса не слышали со дня своего основания. Эхо аккомпанементом прокатилось по улице. Где-то вверху затрещал автомат. Пули застучали по крыше башни и по корме. Танк остановился перед орудием.
Я выбрался через люк башнера и попал в объятия ликующего младшего лейтенанта. Пока он объяснял мне причину своей ошибки, артиллеристы взобрались на корму танка, сняли с убитых немцев часы, сапоги, выпотрошили карманы, забрали автоматы.
Пройдет восемнадцать лет. В Киеве, в ресторане «Динамо», с женой и двумя приятелями мы будем отмечать торжественное событие. За соседним столом шестеро крепко выпивших мужчин закончат очередной графинчик с водкой.
Не могу уверить, что им действительно не понравилась наша еврейская компания. Но то ли по причине моей повышенной чувствительности к этому проклятому вопросу, то ли потому, что я тоже не был трезв как стеклышко, я решил выяснить отношения с сидевшим поблизости крепышом, который, как мне показалось, сказал что-то неуважительное по нашему поводу, вызвавшее веселую реакцию за их столом.
Жена не успела остановить меня. Я встал и направился к крепышу. Он уже поднял руку, чтобы отразить мой удар. И тут мы оба одновременно раскинули руки и заключили друг друга в объятия.
Бывший артиллерийский младший лейтенант усадил меня рядом с собой и мы выпили за встречу.
— А где же твоя Золотая Звезда? — с недоумением посмотрел он на лацкан моего пиджака. — Ведь за Вильнюс тебя представили к Герою?
Он ошибся. К званию Героя меня представили не за Вильнюс. Но какое это имело значение? Все равно не дали.
А тогда, в Вильнюсе, пока башнер телефонным проводом соединял концы разрезанного ремня, я спустился в полуподвал к командиру стрелкового батальона и узнал, что им больше не нужна моя помощь. Полк подошел к реке.
Из полуподвала я выбрался во двор и вышел на внезапно ожившую улицу. У танка собрались люди в рваной гражданской одежде с красными повязками на руках. Партизаны. Наши. У поляков красно-белые повязки.
Я подошел к партизанам и с удивлением услышал, что все они говорят на идише. С трудом подбирая слова забытого мной языка, я спросил, кто они.
Боже мой! Они чуть не разорвали меня на куски. Каждый хотел обнять меня. Каждый хотел пожать руку. Мало того что он командир советского танка, так он еще и ид!
Мои ребята достали бачок, и мы вместе с партизанами выпили трофейный спирт за встречу, за победу.
Через двадцать лет я буду читать тайно переданную мне книгу «6 000 000 обвиняют», речь генерального прокурора Израиля господина Гаузнера на процессе Эйхмана. И вдруг на одной из фотографий, иллюстрирующих книгу, я увижу знакомое лицо командира еврейского партизанского отряда. Из подписи к фотографии я узнаю имя этого командира — Аба Ковнер.
А еще через одиннадцать лет после путешествия с женой и сыном по бывшей Восточной Пруссии, после блужданий по маршруту моих танков, после посещения могилы, в которой, как считали, похоронили и меня, хотя вместе с тремя танкистами нашего экипажа похоронили только мои погоны, мы остановились в Вильнюсе.
В поезде из бывшего Кенигсберга я провел бессонную ночь, перегруженный воспоминаниями и эмоциями, и сейчас, предельно уставший, я сидел на скамейке на незнакомой улице чужого Вильнюса.
Жену и сына удивляли несвойственная мне пассивность, мое нежелание погулять по городу и осмотреть его достопримечательности.
Я сидел спиной к новому зданию из стекла и бетона, замыкавшему небольшую площадь. Жена сказала, что это Дворец бракосочетаний. Мне не нравилось это здание, чужеродное на вильнюсской улице. Мне было неинтересно или безразлично, что в нем находится. Мне хотелось побыстрее оказаться у себя дома, на тахте, с книгой в руке.
Справа сквозь зелень листвы проступала церковь. Знакомые детали волшебным ключом стали медленно отмыкать подвалы памяти. Я абстрагировался от площади, которой не было, от замыкающего ее Дворца бракосочетаний, которого не было. Я вдруг увидел улицу такой, какой она была тридцать один год назад.
Здесь, где стоит скамейка, на которой мы сидели, был подъезд красивого дома в стиле барокко. Здесь, в трех метрах от скамейки, мы похоронили Ванюшку Соловьева и его экипаж.
Я вскочил на ноги. Как собака, взявшая след, я быстро пошел по знакомым улицам. Жена и сын едва поспевали за мной. Я показывал им окна, из которых стреляли немецкие пулеметы. Я показывал перекрестки, на которых нам повезло раздавить немецкие пушки.
Я шел к подворотне, войдя в которую, справа я найду полуподвал, тот самый, командный пункт стрелкового батальона.
Жена по диагонали пересекла двор и окликнула меня из проезда:
— Посмотри, вот след твоего танка.
С двух сторон в кирпичных стенах проезда я увидел глубокие борозды, пропаханные надкрылками моего танка.
Из ворот мы вышли на улицу, поднимавшуюся к знакомой церкви. К ней примыкала пересекающая улицу арка. За ней должна быть тесная площадь. Но площадь оказалась просторной, открытой. Я не узнавал ее.
Пожилая женщина неохотно ответила на мой вопрос. Да, она местная, да, она знает, да, вон на том месте, замыкая площадь, стоял большой четырехэтажный дом. А вот здесь, слева от церкви, во время войны было еврейское гетто.
Женщина ушла. Жена и сын молчали, оставив меня наедине с моими воспоминаниями.
Значит, пять дней я воевал в еврейском гетто, не имея об этом представления? Значит, не случайно пришли сюда еврейские партизаны?
Все не случайно. Даже в пекле уличных боев была, оказывается, какая-то закономерность, будившая мою генетическую память. Летом 1975 года я уже был евреем. Я уже понимал. А тогда…
Утром 13 июля утихли бои. Не знаю, почему именно ко мне пехотинцы привели пленного гауптштурмфюрера. Целенького. Со всеми регалиями, даже с небольшой золотой свастикой на левом лацкане кителя. По знакам различия я определил, что он танкист. Солдат вручил мне его документы. Я сел на каменную тумбу и стал их просматривать. Командир танкового батальона в дивизии СС. Гауптштурмфюрер? Не может быть! Гауптштурмфюрер — это гауптман, капитан.
Структура эсэсовской танковой дивизии была мне знакома до мельчайших подробностей. В дивизии только один танковый полк, состоящий из трех батальонов. В каждом батальоне танков больше, чем в советской бригаде. Командиром батальона должен быть полковник, а передо мной стоял капитан. Много орденов, пожилой (1913 года рождения, то есть тридцать один год), командир эсэсовского танкового батальона, и всего лишь гауптштурмфюрер!
— Зецен зи зих, битте, — указал я ему на соседнюю тумбу.
Эта фраза еще не вызвала у меня языковых затруднений. И вот, мобилизовав эти «обширные» знания, я начал допрос, на который меня никто не уполномочил. Просто было очень любопытно, каким образом в Вильнюсе оказался командир танкового батальона дивизии «Викинг».
Гауптштурмфюрер с насмешкой наблюдал за тем, как мучительно я подбираю слова, чтобы сконструировать фразу, и вдруг ответил на вполне приличном русском языке.
Оказалось, что часть танков немецкого батальона выскочила из окружения северо-западнее Вильнюса. Его танк Т-6, тигр, был подбит, а он вместе с двумя членами экипажа вернулся в город. Он австриец, родом из Вены, учился в университете. В 1933 году из идейных соображений вступил в национал-социалистическую партию.
— А вы знаете, что я еврей? — с вызовом спросил я.
— Ну и что? Я знаю, что вы из Второй гвардейской танковой бригады, и догадываюсь, что вы коммунист. Этого уже достаточно, чтобы вас убили, если бы вы попали в наши руки. То, что вы еврей, уже ничего не прибавило бы.
— Но вам-то добавляет унижения, что вас, фашиста, допрашивает еврей и что ваша жизнь сейчас полностью в моих руках? Кстати, почему бы мне не убить вас? Вы на моем месте, надо полагать, не раздумывали бы?
— Большего унижения, чем отступление из-под Витебска, а до этого — из-под Москвы, мне уже не пережить. Большего разочарования, чем крах идеи, у человека быть не может. А то, что вы еврей, для меня лично не имеет значения. Большинство моих друзей в Венском университете были евреями. Нескольких из них после тридцать восьмого года мне удалось переправить в безопасную эмиграцию. Некоторые не хотели поверить моему предвидению, во что выродится идея национал-социализма. Увы, все эти социализмы, и национал- и марксистско-ленинский — клок сена на оглобле повозки, в которую запряжена подыхающая кляча. Приманка для идиотов.
Я схватился за парабеллум. Гауптштурмфюрер слегка улыбнулся и продолжал:
— Вам, по-видимому, нет еще двадцати лет. В вашем возрасте и, к сожалению, даже позже я тоже слепо верил. Я видел, как идейных национал-социалистов оттирает всякая шваль — люмпены, карьеристы, уголовники. Вас ведь удивило, что я всего лишь гауптштурмфюрер. Честным людям нет места при любом социализме. Убьете вы меня или не убьете, для меня все кончено. Германия кончена. Даже ваш фюрер завершил бы это, уложив еще несколько миллионов Иванов. Но ваши союзники высадились пять недель назад. Это ускорит конец. Обидно. Но еще обиднее, что одна фашистская система побеждает другую.
Я снова откинул клапан кобуры пистолета.