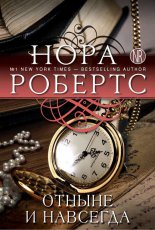Война никогда не кончается (сборник) Деген Ион

Мыльный пузырь
Когда затихали бои, старшина приносил нам смену чистого белья. В живых оставались немногие. И белья было немного. Всего лишь один узел.
Первый банный день после боев, как омовение покойника. Ни шуток. Ни смеха. Вид крепкого мужского тела был сейчас неприятен, даже страшен. Слишком много таких тел, изувеченных и обгорелых, видели мы еще вчера. А кто завтра? Он? Ты? Быстрее спрятать пугающую наготу.
Я надеваю белье и успокаиваюсь. Не потому ли, что от него пахнет чем-то очень знакомым?
Приятная свежесть. Мыло. Горячий утюг. Запахи родного дома. Так пахнут теплые руки мамы. Как это все далеко и неправдоподобно. Может быть, кроме войны, вообще ничего не существует?
Я никогда не задумывался над тем, кто на войне стирает белье. Старшина приносил его — и ладно.
Как-то перед боем я впервые увидел необычное подразделение незнакомого тыла.
Мы ехали по тесной просеке. Ржавые сосны нехотя расступались перед танками. Небо, как застиранная гимнастерка. Тяжелая тоска марша в предвидении боя.
На опушке, над серой речушкой приютились потрепанные палатки. Старая хвоя маскировала двуколки и камеры для дезинфекции. А между соснами на веревках белье. Наверное, все существующее на свете белье вывесили на этой истерзанной снарядами опушке.
Девушки в гимнастерках с закатанными рукавами оглянулись на шум танков, помахали нам вслед и продолжали полоскать.
Солнце на мгновение выглянуло из-за туч. Нежные радуги вспыхнули в груде грязной мыльной пены на берегу.
Меня потрясла несовместимость увиденного: мирно развешанное белье и предстоящий бой; тонкая девушка со светлыми волосами, с добрым свечением спокойных карих глаз и узел, который она с трудом волокла к дезинфекционной камере.
Какая-то неведомая струна тоскливо зазвенела в моем сердце.
Как и обычно во время марша, я сидел на левом надкрылке. Я увидел, как в усталых глазах механика-водителя сверкнула улыбка. Он что-то крикнул мне. Я не расслышал и наклонился поближе к люку. Механик показал большим пальцем за спину и снова крикнул:
— Мыльный пузырь, говорю!
Я тоже улыбнулся в ответ. Просто так. Потому, что он мой друг, не только мой подчиненный.
О чем это он? Что заставило его улыбнуться? Прозрачная радуга над грязной пеной? Воспоминания?
…мыльница с мутной водой на донышке. Ветерок осторожно снимает с конца трубки эфемерный радужный шар. Он летит и светится. И мир сквозь него такой сказочный и красивый. Он летит и вдруг соприкасается с несказочным миром. И взрывается. И нет беззащитной колеблющейся оболочки. Только маленькое влажное пятнышко, как случайная слеза. Но в мыльнице еще есть пена. И снова окунается в нее бумажная трубка. И нет конца волшебству…
Не это ли засветило улыбку в измученных глазах моего механика-водителя? Он всего лишь на два года старше меня. Чуть ли не от мыльных пузырей мы пришли на войну.
Я поворачиваюсь назад. Плотная туча погасила солнце. Лес убегает все дальше и дальше. Танки взвихрили густую пыль. Но мне кажется, что я различаю там что-то очень красивое — нежную радугу… или добрые глаза светловолосой девушки.
Я познакомился с ней поздней осенью. Уже не было в живых моего механика-водителя. И многих не было.
— Сходим сегодня в мыльный пузырь, лейтенант? — спросил меня командир второй роты.
Не знаю, действительно ли недоумение сделало мое лицо таким забавным, но офицеры смеялись долго и дружно. Вот когда я впервые узнал, что мыльным пузырем на фронте называли подразделения для стирки белья.
«Мыльный пузырь» располагался по соседству с нами. Мы пошли туда вечером. До передовой было одиннадцать километров. Но мертвое свечение ракет лежало на осыпающихся брустверах траншей, на воронках с водой, на наших шутках.
Гостеприимно распахнулись двери просторной юнкерской усадьбы. Настоянный на мыле воздух, как матовый плафон, смягчал живой и веселый свет коптилок. Капитан не всегда попадал на нужную клавишу. Аккордеон ошибался и смущенно поблескивал перламутром.
Я сразу узнал ее. Куцая гимнастерка любовно окутывала ее тонкую фигуру. Светлые мягкие волосы спадали на солдатские погоны.
Никогда еще танцы не доставляли мне большей радости. В тот вечер я был только с ней. Робость сковала мои суставы. Нет, я не разучился танцевать. В бригаде мы иногда танцевали друг с другом. Мы были молоды и танцевали, несмотря на бои и потери. И сейчас в моих осторожных ладонях был солдат.
Но случайно я ощутил на спине пуговицы под гимнастеркой. Тяжелая волна захлестнула меня. Шел четвертый год фронтовой жизни.
Она смотрела на меня спокойными и добрыми глазами. Золотистые лучи разбегались от зрачков. И вся она до кончиков сапог была светлая и чистая.
Вечер пронесся, как добрый сон, когда не помнишь, что приснилось, но радостное состояние долго не покидает тебя.
Расстались мы уже далеко за полночь. Она крепко пожала мою руку и очень тихо сказала:
— Спасибо.
Всю дорогу и потом я думал о ней и о том, что услышал.
За что спасибо, славный Мыльный пузырь? Не за то ли, что я промолчал почти весь вечер? Или за радость, которой я еще не знал? Или за то, что я старался не замечать, как в зале становилось все меньше танцующих, как из боковых дверей осторожно появлялись расслабленные и слегка смущенные пары?
Мы стали там частыми гостями. Я уже знал, что светловолосая девушка ушла на фронт с первого курса университета. Она мечтала о подвиге. Но были горы грязного белья, и огрубевшие маленькие руки, и гордая чистота.
«Мыльный пузырь»… Почему так называли это подразделение? Может быть, потому, что для солдата оно было мимолетным, недолговечным?
«Мыльный пузырь»… Я не хотел видеть двусмысленных улыбок моих друзей. Не замечал грязи во всех ее проявлениях. Для меня это был радужный мыльный пузырь моего детства — красивый, как ее улыбка.
Был обычный вечер. Мы сидели и смотрели на танцующих. В моей руке приютилась маленькая шершавая ладонь светловолосой девушки. Она осторожно перебирала мои пальцы. Коптилки мерцали в такт вальсу. Капитан зажал в углу рта папиросу и щурил глаза. Папироса мешала ему играть.
Внезапно умолк аккордеон. Капитан широко раскрыл глаза и прислушался. Танцевавшие остановились.
Мы услышали ревущие моторы танков. Нас звали. Я не помню прощания. Мы мчались под кровавыми тучами. Моросил отвратительный прусский дождик. Липкая глина хватала нас за ноги. Мы перепрыгивали через траншеи. Мы спотыкались на брустверах и падали. Над передовой полыхало пламя.
Я вскочил в башню и надел танкошлем. Дорогой мой Мыльный пузырь…
1959 г.
Командир взвода разведки
Средь мертвой тишины
Мне ветер нашептал:
Не выйти из войны
Тому, кто воевал.
Инна Лиснянская
Все… Конец… Каждая из шести секунд, в течение которых еще был какой-то шанс выскочить из горящего танка, казалась ему вечностью. Загорелось сиденье. Обожгло ягодицы и бедра. Боль подбросила на ноги. Он схватил рукоятку перископа, пытаясь поднять переднюю крышку люка. Заднюю в этих боях он не закрывал ни разу. Но руки почему-то были ватными. Крышка не открывалась. Все… Наверное, истекли шесть спасительных секунд. Дым горящей газойли сдавил горло…
А дальше? Был он еще жив? Или это привиделось ему уже после смерти?
Передняя крышка люка откинулась сама по себе. На фоне легкой августовской тучки появилась голова ангела. Все…
Он открыл глаза. Ангел сидел рядом с ним, лежащим на траве метрах в тридцати от горящего танка. Ангелом оказалась невысокого роста красивая девушка с погонами младшего лейтенанта. Тонкую талию перетягивал ремень с пистолетом и подсумком с гранатами. У ног на траве автомат ППШ, а не санитарная сумка. И погоны не узкие, не медицинские. До него дошло, что ангел, вернее, что младший лейтенант, не медичка. И тут чувство стыда превозмогло боль в ягодицах и бедрах, потому что, хоть он лежал на спине, но даже спереди голое тело проступало сквозь дыру в прожженном комбинезоне и брюках.
А еще он не мог понять, каким образом оказался тут. Неужели эта маленькая девушка смогла извлечь из башни больше семидесяти килограммов живого веса? А дальше? Как спустить эти килограммы с высоты двух с половиной метров? Как оттащить от горящего танка?
Оттуда, куда ушли уцелевшие машины, подошли солдаты. Человек десять. Половина из них в маскхалатах. Понятно: это разведчики. Пожилой сержант, ему никак не меньше тридцати пяти лет, с некоторым смущением сказал:
— Ну даешь ты, командир. И как это ты успела? А мы ведь залегли, когда по танкам открыли огонь. Виноваты.
— Ладно… Вы лучше снимите с него комбинезон. Сергей, дай-ка мне пару индивидуальных пакетов.
Но индивидуальные пакеты не понадобились. Из тыла примчались батальонный военфельдшер, лейтенант медицинской службы Ванюшка Паньков, и санитар из его взвода. Они распороли комбинезон, брюки и перевязали оба бедра у самого паха. Добро разведчики со своим младшим лейтенантом уже ушли. Надо же! Совсем еще девочка — командир взвода разведки!
На следующий день бригаду вывели из боя. Какую там бригаду… В их батальоне осталось два танка — командира и еще один. А из экипажей — человек двадцать.
Лейтенант отказался от направления в госпиталь. Даже в санвзвод бригады не обратился. Ожоги на ягодицах зажили быстро, а на внутренней поверхности бедер не заживали. Ходить приходилось в раскорячку. По всем признакам до следующих боев еще далеко. Ни танков, ни пополнения. Он был уверен, что до следующих боев будет в порядке. Но болело, и он все чаще приставал к Ванюшке Панькову: делай что-нибудь!
Однажды во время перевязки Ванюшка сказал:
— Тебе, кажется, повезло. Тут, в имении, расположилась армейская аптека. Подойди к ним и попроси синтомициновую эмульсию и спермокрин. Вылечу тебя в два счета.
— Чего это я должен подходить? Ты батальонный фельдшер, ты и подойди. Я же не зову тебя регулировать прицелы или длину тяги акселератора.
— Чудак-человек! Кто же мне даст? А ты боевой гвардейский офицер, увешанный орденами. Тебе никто не откажет.
Лейтенант сомневался. В аптеке работают женщины. А он в их присутствии чувствовал себя как-то неловко. В училище в их роте только четверо курсантов, и он в их числе, не ходили по бабам, что было поводом для сальных шуток однополчан. Их даже окрестили — четыре капуцина. А еще до училища в госпитале после ранения он пережил ужасный конфуз. Очень нравилась ему сестра Дина Мирзоева, азербайджанка, на пять лет старше его, семнадцатилетнего. Она всем нравилась. Когда раненые обсуждали ее статьи и возможные варианты, он сладостно умирал от напряжения. И вот как-то после отбоя Дина позвала его в ординаторскую. Госпиталь спал. Дина привлекла его к себе. Обнимая его, она лежала под ним с закрытыми глазами. За мгновение до того, как все должно было произойти, его за волосы приподняла дежурный врач Мария Николаевна. Они не слышали, как она вошла. И вообще, почему она вошла, если должна была оставаться в ординаторской на третьем этаже?
— Дина, ну как ты можешь? Он же еще совсем мальчик!
Ни одна из ран не причинила ему такой боли, как эти слова Марии Николаевны. Да и потом… Может, именно это было причиной того, что в училище он не ходил к бабам? Может, по этой причине он сейчас так не хотел идти в аптеку? Но странно, Ванюшку почему-то поддержали все оставшиеся в живых офицеры — один из его взвода, еще два из их роты и четыре уцелевших из Первой.
Армейская аптека располагалась в одноэтажном каменном здании. Дверь. По обе стороны от нее по два окна. До аптеки проводил его Ванюшка и шесть офицеров. Довели до двери.
— Ну давай, — сказал Ванюшка. — Ни пуха, ни пера.
За дверью открылось просторное помещение, уставленное небольшими столиками. Штук тридцать, не меньше. За каждым сидела девушка в белом халате. И каждая, оторвавшись от своих колб, весов и пакетиков, подняла глаза на лейтенанта. А лейтенант остановился, как болванка, ткнувшаяся в броню. За столиками в первом ряду напротив двери сидели две очень красивые девушки, яркая брюнетка и не менее впечатляющая блондинка. Именно она, приветливо улыбнувшись, сказала:
— Ну здравствуйте, лейтенант.
— Ох, простите! Конечно, здравствуйте.
— Так что вас привело к нам?
— Понимаете, наш батальонный фельдшер послал меня попросить у вас два лекарства — синтомициновую эмульсию и спермокрин.
Аптека улыбнулась.
— У меня ожоги медленно заживают, и Ванюшка, значит, наш батальонный фельдшер сказал, что лекарства ускорят заживление.
— Бедненький! А где у вас ожоги?
Он почувствовал, что заливается краской. К счастью, девушки за всеми столами, не спускавшие с него глаз, почему-то отвлеклись и посмотрели на окна.
— Вы не ответили. Так, где же у вас ожоги?
— Бедра, в общем.
— Бедра. Бедненький!
Блондинка повернулась к девушке, сидевшей сзади от нее:
— Люба, приготовь баночку синтомициновой эмульсии. А вместо спермокрина я предложу вам другое лечение. И даже сама займусь им.
— Почему ты? — вступила брюнетка. — Не исключено, что мое лечение окажется более эффективным.
Девушки рассмеялись. Только сейчас до лейтенанта дошел смысл происходящего. Только сейчас он сообразил, что корнем слова спермокрин является сперма. Только сейчас он проследил за взглядом девушек, повернулся и за каждым окном увидел своих товарищей. Он выскочил из аптеки. Вслед за ним выскочила брюнетка с баночкой в руках.
— Стойте, гвардии лейтенант. Вот ваша эмульсия. Приходите. Вы ведь совсем рядом с нами.
Ванюшке Панькову досталось тут же по пути в подразделение. Но он, поддержанный офицерами, перешел в наступление:
— Ну и дурак ты. Я ведь знал, что ты понравишься. Ты бы спасибо мне сказал, девственник несчастный.
Вечером Ванюшка подошел к нему:
— Слушай, лейтенант, пошли в аптеку?
Лейтенант промолчал, потом спросил:
— Ты ведь видел младшего лейтенанта, которая вытащила меня из танка? Я даже не поблагодарил ее. Не знаешь случайно, из какой она части?
— Еще бы! Это знаменитая Марина Парфенова, командир взвода в роте дивизионной разведки 184-й стрелковой дивизии.
— 184-й? Так мы с ними взаимодействуем с самой весны! Дивизионной разведки? Значит, они где-то рядом со штабом дивизии. Вот подживут ожоги, пойду туда.
— Чудик. До штаба дивизии больше пяти километров, а до аптеки шестьсот метров. А где еще она, дивизионная разведка? И кто знает, как примет тебя знаменитая Марина Парфенова. А эта красавица-брюнетка уже готова… Долго еще будешь оставаться дураком?
Лейтенант повернулся и ушел. Он был полон решимости найти дивизионную разведку.
Синтомициновая эмульсия оказалась чудодейственной, ожоги почти зажили. Но планы лейтенанта столкнулись с планами командования. Трехосный «студебеккер» в спешном порядке привез оставшихся в живых офицеров и механиков-водителей на ближайшую железнодорожную станцию, там уже разгружался эшелон с танками и экипажами.
Всего два дня было у лейтенанта на знакомство с новым экипажем, на интенсивные занятия, чтобы хоть как-то подготовить к бою почти необученных мальчиков, выпускников учебно-танкового полка, и на то, чтобы подкормить отощавших в тылу танкистов, без чего не могло быть речи о подготовке экипажа к бою. Для подкормки лейтенант не погнушался некоторой экспроприацией продуктов питания у местных литовцев. А через два дня танковая бригада прорыва вступила в бой. Началось осеннее наступление.
Первый день наступления оказался удачным. Батальон вклинился в немецкую оборону на пятнадцать километров. За ужином лейтенант налил каждому члену экипажа по сто граммов и похвалил за умелые действия. Утром второго дня все оказалось иначе. Танки пошли в атаку без артиллерийской подготовки. Сказалось и то, что это была уже немецкая земля. У самого фольварка сожгли машину из его взвода. По вспышке выстрела лейтенант заметил немецкий Т-4 и уничтожил его. В самом фольварке они убили не менее пятнадцати фрицев. В полукилометре на юго-запад от фольварка, на опушке березовой рощи, увидели группу из примерно десяти человек. Лейтенант уже хотел отдать команду открыть огонь, но что-то заставило его взяться за бинокль Невероятно! Это были дивизионные разведчики с Мариной Парфеновой.
Лейтенант приказал механику-водителю укрыть машину между домом и амбаром, выскочил из танка и помчался навстречу разведчикам. Они еле плелись. Оказалось, за неделю до начала наступления их послали в немецкий тыл с заданием передавать по рации обстановку, не обнаруживая себя, не вступая в бой и не захватывая «языка», что обычно было их основной работой. Ему очень хотелось обнять Марину, своего спасителя. Но он только осторожно снял ее правую руку с приклада автомата, поднес к своим губам и нежно поцеловал.
— Спасибо вам огромное. Я тогда даже не успел вас поблагодарить. Спасибо. Спасибо.
— Командир, это же, никак, твой крестник? — спросил пожилой сержант, тот самый, который оправдывался тогда, возле сгоревшего танка.
— Рада вас видеть, лейтенант, — сказала Марина, — заняв этот подлый фольварк, вы помогли нам выйти к своим. Дай нам Бог остаться в живых. Небось еще встретимся.
На четвертый день подбили его танк. Выжили механик-водитель и он. Из старых офицеров, пришедших в бригаду в начале лета после окончания училища, в батальоне никого не осталось. И снова ожидание формирования. Ожидание новых танков и новых экипажей. А пока оставшихся в живых разместили в одиннадцати километрах от переднего края, от линии немецкой земли, на которой захлебнулось осеннее наступление. Оборону занимала все та же 184-я стрелковая дивизия. И опять рота дивизионной разведки была на пять километров ближе к передовой.
Лейтенант пришел туда в дождливый полдень конца октября месяца. Встретил его капитан, командир роты.
Немолодой, примерно такого же возраста, что и сержант, который назвал его «крестником».
— Так ты и есть тот самый танкист, которого вытащила Марина? Ну садись. А Марина спит. Ночью она с ребятами притащила «языка». Да какого «языка»! Можно сказать, твоего коллегу. Командира взвода из танковой дивизии СС. Если и сейчас ее не произведут в лейтенанты!.. Понимаю, гвардии лейтенант, что ты пришел к Марине. Но честное слово, не стоит ее будить.
— Что вы, товарищ капитан! Ни в коем случае. Приду в другой раз. Пожалуйста, передайте ей привет.
— Передам, а как же? Куда ты? Садись, перекусим. Самое время обеда. А Марина говорила о тебе. Скромный, говорит. Это редко, чтобы Марине кто понравился. Потому и в звании не повышают и награждают не очень. Сволочь у нас начальник разведки дивизии. Трус и бабник. А Марина блюдет себя. И знаешь, гвардии лейтенант, ее взвод, а чуть ли не половина там уголовнички, любит ее за это, а не только за то, что отважнее разведчика не сыщешь. А еще любят за то, как бережет их. Сто раз продумает каждую операцию. Для каждого случая отберет самых подходящих. И обязательно сама пойдет. Моей дочке скоро двенадцать. В Бийске она с женой. Так знаешь, о чем я мечтаю? Чтобы моя Вера стала такой, как Марина. А еще образованная она. На фронт ушла после первого курса филологического факультета университета. Сразу же, как исполнилось ей восемнадцать лет. А тебе сколько?
— Девятнадцать.
— Она на год старше. Славная она. Но вот начальник разведки мстит ей. Я уже в нарушение устава обращался к генералу. Но и он ничего не может. Где-то у этого гада сильная рука. А ведь Марину знают не только в дивизии… Жаль, не хочется мне ее будить…
— Что вы, товарищ капитан! Конечно, не надо. Я еще обязательно приду.
— Приходи, приходи. Ты и нашим разведчикам понравился. Рассказывали, как ты ей в бою руку поцеловал.
— Так уж и в бою, — смутился лейтенант.
Пришел он на следующий день. Надеялся на то, что его не поднимут на смех за три георгины, которыми снабдил его Ванюшка Паньков. Военфельдшер знал, что лейтенант собирается к Марине, и утром возле полевого госпиталя, километрах в двадцати от их расположения, в разбитой теплице срезал три последних неувядших красных георгины.
Он вошел в уже знакомое хозяйственное строение большого юнкерского имения, в котором разместилась рота разведки. Марина поднялась навстречу. Неуверенно, словно совершая нечто недозволенное, он вручил ей георгины. Марина приподнялась на цыпочках и поцеловала его в щеку. Разведчики, не спускавшие с них глаз, зааплодировали. Кто-то из них сказал:
— Ну, брат, а мы уже думали, что наш командир не способна на такое. Вы, лейтенант, нас тогда здорово выручили, когда взяли тот фольварк. Мы уже двое суток от голода припухали в роще. А высунуться не было никакой возможности.
Трудно сказать, кто был больше смущен — лейтенант или Марина.
— Тот танк вы здорово долбанули. Командир сказала, что вы еще две «пантеры» в тот день уничтожили.
Его удивило, что и это стало ей известно. По одному с небольшими промежутками разведчики покидали комнату. Иногда просто так. Иногда появлялся предлог. Иногда ушедший раньше вызывал очередного. Вскоре они остались одни в пустом помещении.
— Капитан сказал, что вы учились на филологическом факультете.
— Было такое. Но уже прошла целая вечность. Иногда вообще не верится, что была мирная жизнь, и университет, и любимая поэзия. Иногда кажется, что в мире нет ничего, кроме смертельной опасности, грязи, матерщины, хотя мои ребята щадят меня и в моем присутствии стараются не сквернословить. Но как удержишься? Я их понимаю. Иногда мне тоже хочется матюгнуться. А вы, я понимаю, после десятого класса попали в танковое училище?
— Нет. После второго ранения. А в десятом классе мне не пришлось учиться. Ушел на фронт после девятого.
Наползали сумерки. Выяснилось, что оба они любят Лермонтова. Марина называла еще поэтов, имена которых он слышал впервые. Бальмонт. Брюсов. Гумилев. Северянин. А потом не только русских. И стихи у них, оказывается, замечательные. Ему не хотелось уходить. Но он предупредил командира роты, что вернется к семи. Видно было, что и Марине не хочется расставаться с ним. Она доложила своему капитану и пошла проводить гостя. Прошли они около километра до старой липовой аллеи. Потом он пытался вспомнить, о чем они говорили. Но в сознании запечатлелись не слова, не темы, а ощущение теплоты. Они остановились у старого черного дуба. Листья уже опали. Мокрые ветки клонились к земле. Ему показалось, что ей холодно в ее шинели и пилотке. Ему захотелось прижать ее к себе. Даже поцеловать. Но он не смел. Откуда было ему знать, что именно этого она ждала? Ждала и удивлялась, что способна на такое. Они договорились о встрече. Марина подала ему руку. Он пожал ее, как пожал бы товарищу по батальону.
Так началась дружба двух командиров взводов — танкового и разведки.
В ноябре они встречались не реже двух раз в неделю. Иногда, придя к разведчикам, он не заставал ее. Взвод был на задании. Тогда, узнав о посещении, она приходила к танкистам. Но и это порой оказывалось безуспешным. Танки были то на стрельбах, то на тактических занятиях, то выезжали на рекогносцировку. Можно было бы подождать их возвращения, а кто знает, сколько ждать. Командир взвода разведки не располагал неограниченным временем. Но до чего же радостными были их встречи! Беседы. Стихи. Трудно объяснить, почему разведчики приняли такие отношения двух командиров взводов как должное. Другое дело танкисты. И экипаж, и офицеры батальона считали платоническую любовь противоестественной, с нетерпением ждали развития, подзуживая лейтенанта, и улыбались, видя, как это злит его.
— Ну чего ты мудохаешься? — сказал как-то командир роты. — Ты что, не понимаешь, что она хочет, чтобы ты ее?..
Один только начальник боепитания батальона, старый капитан Бушуев, — недавно выпивали по поводу его сорокалетия, — сердечно комментировал их дружбу. Он даже объяснил лейтенанту, почему к Марине так относятся ее разведчики — синдром Орлеанской девы. Лейтенант, конечно, знал, кто такая Орлеанская дева, но не понимал, о каком синдроме идет речь.
— Понимаешь, в грязи войны необычная смелая девушка, сохраняющая чистоту, девственность, воспринимается как не от мира сего, как святая, как чудо. Постоянная опасность, страх. А тут рядом святая. Хранит их. Да ты и сам рассказывал, как она бережет своих подчиненных. Вот они и боготворят ее. А вообще Марина — это удивительный человек. Тебя можно поздравить с тем, что досталась такая подруга.
В один из дней конца ноября вскоре после полудня в проливной дождь он пришел к разведчикам. Пять километров по липкой грязи. Плащ-палатка поверх шинели. Вымок весь и внутри и снаружи. Но предвкушение встречи с Мариной скрасило дорогу. Капитан, командир роты разведки, встретил его приветливо, как и обычно. Но, казалось, к приветливости прибавился еще какой-то нюанс, какая-то удовлетворенность, чуть ли не радость.
— Понимаешь, Марину чего-то вызвал майор, начальник разведки. Я тебе уже говорил, что сволочь он большая. И чего это вызывать командира взвода через мою голову?
— Где это?
— Видишь господский дом?
Он поднялся по трем ступенькам и вошел в широкий коридор. Четыре запертые двери. Из-за одной доносился крик, обильно насыщенный матом.
— Мне дать отказываешься! Не подходит тебе пехота! С танкистом е…ся!
Он рывком распахнул дверь. Увидел майора лет тридцати, увешанного орденами. Марина вытянулась перед ним по стойке смирно. Лейтенант слегка отстранил Марину, явно, как и майор, удивившуюся его появлению, и всего себя вложил в удар. Майор упал на спину, не согнувшись ни в одном суставе. Из носа обильно полилась кровь. Марина взяла лейтенанта под руку, пытаясь успокоить его.
— Ну зачем ты? Это же обычные взаимоотношения начальника и подчиненного. Помоги ему подняться.
— Значит, так, лейтенант… Штрафным батальоном ты у меня не отделаешься. Обещаю тебе высшую меру!
Марина удержала руку, готовую повторить удар. Уже потом, вспоминая это, он понял, как такая маленькая девушка смогла вытащить его из горящего танка. Они вышли из комнаты, из дома. Рассказали капитану о происшедшем.
— Я же предупреждал, что это сволочь. И генерал с ним чикается, хотя уже не раз убеждался в том, какая это гнида. Ты доложишь своему командованию?
— Конечно.
Вместе с командиром своей роты он обратился к командиру батальона. Тот, обложив его матом, повел их к командиру бригады. Гвардии полковник спокойно выслушал взволнованный рассказ одного из лучших своих командиров взводов.
— Говоришь, начальник разведки 184-й стрелковой дивизии? Знаю, знаю. У генерала тоже не все просто с этой блядиной. Но, кажется, есть вариант. Блядина — шурин оч-чень высокой особы. Если до особы дойдет слух о том, что муж его сестры на фронте блядует, и за это получает ордена, то шуряку можно не позавидовать. Короче, в таком плане я побеседую с генералом. Думаю, он поблагодарит меня за то, что сможет избавиться от этой личности. Иди, лейтенант, и хотя ты гвардейский офицер, в будущем не вызывай никого на дуэль. Нет у нас сейчас дуэлей. А субординация есть.
Действительно, все обошлось без последствий, если не считать того, что Марину не наградили орденом, к которому она была представлена.
В декабре фронт перешел на зимнее обмундирование. Начались снега. Свидания с Мариной стали редкими. Разведчики почти круглосуточно были на заданиях. Да и у танкистов поубавилось свободного времени. По всему было заметно, что скоро закончится стояние в обороне. Но отпраздновать Новый год решили по-царски. В самом большом зале имения, в котором располагалась рота танкистов, во всю длину соорудили стол и скамейки. Старшина привез откуда-то несколько сервизов, хрустальные рюмки, бокалы и фужеры. В жизни своей они не видели такой роскоши. Все-таки Германия. Батальонный повар приготовил закуски. Лейтенант пригласил Марину. Капитан, командир роты разведки, отпустил ее до утра. В десять часов вечера сели за стол. Марина слева. Справа экипаж его танка. Напротив экипаж второго танка его взвода. Между ними на столе два одинаковых изящных хрустальных графина. В одном спирт, во втором вода. Половину рюмки Марины он наполнил спиртом и долил водой из второго графина. Себе и экипажу налил чистый спирт. Командир роты произнес тост за уходящий год, за победу. Выпили. И вдруг Марина буквально перестала дышать. Лейтенант испугался. Решил, что ошибся и вместо воды долил в рюмку из графина со спиртом. Схватил графин с водой и плеснул в фужер. Марина надпила и чуть не потеряла сознание. Оказалось, какая-то сволочь, чтобы споить Марину, подменила графин с водой графином со спиртом. До двенадцати часов он не дал ей ни капли спиртного. А в двенадцать выпили за год окончательной победы. И тут началось! Все выскочили на морозный воздух и начали стрелять из всех видов оружия. Ребята притащили ракетницы со всем запасом ракет. Орудия открыли спонтанный огонь. Настоящая артиллерийская подготовка. Салют такой, что куда там московскому — двадцать залпов из каких-то сотен орудий. Все обошлось без наказаний. Списали на предсказание победы.
Застолье закончилось где-то в начале второго ночи. Лейтенант устроил Марину на кровати в своей каморке и пошел искать место для ночлега. Но места нигде не оказалось. Танкисты, утаив от него, заранее договорились об этом. Марина, поняв, что ему негде спать, велела остаться с ней в его комнатушке. На пороге, у подножия кровати, он расстелил шинели, свою и Марины.
Он скорее догадывался, чем видел, как Марина сняла гимнастерку и ватные брюки. На своем ложе он разместился, не раздеваясь. Но и одетого его донимал холод, проникавший в щель под дверью.
— Иди сюда, — сказала Марина.
Он разделся быстрее, чем в училище после отбоя, и лег рядом с Мариной. Господи! Какая она нежная! Впервые в жизни он лежал рядом с женщиной. Дина Мирзоева не в счет. Тогда в течение какого-то мгновения это была животная вспышка страсти. А сейчас они обнимали друг друга, сейчас поцелуи были символами любви, любви такой, о какой он только в книгах читал. Но вдруг… Вдруг все стало таким, как тогда с Диной Мирзоевой. Небывалую нежность подавила неподвластная страсть. Марина ощутила ее физически. Она разжала объятие и вдавилась в стенку на краю кровати. Он почувствовал, он понял, что должен остановиться. Но как? Никогда еще это изумительное, это проклятое желание не достигало такой силы. Марина превратилась в базальтовую глыбу. Он встал и как был раздетым вышел наружу. Снег искрился под большими звездами и редкими вспышками ракет. Он пришел в себя, почувствовав, что замерзает. В комнатушке он снова лег на полу, на шинели.
Утром, когда башнер принес им в котелках завтрак, он пытался вспомнить, уснули ли они хотя бы немного.
После завтрака он пошел провожать Марину. Началась метель. Порывы западного ветра засыпали их снегом. Идти было тяжело. Валенки утопали в сугробах.
— Ты сердишься на меня, родной? — спросила Марина.
— Какое у меня право сердиться. Никогда в жизни я не забуду, что ты не только мой спаситель, но и любимая девушка.
— Родной мой, я так тебя хотела! Может быть, еще больше, чем ты меня. Но я боялась.
— Боялась? Чего?
— Мы с тобой еще такие неумелые. Боялась забеременеть. Хотя и это было бы для меня счастьем. Но не сейчас. Ты же знаешь, как забеременевших медичек, связисток и прочих отправляют в тыл. Забеременеть сейчас, значит покинуть фронт. Оставить своих разведчиков. Это дезертирство.
До самого штаба дивизии они говорили о любви, о счастье, о будущем… Но будущее началось уже через несколько часов…
Сразу же после возвращения Марины в подразделение вся рота пошла на задание. Дважды лейтенант приходил к Марине и дважды не застал ни ее, ни кого-либо из разведчиков. В третий раз старшина роты, единственный, кого он нашел, сообщил по большому секрету, что все на заданиях, а отделение, отобранное Мариной, сегодня надолго ушло в немецкий тыл. Так. Понятно. Готовится наступление.
Вечером этого дня бригада вышла на выжидательную позицию. А утром началось зимнее наступление. Танки вступили в бой после двухчасовой артиллерийской подготовки, в которой на их двухкилометровом участке прорыва было пятьсот орудий, не считая «катюш» и минометов. Но лишь на пятый день наступления бригада выполнила задачу первого дня. А на шестой, когда уже приближались сумерки, четыре уцелевших танка его роты остановились за длинной кирпичной конюшней. Из соседнего фольварка к ним приближались пять солдат в белых маскхалатах. Впереди как колобок катилась Марина в шапке-ушанке и белом маскхалате поверх ватника, ватных брюк и валенок. Он побежал навстречу, обнял Марину, за руку поздоровался с разведчиками. Каждого из них он уже давно знал по имени.
— Такая маленькая группа? Всего лишь пять человек?
— Из одиннадцати, — ответила Марина. — Четыре погибли. В том числе и твой любимец. Старик, как ты называл его. Двое ранены. Один — тяжело. Их уже забрали в санбат.
С Мариной они уединились в конюшне, забравшись в широкие деревянные ясли. Сняв перчатки, они держались за руки. Он удивился, когда Марина поздравила его с назначением командиром роты. Как она узнала об этом? Он забыл спросить ее. И вообще говорить не хотелось. Придавленные тяжестью потерь, они лишь касались друг друга.
Темнело. На мотоцикле прикатил адъютант старший. Сейчас будет очередной приказ. Капитан ждал у входа, пока лейтенант прощался с Мариной и разведчиками.
Прошло еще двое суток и ночь. Остатки бригады перебросили на другое направление. Он ничего не знал о Марине. А утром третьего дня — не все же везенье! — танк подбили. Хорошо хоть, что машина не загорелась. Тяжело раненого его увозили все дальше и дальше в тыл.
Первое письмо от Марины пришло почти через месяц после ранения. Треугольник был отправлен уже на следующий день. До чего же теплым было это письмо! И все последующие. И то, которое библиотекарь принесла в палату в начале апреля, когда даже водка уже была приготовлена, чтобы выпить в День Победы. В письме, согревавшем любовью, только одна строчка была густо замазана военной цензурой. Он тщетно пытался отгадать, что могло быть в этой строчке. А еще в то утро сестра дала ему костыли и разрешила впервые выйти в коридор. И тут произошло чудо. Навстречу, тоже на костылях, без правой ноги выше колена переваливался капитан, командир роты разведки.
— Это же надо! Ты в какой палате?
— Во второй. А вы?
— В третьей. Ну, знаешь, такого просто не может быть! И давно ты здесь?
— Месяца два, наверное. Точно не знаю. Сперва я все время был без сознания. А вы?
— А я месяц. Ранен двадцать первого февраля. Медсанбат. Полевой госпиталь. Санитарный поезд. А здесь уже месяц. Эх, кабы знал, что и ты здесь!
— Надо же такие совпадения! А я только что получил письмо от Марины, написанное двадцать первого февраля.
Капитан не ответил. Лейтенант увидел, как у него заходил кадык.
— Двадцать первого… Я видел, как она писала это письмо, как складывала его, как оставила старшине. А через полчаса мы ушли на задание. Вот и все…
— Что — все?
— Все! Видишь, я без ноги… Но главное — нет Марины.
Он не помнил, как прошел несколько метров до своей палаты, как очутился на койке… Рядом с ним сел капитан. Молчали. Кто-то, ни о чем не спрашивая, достал из тайника поллитровку и налил им по стакану водки. Потом капитана перевели в его палату и поместили на койке справа, а лейтенанта, занимавшего эту койку, перевели в третью палату.
Однажды капитан рассказал, что Марина относилась к нему, как к отцу родному. Не было у нее тайн от него. Даже о ночи встречи Нового года она рассказала своему командиру роты без утайки. Тогда он ничего не сказал ей. Ни похвалы, ни порицания. А теперь сказал бы. Бедная девочка, ты, которая сделала столько, сколько не каждому сильному и смелому мужику под силу, не испытала ты счастья, которое полагается по штату каждой женщине. Боялась забеременеть. Дезертирство… Уж лучше бы такое дезертирство. К тому же кто бы увидел беременность за месяц и двадцать дней, которые оставались в твоей жизни? Эх, Марина, Марина. До самой выписки капитана из госпиталя они были вместе. Потом…
Но потом уже не было Марины.
2007 г.
Стреляющий
Особое положение в бригаде позволяло мне при формировании экипажей в какой-то мере «проявлять капризы», как выражался по этому поводу адъютант старший батальона. К этим капризам он относился подобно тюремщику, который принимает заказ на последний ужин от арестанта, приговоренного к смертной казни.
Дело в том, что бригада наша несколько отличалась от подобных подразделений, входивших в состав танковых корпусов, Необычность отдельной гвардейской танковой бригады прорыва заключалась в том, что задача ее — прорыв обороны противника любой ценой, чтобы в проделанную нами брешь могли хлынуть танковые соединения.
Термин «любой ценой» по-разному трактовался начальством и танкистами. Для первых это была потеря техники, а для вторых — самоубийство. Батальон, в котором я служил, был ударным, то есть именно он, как правило, шел впереди атакующей бригады. А мой взвод в этом батальоне выделялся в боевую разведку, функцией которой было вызвать на себя огонь противника, чтобы идущие за мной танки могли увидеть огневые средства немцев.
Вот почему адъютант старший только матюгался про себя, когда в очередной раз я отвергал кандидатуру командира орудия.
Бригада вышла из боя в конце октября и сразу приступила к формированию. Через несколько дней на станцию Козла Руда пришло пополнение — новенькие танки с экипажами. Танки сгрузили с платформ. Экипажи выстроились перед машинами. А мы, уцелевшие командиры, прохаживались перед их строем, как работорговцы на невольничьем рынке.
В одном из экипажей обратил на себя внимание молоденький старшина, командир орудия.
Не молодостью отличался он. Во всех экипажах были пацаны. Даже командиры машин. Старшина выделялся подтянутостью, аккуратностью, подогнанностью убогого хлопчатобумажного обмундирования.
Мы прогуливались перед строем, рассматривая танки и экипажи, и комментировали увиденное на своем языке, в котором среди матерного потока иногда появлялось слово, напечатанное в словаре.
Адъютант старший пришел со списком и вместе с командиром маршевой роты начал перекличку. Все шло своим чередом до того момента, пока капитан прочитал: «Старшина Калинюк Антонина Ивановна». «Я!» — отозвался старшина, на которого мы обратили внимание.
Лично мне в эту минуту стало очень неловко за обычный в нашей среде лексикон, не очень пригодный для общения с женщиной.
Выяснилось, что Антонина Калинюк добровольно пошла в армию, чудом попала в учебно-танковый полк, вышла замуж, чтобы быть зачисленной в один экипаж со своим мужем, и таким невероятным способом оказалась в маршевой роте. Ее муж — башнер, рядом с ней по другую сторону орудия.
Ну и дела! Девушка в экипаже! На минуту я представил себе, как мы перетягиваем гусеницы, как тяжелым бревном, раскачивая этот таран, по счету «Раз-два, взяли!» ударяем по ленивцу, как стонет каждая мышца — и это у здоровых мужчин. Каково же девушке? А каково экипажу, у которого не достает пусть не лошадиной, а всего лишь одной человеческой силы?
Правда, до нас дошли слухи, что в 120-й танковой бригаде есть женщина механик-водитель. Чего только не бывает на фронте.
Но когда ко мне подошла старшина Антонина Калинюк и, доложив по всей форме, попросилась в мой экипаж, я, еще не успев переварить услышанного, не сомневался в том, что ни при каких условиях не соглашусь на присутствие женщины в моей машине.
Отказывал я ей очень деликатно.
— Видите ли, у меня уже есть башнер, — начал я.
— Но ведь я не башнер, а стреляющий.
— Да, но вы, по-видимому, хотите быть в одном экипаже с мужем?
— Он фиктивный муж. Нас ничего не связывало и не связывает. Я благодарна ему за то, что он согласился на фиктивный брак, который помог мне попасть в экипаж.
Ее грамотная речь звучала несколько непривычно для моего уха, адаптированного к танкистскому лексикону.
Выяснилось, что Антонина Калинюк до войны успела окончить первый курс филологического факультета Черновицкого университета. Ко мне она обратилась не случайно. Ей сказали, что я командир взвода боевой разведки. Именно в таком экипаже место добровольцу.
— Вы правы, но я уже пообещал адъютанту старшему взять стреляющего из подбитого танка.