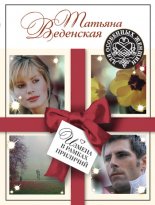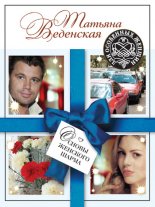Борис Пастернак Быков Дмитрий
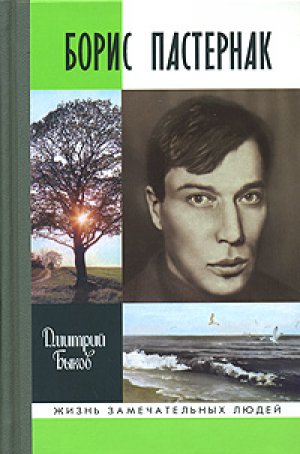
Для того чтобы проникнуть в «светлое поле сознания» (дефиниция Пруста), подсознание выбирает непредсказуемые лазейки. Если поэт по тем или иным причинам боится вслух признаться, что в стране свирепствует террор и что ему попросту страшно, страх принимает причудливые формы; Пастернак пережил внезапный и беспричинный припадок ревности. Началось это в марте, когда в Ленинграде он остановился в той самой гостинице (ныне «Октябрьская»), где Зина встречалась с кузеном. Но апогея достигло летом. Появляется страшное письмо к Зине из Парижа:
«И сердце у меня обливается тоской и я плачу в сновидениях по ночам по той причине, что какая-то колдовская сила отнимает тебя у меня. Я не понимаю, почему это сделалось, и готовлюсь к самому страшному. Когда ты мне изменишь, я умру. Это совершится само собой, даже, может быть, без моего ведома. Это последнее, во что я верю: что Господь Бог, сделавший меня истинным (как мне тут вновь говорили) поэтом, совершит для меня эту милость и уберет меня, когда ты меня обманешь».
Летом тридцать пятого Зинаиде Николаевне, только что со страхом отпустившей Пастернака в Париж, не до измен — она беспокоится из-за болезни мужа, она вся в хлопотах и воспитании сыновей, да и вообще после периода веселой сексуальной свободы (совпавшего с советской сексуальной революцией двадцатых годов) держится на редкость строго, как и ее молодое, но уже пуританское государство. Но в тридцать пятом, когда из-под ног у Пастернака уходит почва, ему кажется, что от него уходит жена. Страна, которую он только было полюбил, переродилась. «Отсюда наша ревность в нас».
На конгрессе он собирался выступать по тетрадке; Эренбург эту тетрадку просмотрел и посоветовал порвать. По его свидетельству, она была исписана старомодными, книжными французскими фразами, речь шла об абстрактных материях, о великой роли искусства… все было путано… Трудносейчас сказать, насколько прав был Эренбург: вполне возможно, что Пастернак собирался говорить о свободе художника — а это была явно не та тема. Он прибыл на конгресс в неприятный, острый момент: все шло совсем не по сценарию, почему его, собственно, и мобилизовали так срочно. Советская делегация вынуждена была отвечать за ущемления свободы слова в СССР, за судьбу Виктора Сержа (В.Кибальчича),— журналиста, троцкиста, отбывавшего трехлетнюю ссылку в Оренбурге. Его процесс (1933) имел широкий резонанс в Европе. Троцкистка Мадлен Паз взяла слово (его предоставил Мальро, поскольку настаивал на полной свободе для всех участников конгресса) и стала утверждать, что в СССР преследуют инакомыслящих. Ей возражали Тихонов и Киршон — одинаково неубедительно, причем Киршон заявил, что из-за таких, как Серж, погиб Киров. Андре Жид сказал, что не даст так грубо нападать на СССР,— но именно он после конгресса отправился в советское посольство с просьбой об освобождении Сержа. (Флейшман ошибочно указывает, что Пастернак также писал Калинину — уже по возвращении из Парижа — с просьбой освободить Сержа; фраза из письма к Зинаиде Николаевне от 14 августа 1935 года, из Болшева,— «Родим свободу Виктору»,— подразумевает другого Виктора. Речь идет о Викторе Феликсовиче Афанасьеве, сыне того самого музыканта Ф.Блуменфельда, о чьих похоронах написано стихотворение «Упрек не успел потускнеть». После ходатайства Пастернака десятилетний срок был снижен до пяти лет, но в 1938 году, еще в заключении, Афанасьев получил новый срок — снова десять лет — и то ли погиб, то ли был расстрелян год спустя. За Сержа Пастернак не заступался никогда — он просил только за друзей и родственников, то есть тех, за кого мог поручиться.)
После скандала вокруг Сержа появление Пастернака на конгрессе 24 июня было важным аргументом советской делегации: он олицетворял собою настоящую поэзию и чистую совесть. Зал встал, Мальро представил его: «Перед вами один из самых больших поэтов нашего времени» — и перевел с листа: «Так начинают». Пастернак сказал несколько общих слов,— последовала овация.
«Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, и, таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником».
Это все, что Цветаева и Тихонов совокупными усилиями смогли контаминировать для печати из его речи (Цветаева ходила на конгресс и, не будучи его участницей, много общалась с советской делегацией; это тоже раздражало Пастернака — он-то уже знал цену Тихонову, а увлекающаяся Цветаева была в восторге от мужественного поэта, да еще и подчеркивала этот восторг, стремясь уязвить разочаровавшего ее Бориса). По его собственному свидетельству (в разговоре с Исайей Берлином), Пастернак высказал все-таки под занавес свою заветную мысль:
«Я понимаю, что это конгресс писателей, собравшихся, чтобы оказать сопротивление фашизму. Я могу вам сказать по этому поводу только одно. Не организуйтесь! Организация — это смерть искусства. Важна только личная независимость. В 1789, 1848 и 1917 годах писателей не организовывали ни в защиту чего-либо, ни против чего-либо».
Берлин специально расспрашивал Мальро — но француз этой речи вообще не помнил.
Вначале Пастернак думал остаться в Париже недели на две-три — именно за столько времени его брались привести в себя французские врачи; здешние снотворные наконец начали на него действовать, а главное — он пришел в восторг от самой атмосферы Парижа.
«Это целый мир красоты, благородства и веками установившейся человечности, из которого, как заимствованье, в свое время рождались всякие Берлины, Вены и Петербурги».
Очень уж он истосковался в России без главного — без человечности, которая здесь была естественной, ею дышало все. Потом раздумал задерживаться — и Щербаков отсоветовал, и по жене Пастернак скучал все сильней. Впрочем, была у его скорого возвращения и материальная причина — он получил на руки мало валюты, на лечение требовалось куда больше (в выдаче этих денег полпредство ему отказало).
Все это время он мечется по городу, выбирая платье жене, почему-то ему уж очень нужно любой ценой привезти ей как можно больше платьев,— он говорит об этом со всеми, даже с Мариной Цветаевой: «феерическая бестактность», как выражался Маяковский, и притом двойная. Надо было в самом деле очень плохо понимать Цветаеву (или демонстративно желать ее оскорбить), чтобы советоваться с ней по какому бы то ни было бытовому вопросу; ей невыносима была сама мысль о том, что ее — Поэта!— спрашивают о платье. Но был у этой бестактности и второй аспект: Цветаева все еще продолжала считать себя «в состоянии романа»с Пастернаком, как иные державы десятилетиями считают себя в состоянии войны. «Но какая она, твоя жена?» — спрашивает Цветаева, пытаясь сделать вид, что ничего не произошло. «Ах, она красавица! Просто — красавица!» И начинает описывать, какой у нее бюст. Можно себе вообразить, как это подействовало на Цветаеву, если — по свидетельству Эммы Герштейн — даже в сороковом году, при первой встрече с Ахматовой, разговор о Пастернаке упирается в этот эпизод. В прихожей, перед выходом на улицу (они с Ахматовой отправляются в театр), Марина Ивановна начинает показывать, как именно Пастернак обрисовывал бюст,— и поражает целомудренную Герштейн неприятной развинченностью движений.
Вместо себя Цветаева отправляет с Пастернаком по магазинам дочь. Яркая красота дочери давно вызывает у Цветаевой не то чтобы ревность — она слишком высоко себя ценит,— но упорную неприязнь: ей кажется, что это не ее Аля, не тот чудо-ребенок, которого она лепила в революционной Москве по своему образу и подобию; вместо Али-ангела перед ней «нормальная девушка» — этого она не переносила.
У Пастернака, как было уже сказано, о женской красоте были на редкость традиционные представления; молодая прелесть Али никак на него не подействовала. Что, быть может, и к лучшему. В пятьдесят шестом, перед Алиным возвращением из лагеря, он скажет Ивинской и ее дочери: «Она такая некрасивая… Совсем непохожа на мать, такая маленькая голова…» Если голова и казалась маленькой, то разве от слишком больших глаз; вообще же Аля — одна из самых очаровательных женщин в русской литературе, и Ивинская при первой же встрече с ней (они подружились сразу) была поражена несовпадением действительности и пастернаковской характеристики. Но, хотя Пастернак и не оценил ее прелести (и даже имени не запомнил толком, как выяснилось), болтали они славно — в Але было то самое душевное здоровье, какое он в это время так ценит и какого так не хватало ему самому. Они ходили по магазинам, выбирали подарки, Аля хотела вернуться, он не отговаривал. Вопрос о возвращении вообще обсуждался чаще других — с Алей, с Мариной, с Сергеем. Пастернак не давал окончательного ответа, уходил от разговора; явные советские симпатии Сергея — не имевшего о советской жизни никакого представления — мешали ему говорить откровенно.
«Я был как спартанский мальчик, которому лисица выгрызает внутренности, а он не должен кричать»,—
сказал он в 1956 году посетившему его молодому поэту Льву Лившицу (ныне известному как Лев Лосев).
Але он с первого взгляда очень понравился; они сразу перешли на «ты», да вдобавок она была так одинока даже в среде «левой» эмигрантской молодежи, что гулять и разговаривать с «Борисом» стало для нее истинным наслаждением. В письмах к нему она часто вспоминала номер гостиницы, пропахший апельсинами, и полуголого Лахути, бродившего по коридорам: ему нечего, совсем нечего было делать в Париже.
Вскоре после окончания конгресса Пастернак сидел с Цветаевой и ее семьей в кафе. Разговор шел опять о возвращении и был Пастернаку в тягость. Он встал, сказал, что идет купить папирос, вышел из кафе и не вернулся. В другое время он, конечно, не позволил бы себе ничего подобного, но сейчас, сбежав, испытал искреннее облегчение. «Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда»»,— написала ему Цветаева, помещая его в ряд всех бросивших — предавших — ее. Но и ей, кажется, легче было от того, что случилась «невстреча»:
«Женщине — да еще малокрасивой, с печатью особости, как я, и не совсем уже молодой — унизительно любить красавца, это слишком похоже на шалости старых американок. Я бы хотела бы — не могла. Раз в жизни, или два?— я любила необычайно красивого человека, но тут же возвела его в ангелы».
Знала бы она, каково красавцу и ангелу.
4 июля Пастернак выехал из Парижа в Лондон, а оттуда 6 июля — в Ленинград пароходом. В Лондоне он мельком виделся с Р.Ломоносовой и ее мужем. Возвращался в одной каюте с Щербаковым и две ночи подряд изводил его разговорами. Щербаков сначала кивал, потом пытался не слушать, потом засыпал, потом просыпался — а Пастернак в душной каюте все сидел на кровати и говорил, говорил.
Одни считают, что это был бред. Другие — что Пастернаку важно было прикинуться душевнобольным перед чиновником, которому предстояло писать отчет об антифашистском конгрессе, а конгресс-то, в общем, провалился: не спасли его ни смешное выступление Бабеля, который, по воспоминаниям Эренбурга, «веселил аудиторию несколькими ненаписанными рассказами», ни овация, которой встретили невнятную речь Пастернака, ни агрессивные выступления прочих членов делегации. Пастернаку выгодно было вотчете Щербакова предстать полусумасшедшим, которого и посылать никуда не следовало. «Может быть, я многим обязан его диагнозу моего состояния»,— мудро замечал Пастернак в разговоре с сэром Исайей. Щербаков по возвращении в Москву сказал Зинаиде Николаевне, что Пастернак остался в Ленинграде и что лучше бы его оттуда забрать — он явно неадекватен. Борис Леонидович остановился у Фрейденберг. Оттуда он дал жене телеграмму, чтобы она за ним не приезжала, а затем написал и письмо:
«Боюсь всех московских перспектив — дома отдыха, дач, Волхонской квартиры — ни на что это у меня не осталось ни капельки сил. Я приехал в Ленинград в состояньи острейшей истерии, т.е. начинал плакать при каждом сказанном кому-нибудь слове. В этом состояньи я попал в тишину, чистоту и холод тети Асиной квартиры и вдруг поверил, что могу тут отойти от пестрого мельканья красок, радио, лжи, мошеннического и бесчеловечного ко мне раздуванья моего значенья, полуразвратной обстановки отелей, всегда напоминающих мне то о тебе, что стало моей травмой и несчастьем, и пр. и пр. И надо же наконец обрести тот душевный покой, которого я так колдовски и мучительно лишен третий месяц! (…) Ты сюда не приезжай, это слишком бы меня взволновало. (…) У Щербакова список вещей, задержанных на ленинградской таможне. Попроси его, он поможет тебе их выручить и получить».
Щербаков помог — они благополучно выручили три шерстяных вязаных платья и прочую всячину. Зинаида Николаевна приняла решение по-своему гениальное; по крайней мере, современные психоаналитики, сторонники простых и решительных техник, аплодировали бы ей. Она понимала, что раз гостиницы производят на Пастернака впечатление удручающее, он там вспоминает о ней и представляет ее, девочку, с Милитинским,— значит, надо вышибить клин клином и перевезти его в гостиницу, где они должны прожить какое-то время только вдвоем. Так страшное воспоминание будет вытеснено прекрасным. Она взяла у Щербакова письмо на ленинградскую таможню и отправилась в город. Билетов по летнему времени не было, Щербаков помог достать. В Ленинграде Зинаида Николаевна, несмотря на протесты Ольги Фрейденберг, перевезла мужа в «Европейскую». О чудо, лобовой ход подействовал: они прожили вместе неделю, «очень хорошо», по ее воспоминаниям.
Есть темное свидетельство Анны Ахматовой, будто Пастернак в июле 1935 года «делал ей предложение». Анне Андреевне свойственно было не вполне адекватно интерпретировать заботу о ней, проявляемую поэтами-современниками.Преувеличение собственной женской притягательности было непременной и, пожалуй, невинной составляющей ее лирического образа. Уверенность, что все в нее влюблены, не безвкусна, а трагична и величава: всеобщая героиня, всеобщая жертва — «и многих безутешная вдова». Когда Мандельштам за ней ухаживал — в самом прямом и общечеловеческом смысле, во время ее тяжелой простуды в 1923 году,— ей казалось, что ухаживание носит характер двусмысленный, и она попросила Мандельштама видеться с ней реже, «чтобы не возникли толки». Однажды она рассказывала, что Пастернак во время их встречи в конце двадцатых так увлекся, что начал «хватать ее за колени». Весьма возможно, что в тридцать пятом, в Ленинграде, Пастернак в самом деле виделся с Ахматовой, хотя никаких свидетельств, кроме ее слов, нет. Возможно, он посетил ее в Фонтанном доме — и увидел, в каких условиях она там жила; условия были и в самом деле фантастические — Ахматова, как и Цветаева, всю жизнь расплачивалась за принадлежность к миру «нечеловеков». Николай Пунин, блестящий знаток русского футуризма, основатель авангардной коллекции в Русском музее и сам большой авангардист — в том числе и в жизни семейственной,— был мужем Ахматовой с 1925 года, но от жены при этом не уходил, так что Ахматова жила с Пуниными во флигеле Фонтанного дома, а при всех попытках уйти от Пунина подвергалась прямому шантажу: «Я не могу без вас жить, я не могу без вас работать!» — и в конце концов возвращалась к нему (и его семье). В середине тридцатых у нее начался роман с ленинградским врачом-патологоанатомом, человеком тяжелым, нервным и разнообразно одаренным,— Владимиром Гаршиным; встречи происходили в том числе и в Фонтанном доме, где за стеной жили Пунины… Вероятнее всего, Пастернак предложил Ахматовой переехать к нему в Москву — она же расценила это как «предложение» (и, если знать ее,— не могла расценить иначе).
О своей болезни Пастернак вспоминал неохотно. «Причины были в воздухе, и широчайшего порядка»,— писал он родителям два года спустя. Родители сильно обиделись на его неприезд, еще сильнее обиделась Цветаева, которая уехала в Фавьер из Парижа 28 июня, не дождавшись даже, когда Пастернак уедет в Лондон. Тесковой она писала 2 июля: «О встрече с Пастернаком (— была — и какая — невстреча!)…» Ему самому она писала куда жестче — в конце октября 1935 года:
«О тебе: право, тебя нельзя судить, как человека… Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери на поезде, мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет — не жди. Здесь предел моего понимания, человеческого понимания. Я, в этом, обратное тебе: я на себе поезд повезу, чтобы повидаться (хотя, может быть, так же этого боюсь и так же мало радуюсь). (…) О вашей мягкости: вы — ею — откупаетесь, затыкаете этой гигроскопической ватой дары ран, вами наносимых, вопиющую глотку — ранам. О, вы добры, вы при встрече не можете первыми встать, ни даже откашляться для начала прощальной фразы — чтобы «не обидеть». Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда и оказываетесь в Москве, Волхонка, 14, или еще дальше. (…) Но — теперь ваше оправдание — только такие создают такое. (…) Я сама выбрала мир нечеловеков — что же мне роптать?
Твоя мать, если тебе простит,— та самая мать из средневекового стихотворенья — помнишь, он бежал, сердце матери упало из его рук, и он о него споткнулся: «Et voici que le cur lui dit: 'T'es-tu fait mal, mon petit?'»»
Конечно, Пастернак знал французскую песенку Жана Ришпена:
«В одной деревне парень жил и злую девушку любил… Она сказала: для свиней дай сердце матери твоей!»
Парень вырвал материнское сердце, бежит с ним к девушке, спотыкается, падает — а сердце спрашивает: «Мой сын, не больно ли тебе?» Воригиналемягче —
«Et le cur disait en pleurant: «T'es tu fait mal, mon enfant?»»
У Ришпена — «Не больно ли тебе, дитя мое?» — а у Цветаевой — «Не больно ли тебе, мой маленький?» (отмечено И.Коркиной и Е.Шевеленко). Кто вынесет такой упрек?
Марина Ивановна не простила разочарования, несоответствия собственному запросу — и выдумала вдобавок самую романтическую версию его неприезда к матери: он — не человек. Как Гёте, Шиллер, Рильке, Пруст или Штраус. Да ведь он ничего не решал: ему не дали времени заехать в Мюнхен на пути в Париж, не дали даже переночевать в Берлине,— а обратно ему предстояло бы ехать через фашистскую Германию (с антифашистского-то конгресса)… Щербаков запретил ему отклоняться от общего маршрута, и Пастернак при всем желании не мог объяснить Цветаевой, что ослушаться уже нельзя. Для Цветаевой ослушание — основа благородства; она не понимает, как можно из страха перед властью поехать на конгресс, а потом отказаться от встречи с матерью. Пастернак пасует перед этой романтической позицией — Цветаевой еще только предстояло приехать сюда и все понять.
Как ни странно, после недели, проведенной с женой в «Европейской», Пастернак до некоторой степени излечился.А дальше возобновилась работа над прозой, и ему стало легче. В тридцать шестом над его головой прогремели последние громы большой славы — и началась сначала тихая, а потом все более явная опала. То есть он вернулся наконец в обстановку, к которой привык и о которой мечтал: от него ничего больше не ждали сверх того, что он умел и любил делать.
Глава XXX. Переделкино
История умалчивает, кому принадлежит светлая мысль разбить под Москвой писательский дачный поселок. Эта мера естественно вписывается в литературную политику середины тридцатых — заключавшуюся главным образом в осыпании милостями. Шел тщательно организованный советский ренессанс. Отщепенцы временно были прощены. Разгромленный организационно, РАПП еще не подвергался репрессиям; попутчиков не просто реабилитировали, но выдвинули на первые роли. Писатели приравнивались к ударникам труда — и точно так же, как ударники, объединялись в бригады; выезды «на объекты» — в Среднюю Азию, Белоруссию, на стройки третьей пятилетки,— приняли массовый характер. Очень много ездили и ели. Деятели культуры становились особой кастой. В Москве появились дома художников, актеров, писателей — последние получили роскошный дом в Лаврушинском; не забудем, что до тридцать пятого Пастернак жил в коммуналке, на Волхонке, отдав отдельную квартиру на Тверской первой жене и сыну. Теперь он получил отдельную квартиру в Лаврушинском, но этим дело не ограничилось. Апофеозом прикорма стало строительство на одной из живописнейших станций Киевской железной дороги «Городка писателей».
Весьма возможно, что идея исходила от Сталина. Это в его вкусе. Общество, структурированное по профессиональному признаку, уже не может структурироваться по идейному — все слишком держатся за кастовые привилегии. Нечто подобное — интуитивно, конечно,— пытались устроить в восемнадцатом году большевики, когда в Петрограде появлялись общежития для инвалидов, сифилитиков, бывших проституток… впоследствии — Дом искусств, Дом ученых…
Люди так называемых творческих профессий приравнивались к производственникам. Почти осуществилась мечтаМаяковского — «Я хочу, чтоб в дебатах потел Госплан, мне давая задания на год». Госплан не привлекли, но писательское руководство вспотело — стали появляться социальные заказы на романы о том-то и том-то, переводы из тех-то и тех-то…
Переделкино, как и почти все Подмосковье, было тогда местом глухим и незастроенным. До революции здесь было имение славянофила Юрия Самарина, с чьим внучатым племянником Дмитрием Пастернак — вечные совпадения!— был хорошо знаком. В имении теперь размещался детский туберкулезный санаторий. Переделкино с его символическим названием было первым подмосковным дачным поселком «для творческих людей» — Телемской обителью в сосняке; распределением дач ведал Горький. Новая литературная политика сказалась в том, что первые дачи были получены как раз попутчиками — они достались Федину, Малышкину, Пильняку, Леонову, Иванову, Пастернаку. Здесь же, когда писателей станет много — в одной Москве тысяч пять,— выстроят Дом творчества: нечто вроде санатория, куда можно будет приезжать на месяц или два и работать в тиши, среди дружественных белок и настороженно-враждебных коллег.
С 1936 года Пастернак проводил на переделкинской даче почти все время, бывая в Москве лишь «когда необходимо» («На ранних поездах»). Сначала ему дали огромный шести-комнатный дом с холлом и верандой, на тенистом участке, где ничего не росло. Рядом жил Пильняк, напротив — Тренев: Пильняк — чуть ли не единственный московский друг Пастернака, Тренев — старый драматург, человек безобидный и порядочный. В тридцать восьмом возьмут Пильняка, и Пастернак захочет переехать — он не мог жить рядом с домом, постоянно напоминавшим ему о судьбе друга. После смерти Малышкина (этот умер сам, большое по тем временам везение) Пастернаку и его жене достался дом, в котором теперь музей,— так называемая «дача №3», небольшая, уютная, на просторном и светлом участке.
«Это именно то, о чем можно было мечтать всю жизнь. В отношении видов, приволья, удобства, спокойствия и хозяйственности, это именно то, что даже и со стороны, при наблюдении у других, настраивало поэтически. Такие, течением какой-нибудь реки растянутые по всему горизонту отлогости (в березовом лесу) с садами и деревянными домами с мезонинами в шведско-тирольском коттеджеподобном вкусе, замеченные на закате, в путешествии, откуда-нибудь из окна вагона, заставляли надолго высовываться до пояса, заглядываясь назад на это, овеянное какой-то неземной и завидной прелестью поселенье. И вдруг жизнь так повернулась, что на ее склоне я сам погрузился в тот, виденный из большой дали мягкий, многоговорящий колорит».
Ему казалось, что это склон жизни,— письмо адресовано отцу, написано в тридцать девятом, 15 июля, после переезда на новую дачу. В письмах этой поры ноты прощания с жизнью отчетливы и умиротворенно-печальны. Но ему предстояло прожить еще двадцать лет — лучших и главных.
О спутниках переделкинской жизни Пастернака надо сказать особо — в этих зеркалах он тоже отражался. Федин долго был для него символом культурной преемственности, о которой шла речь в «Братьях» — романе 1928 года. Они дружили, Пастернак сердечно и с всегдашней своей избыточной щедростью отозвался о «Санатории «Арктур»» и о «Похищении Европы» — двух слабых романах Федина тридцатых годов; в те времена они с Константином Александровичем еще вместе, иногда через запятую, подвергались разносам. Всеволод Иванов был также из бывших «Серапионов». К середине тридцатых в столе у него лежали отличные неопубликованные антиутопии «Кремль» и «У», писал он много, печатался скупо. Его жена Тамара Владимировна — рослая и стройная блондинка — была когда-то возлюбленной Бабеля и родила от него сына Мишу, которого Иванов воспитывал вместе с собственным сыном Вячеславом (Комой, по детскому прозвищу). Кома впоследствии стал одним из любимых собеседников Пастернака, Иванов ему говорил: «Ничем я тебе не могу отплатить за стихи и за дружбу — но вот, воспитал тебе сына». Невдалеке была дача Корнея Чуковского — он получил ее в тридцать восьмом, во «вторую очередь»; с ним Пастернак был знаком еще по «Русскому современнику», где печатались «Воздушные пути». Чуковский был не в восторге от пастернаковских переводов Шекспира, не принял и не понял романа, но за стихи Пастернака боготворил и перед его личностью благоговел.
Это — друзья и единомышленники (из которых предал Пастернака один Федин — и того Пастернак простил: «Этак никому невозможн руку подавать!»). Была другая категория переделкинцев, с которыми Пастернак общался без особой охоты: если не считать краткого чистопольского периода (1941—1942), никогда не было приятельства и взаимного интереса между ним и Леоновым. Автор тяжеловесных социально-философских романов отталкивал Пастернака расчеловеченностью своего мира, интересом к «растительному царству» и крайним пессимизмом относительно человеческой природы. Это не мешало Пастернаку взахлеб нахваливать «Нашествие» — леоновскую пьесу о начале войны, испорченную слащавой концовкой. Леонов с конца тридцатых был в полуопале, в отличие от другого общего соседа — Александра Фадеева. Этот был главой литературной номенклатуры (хотя номенклатурной литературы писать так и не научился), первым секретарем Союза писателей, пощаженным рапповцем. Он считался демократичным начальником, Зинаида Николаевна была им очарована.
Нельзя не вспомнить еще об одном пастернаковском соседе — этот человек оставил ценнейшие свидетельства, его дневник уникален тем, что показывает Пастернака глазами писателя чрезвычайно советского. Сама судьба этого соседа способна дать материал для удивительного романа. Речь об Александре Афиногенове — драматурге, рапповце, чуть было не репрессированном, но чудом уцелевшем. Почему он в тридцать восьмом не погиб со всеми рапповцами — загадка: тогда были арестованы и Авербах, и Киршон, а всех активистов журнала «На литературном посту» обвинили в троцкизме. Афиногенова исключили сначала из партии, потом из Союза писателей — от него отвернулись решительно все (для полноты картины добавим, что он был женат на американской коммунистке, в начале тридцатых переехавшей в СССР,— ее звали Дженни Бернгардовна). Именно в это время к Афиногенову начал ходить Пастернак. Он посещал его демонстративно, как и вдову Пильняка, как и Мейерхольда после закрытия театра: вот, никто не идет, а я пойду, и заявлю об этом громко и вслух. Делалось это, конечно, не для подчеркивания собственного героизма, а для живого укора — вот же, я вхожу к зачумленному, значит, можно! Тем не менее он так и остался единственным, кто не отвернулся от опального драматурга.
И тут начинается история, особенно интересная в свете теории поэта и сценариста Юрия Арабова: в своей книге «Механика судеб» он высказал предположение о том, что самое опасное для злодея — задумываться и раскаиваться. У Наполеона все получалось ровно до тех пор, пока человеческая жизнь для него не имела цены. На секунду усовестишься — все: прощай, удача. Злодей должен быть последователен. Афиногенов с самого начала был непоследовательным рапповцем. Кое-какие представления о прекрасном, о критериях оценки художественного текста, о собственном месте в литературе — у него сохранялись. Относительно коммунизма он, правда, ни в чем не усомнился — остался совершенным ортодоксом,— но проехавшее по нему колесо истории заставило его пересмотреть взгляды на партийное руководство литературой. Он не допускал и мысли, что партия несправедлива к Киршону,— но к нему, Афиногенову! Он так хотел работать для страны! Общаясь с Пастернаком, он начал подвергать сомнению и свои традиционные ценности. Ему уже казалось, что дышать одним воздухом со всеми — необязательно, что прекрасен тот, кто очистил свою жизнь от суеты и посвятил ее литературе, тот, кто беседует с веками, читает английскую и французскую историю, думает о главном… Видимо, были в Афиногенове задатки настоящего писателя — их Пастернак и заметил и, загораясь от всего, что было в людях хоть сколько-то человеческого, начал развивать. Оба находились в пустыне в буквальном и переносном смысле — пустое зимнее Переделкино, Пастернак уехал от семьи, писал роман, к Афиногенову никто не ходил, его в любую минуту могли забрать, и вот они вдвоем обсуждали кровавый террор времен позднего Средневековья и законы построения фабулы; Афиногенов готовился уже к худшему — но тут в нем вспыхнула надежда. В феврале тридцать восьмого, через полгода после исключения, его восстановили и в партии, и в Союзе писателей! Сделать его прежним, однако, не могло уже ничто. У советского человека появилась тень — он стал мыслящим, задумывающимся, сомневающимся; и механизм сработал страшно — такому Афиногенову уже не было места среди живых. Он и от природы был гораздо порядочней, чем полагалось преуспевающему литератору,— сам не хотел уезжать в эвакуацию и других не отпускал, ибо всех молодых и боеспособных приписали к московскому Совинформбюро. Чуковский вспоминал, как Афиногенов уговаривал коллег остаться, не дезертировать из Москвы, как рвался работать на Информбюро; в августе сорок первого он ночами писал свою последнюю пьесу «Накануне». Осенью Информбюро вместе с несколькими членами правительства эвакуировали из Москвы в Куйбышев. Внезапно было принято решение о том, чтобы Афиногенова — мужа американки — вместе с женой командировать в Штаты, дабы они вместе агитировали там за открытие второго фронта. Информбюро размещалось в здании ЦК, на Старой площади. Перед вылетом Афиногенов должен был забрать оттуда некоторые материалы. В шесть вечера 29 сентября он прилетел в Москву из Куйбышева, в семь вошел в свой кабинет на Старой площади, через несколько минут начался воздушный налет — и Афиногенов был убит случайным осколком бомбы, разорвавшейся рядом с домом. Никто больше во всем здании не пострадал, а он погиб — не на фронте, не в лагере, необъяснимо и странно. Так же странно и страшно погибла и его жена Дженни, отправившаяся в Штаты одна и возвращавшаяся назад в 1948 году на пароходе. Пароход загорелся, но большинству пассажиров удалось спастись. В числе погибших оказалась она. Афиногенову, когда он погиб, было тридцать семь. Ей — сорок три.
Все необычно в жизни этой семьи — встреча, любовь, чудом избегнутая гибель, дружба с Пастернаками, два несчастных случая, оборвавшие их жизни так внезапно и необъяснимо. Потрясенный Пастернак посвятил памяти Афиногенова статью. Несмотря на то, что смерть не вязалась «с тем олицетворением жизненности и больших надежд и обещаний, каким был Афиногенов»,— вечным чутьем художника, контактирующего не с презренной реальностью, а с главными и высшими сущностями, Пастернак понимал закономерность происходящего: Афиногенов сам притянул свою гибель, потому что стал другим.
«Я увидел погруженные во тьму дома и улицы, кружащего в высоте воздушного разбойника и глубоко внизу под ним молодую, счастливую судьбу, слишком богатую, чтобы остаться незамеченной, яркую и отовсюду видную, как незатемненное окно и как нечаянное нарушение светомаскировки».
Да, нарушение светомаскировки. Уцелеть могли только незамеченные. Но кто его заметил — «воздушный разбойник»? Рок? Пастернак? Ведь все, попадавшие в пастернаковскую орбиту, ломались: на них падал особенный свет, и не со всякой судьбой это было совместимо. Где-то на дне души он сознавал себя если не виновным в гибели Афиногенова, то причастным к ней. В истории литературы XX века мало страниц столь символических, как общение этих двух опальных и одиноких литераторов, во всем остальном столь разительно различных,— в пустом дачном поселке, зимой Большого Террора.
«Разговоры с Пастернаком навсегда останутся в сердце. Он входит и сразу начинает говорить о большом, интересном, настоящем. Главное для него — искусство, и только оно. Поэтому он не хочет ездить в город, а жить все время здесь, ходить, гуляя одному, или читать историю Англии Маколея, или сидеть у окна и смотреть на звездную ночь, перебирая мысли, или — наконец — писать свой роман. Но все это в искусстве и для него. Его даже не интересует конечный результат. Главное — это работа, увлечение ею, а что там получится — посмотрим через много лет». «Когда приходишь к нему — он так же вот сразу, отвлекаясь от всего мелкого, забрасывает тебя темами, суждениями, выводами — все у него приобретает очертания значительного и настоящего. Он не читает газет — это странно для меня, который дня не может прожить без новостей. (Естественно — разоблаченному и разжалованному рапповцу, ожидающему ареста, трудно оставаться с собой наедине, и он мучительно жаден до новой информации. — Д.Б.) Но он никогда бы не провел времени до двух часов дня, как я сегодня,— не сделав ничего. Он всегда занят работой, книгами, собой… И будь он во дворце или на нарах камеры — все равно он будет занят, и даже, м.б., больше, чем здесь,— по крайней мере, не придется думать о деньгах и заботах, а можно все время отдать размышлению и творчеству… На редкость полный и интересный человек. И сердце тянется к нему, потому что он умеет находить удивительно человеческие слова утешения, не от жалости, а от уверенности в лучшем».
Тут Пастернак выступает в любимой и лучшей своей ипостаси — как утешитель страждущих. Он пытается вернуть Афиногенова искусству, а следовательно — и Богу, а потому его цель — в чистом виде миссионерская. Он всем своим видом, поведением, фрагментами из романа убеждает Афиногенова в том, что есть другая реальность; Афиногенов верит, пробуждается, на глазах делается другим… и гибнет, ибо закон жизни жесток: гениями рождаются не все, и обычный человек, пусть и с талантом, и наблюдательностью,— обречен погибнуть, как только перерастает себя.
В 1936—1937 годах Пастернак еще довольно много выступал: сначала — на знаменитом Минском пленуме 1936 года, затем — на Пушкинском. Третий пленум правления союза проходил в Минске целых две недели, с 10 по 24 февраля 1936-го. Пастернак выступал шестнадцатого. Речь эта — великолепный пример его литературной тактики: она полна шуток и покаяний, и именно в этой форме — в стилистике, если угодно, шекспировских шутов — он мог себе позволить наиболее важные высказывания.
«Мне кажется, что в последние годы мы в своей банкетно-писательской практике (…) адвокатском своем красноречии точно ждем какого-то нового Толстого, (…) который бы нас, социалистических реалистов, на пленуме представил в раме новых каких-то «Плодов просвещения»»…
Современник и начитанный потомок спросили бы в ужасе: что он себе позволяет?! И безукоризненный тактик Пастернак тут же делает реверанс: «Алексей Толстой тут так и просится на уста».
И общий смех, и все довольны.
Дальше он хвалит Суркова (который его ругал с самого тридцать четвертого, но в докладе на Минском пленуме высказался осторожно: не совсем понятно было, дана ли уже отмашка топтать или надо по-прежнему проявлять пиетет). Сурков сказал о нем дословно следующее:
«Пастернак чрезвычайно робок в попытках сближения творчества с материалом действительности. На них лежит печать смущения и застенчивости не то перед действительностью, не то перед миром, с которым надо окончательно порвать».
Печать смущения и застенчивости, как издевательски заметил Семен Трегуб в «Комсомольской правде», лежала как раз на докладе Суркова, но тут докладчик ничего не мог поделать — было в самом деле непонятно, в полной ли опале главный защитник Пастернака Бухарин и окончательно ли скомпрометированы его тезисы. Сурков и предполагать не мог, что реванш будет носить характер обоюдный, истинно сталинский: бывший РАПП пересажают, но Бухарина и его фаворитов тоже не пощадят, так что победителями, как всегда, окажутся стопроцентные посредственности без каких-либо убеждений.
«Комсомольский поэт» Безыменский на Минском пленуме призвал Пастернака больше ездить, выступать на эстраде, а главное — с максимальной полнотой выразить «наше время — сталинское время». Дмитрий Святополк-Мирский, сменовеховец, эмигрант-возвращенец, а в 1936 году — один из лучших советских критиков (репрессирован в тридцать седьмом), ему на это возразил, сказав, что в завоевании для советской поэзии международного авторитета поэзия Пастернака значит гораздо больше, чем поэзия Безыменского (из зала закричали, что это спорно, а из президиума резко сказали, что «это бесспорно неверно»). Пастернак отреагировал на эту дискуссию так, что не придерешься:
«Безыменский начал с таких вещей, как революция, масса, советское общество, и не без демагогии перешел на упреки, обвинив меня, как в чем-то несоветском, в том, что я не «езжу читать стихи» (его выражение). А что если я этого не делаю именно из уважения к эпохе, доросшей до истинных и более серьезных форм? А что если я именно в том, что кажется непонятным Безыменскому, вижу свою заслугу? А что если, например, меня однажды пленило, как ездили и продолжают ездить Пушкин и Тютчев по своим книгам?
Товарищи, если у нас терпится разврат эстрадных читок, в балаганном своем развитии доходящий временами до совершенного дикарства, то это только потому, что Маяковский и в этом отношении, то есть как явление на эстраде, был такою живою истиною и дал так потрясающе много, что как бы на несколько поколений вперед оправдал это поприще, искупив грехи многих будущих героев мюзик-холла».
Пастернак был прав и в том, что главной своей мишенью сделал Безыменского — поэта слабого и личность одиозную. От полемики с ним он перешел к спору с установившейся манерой вообще — судить стихи как поступки, осуждать поэта за ошибки в творчестве, как осуждали бы строителя за рухнувший дом:
«Здесь, например, очень уверенно отличали стихи хорошие от плохих, точно это правильно или неправильно выточенные машинные детали. Между тем под видом плохих стихов приводили и не стихи даже, а просто образцы безвкусицы… Вообще говоря, плохих и хороших строчек не существует, а бывают плохие и хорошие поэты, то есть целые системы мышления, произвольные или крутящиеся вхолостую. И стахановские обещания от лица последних противоречием своим способны привести в уныние. (…) И не от повышения трудолюбия, как тут говорилось, можно ждать спасения. Искусство без риска и без душевного самопожертвования немыслимо, свободы и смелости воображения надо добиться на практике, здесь именно уместны неожиданности… не ждите на этот счет директив. (…) Я не помню в нашем законодательстве декрета, который бы запрещал быть гениальным, а то кое-кому из наших вождей пришлось бы запретить самих себя».
Еще один реверанс — после призыва к каждому быть гением или по крайней мере ориентироваться на гения, а не на усредненность, он расписывается в своем преклонении перед гениальностью вождя.
Дальше Пастернак бурно похвалил Демьяна Бедного, сказав, что при всем преклонении перед Маяковским признает куда большую органичность именно за Демьяном: «Он для меня и по сей день остается Гансом Саксом нашего народного движения» (а между тем Бедному уже влетело за «Богатырей», в которых недостаточно уважительно толковались русские национальные мотивы,— так что Пастернак поступил в высшей степени порядочно, поддержав посредственного полуопального литератора). В общем, все в этой речи на редкость «обоюдно», то есть и соответствует официальной доктрине, и позволяет сохранить лицо. Это же относится и к циклу «Из летних записок», появившемуся в октябрьском «Новом мире» (1936).
Тут есть стихи удивительной прелести, отсылающие к самым свежим пейзажам «Сестры», но выполненные лаконичнее и по временам выразительнее:
- Как кочегар, на бак
- Поднявшись, отдыхает,—
- Так по ночам табак
- В грядах благоухает.
- С земли гелиотроп
- Передает свой запах
- Рассолу флотских роб,
- Развешанных на трапах.
- В совхозе садовод
- Ворочается чаще,
- Глаза на небосвод
- Из шалаша тараща.
- Ночь в звездах, стих норд-ост,
- И жерди палисадин
- Моргают сквозь нарост
- Зрачками виноградин.
- Левкой и Млечный Путь
- Одною лейкой полит.
- И близостью чуть-чуть
- Ему глаза мозолит.
Гениальные стихи, а не придерешься — все дано глазами садовода, причем совхозного; человек труда не упускает случая взглянуть на Млечный Путь.
Далее следуют идиллические воспоминания о дружбе с Паоло Яшвили — к 1936 году, надо сказать, несколько омраченной: Яшвили сильно перехлестывал в сталинизме, и Пастернак вынужден был его осаживать, дабы тот не писал явной безвкусицы. Возможно, он пытался объяснить, что такого избыточного рвения не ценят и «наверху».
- За прошлого порог
- Не вносят произвола.
- Давайте с первых строк
- Обнимемся, Паоло!
- Ни разу властью схем
- Я близких не обидел,
- В те дни вы были всем,
- Что я любил и видел.
После этого цикла, написанного летом тридцать шестого, Пастернак четыре года не писал стихов вообще. Прекратились и публичные выступления — он видел, как перетолковывается каждое его слово, и не желал плодить кривотолки. 5 марта 1936 года он обедал с Мейерхольдом, только что поставившим «Даму с камелиями». Спектакль понравился Поскребышеву, и он предложил показать его Сталину — но в театре Мейерхольда, формировавшемся еще в демократичные времена, не была предусмотрена правительственная ложа; посадить вождя с обычными зрителями было уже немыслимо. Поскребышев мог устроить Мейерхольду прием у Сталина,— Мейерхольд советовался с Пастернаком, следует ли ему домогаться встречи. Пастернак отсоветовал.
«Он горячо и красноречиво доказывал, что недостойно его, Мейерхольда, являться к Сталину просителем, а в ином положении он сейчас быть не может, что такие люди должны говорить на равных или совсем не встречаться», —
записал завлит Гостима Александр Гладков.
13 марта 1936 года Пастернак выступил на общемосковской писательской дискуссии о формализме. Это выступление выстроено не так предусмотрительно, как минское и (впоследствии) пушкинское: оно резче. Пастернака подхлестывала критика со стороны посредственностей в адрес Шостаковича, Мейерхольда, Федина, Пильняка, Всеволода Иванова… Накануне выступления он выглядел крайне раздраженным:
— «Известия» за последние два года проводили эмансипацию. Для этого Бухарин туда и был посажен. Вот за границей единый фронт с нами. Но ведь для того, чтобы им забросить свою чалку, нужен крюк, за который они должны зацепиться. «Известия» были таким крюком. А теперь я не знаю, зачем издавать «Известия»,— можно просто удвоить тираж «Правды»… «Правда» пишет непонятно. Чего хотят? Учителя, которые требуют ясности, должны сами быть ясны. Вот было недавно. В газетах природа, снимки с улыбками. Выходишь на трибуну с каким-то подъемом, говоришь, пишешь с подъемом. А сейчас каждый себя подавляет. Говоришь то, что до тебя уже сказано… Ведь, казалось бы, все становится свободней, мы накануне демократизма, казалось бы, и цензура должна быть ослаблена, а винт закручивается по нарезу.
Это Пастернак говорил открыто, у Тарасенкова, в присутствии других гостей. Заспорили, стоит ли ему выступать с такими тезисами: критик Борис Закс говорил, что такое выступление только подольет масла в огонь. Тарасенков настаивал, что Пастернак высказывает ценнейшие мысли — и их непременно надо повторить, в большом собрании, потому что все остальные думают так же, только боятся; в конце концов, Пастернак ничем не рискует — он ведь сейчас как будто не под огнем…
Асеев (его мнение сохранил безвестный информатор, сочинявший отчет для НКВД) полагал, что у Пастернака был и еще один стимул выступить: он якобы знал о готовящейся против него статье в «Правде» и решил нанести упреждающий удар. Вдобавок он знал о резко негативной реакции Горького на дискуссию о формализме и чувствовал за собой его авторитет. Об этом ему рассказывал Бабель, только что вернувшийся из Фороса, где Горький отдыхал. По мнению Флейшмана («Еще о Пастернаке и Сталине»), Асеев распространял эти сведения не столько для того, чтобы опорочить бывшего друга (вот, мол, какая санкционированная смелость!), а с вполне благородной целью — объяснить другим писателям, что поддержать Пастернака не зазорно, что за ним сам Горький. Трактовка убедительная — тем более что большинство относилось к «дискуссии» с отвращением.
Он выступил. Сохранилась стенограмма. Выступление хитрое, стратегическое, переносящее центр тяжести с верховных инициаторов дискуссии на ее рядовых организаторов, чего-то недопонявших. Пастернак отлично понимал, что только таким способом можно и польстить власти, и ослабить прессинг:
«Они (разговоры о формализме.— Д.Б.) исходят из каких-то повелительных убеждений очень серьезных… В то же время ход этого обсуждения не только миниатюрен по сравнению с этим, но просто удушлив. (…) Может быть, где-то в руководящей инстанции было что-то сказано. Мы этого не знаем. Это попало в чьи-то руки. Эти руки скверно с этим справляются. (…) Наверное, много в нашей стране найдется людей, которые просто духом падают, когда каждый день читают и думают — кто сейчас сковырнется. Представьте себе, товарищи критики, что мы все сделаемся критиками и будем критиковать воздух,— что тогда произойдет? (…) Я бы высказал такое положение: если обязательно орать в статьях, то нельзя ли орать на разные голоса? (Это единственная фраза из его речи, напечатанная в отчете о дискуссии, в «Комсомольской правде» от 15 февраля.— Д.Б.) Тогда будет все-таки понятней, потому что, когда орут на один голос,— ничего не понятно. (…) Я не поверю, что это пишется от чистого разума, что каждый пишущий так и дома разговаривает, в семье и т.д.
Ставский. Ты о каких статьях говоришь? (Он всем тыкал.— Д.Б.)
Пастернак. О всяких статьях.
Ставский. Статья статье рознь, надо все-таки разграничивать.
Пастернак. Я говорю о духе… В «Комсомольской правде» писали по поводу того, что я непонятно пишу (имеется в виду анонимная статья «Откровенный разговор» от 23 февраля 1936 года, в которой содержался сдержанно-злобный отклик на минское выступление Пастернака). И цитировали Добролюбова. И вот, когда дошли до Добролюбова, как будто окно распахнулось. Я был рад, как гостю, Добролюбову, несмотря на то, что это было направлено против меня. Но кончился Добролюбов и опять то же. (…) Что страшно в этих статьях? То, что я за ними не чувствую любви к искусству. Я не чувствую, чтобы люди горели, чего-то хотели и с болью в сердце находили, что это не то. (…) Вот разбирают отдельные строчки из Пильняка, из Леонова. Тут ничего особенно смешного нет. Вы тоже разделяете подобное мнение, вы соглашаетесь, пожалуйста, соглашайтесь, но пусть не будет этого хохотка. (Замечательно он их устыдил,— десяти минут его выступления хватило, чтобы толпа, готовая к травле, превратилась в прежнее писательское содружество.— Д.Б.) Все это глубоко прискорбно. За этим я не чувствую серьезности. Эта иерархия проводников вызванного изумления, недовольства и негодования в какие-то инстанции — попадает в совершенно равнодушные и оскорбительно равнодушные руки».
16 марта Пастернаку пришлось выступать опять, разъясняя свою позицию:
«По-моему, из искусства напрасно упустили дух трагизма… Я без трагизма даже пейзажа не воспринимаю. Почему могло так случиться, что мы расстались с этой если не основной, то с одной из главных сторон искусства?! (…) Как историки мы должны были отрицать трагизм в наши дни, потому что мы объявили трагичным все существование человечества до социалистической революции… Давайте переименуем это прежнее состояние, объявим его хоть свинством, а трагизм оставим для себя. Трагизм это достоинство человека и его серьезность, его полный рост…»
Тарасенкову он три года спустя говорил еще откровеннее (между ними в тридцать шестом случилась ссора, Пастернак стал и в нем замечать черты казенного оптимизма, видел в нем то, чем переболел сам,— и не находил желания выздороветь):
«Нужно, чтобы кто-нибудь гордо скорбел, носил траур, переживал жизнь трагически. У нас трагизм под запретом, его приравнивают к пессимизму, нытью. Как это неверно! Трагичен всякий порыв, трагична пора полового созреванья юноши,— но ведь в этом жизнь и жизнеутверждение. И нужен живой человек — носитель этого трагизма…»
Об этом же он говорил Тарасенкову еще до ссоры, весной 1936 года:
«У нас отсутствует борьба мнений, борьба точек зрения. И даже по-своему честные люди начинают говорить с чужого голоса. Я вот верил в Бухарина… А, оказывается, и Бухарин печатает статьи все с того же, общего голоса. Мне предложили в первомайском номере «Известий» высказаться на тему о свободе личности. Я написал, что свобода личности — вещь, за которую надо бороться ежечасно, ежедневно,— конечно, этого не напечатали… У нас трудное время. Мы находимся в подводной лодке, которая совершает свой трудный исторический рейс. Иногда она поднимается на поверхность, и можно сделать глоток воздуха. А нас вместо этого уверяют, что едем мы на прекрасном корабле, на увеселительной яхте и что вокруг открываются великолепные виды… Я свою задачу вижу в том, чтобы время от времени говорить резкие вещи, говорить правду обо всем этом. Нужно, чтобы и другие начали. Когда люди увидят упорство повторения одной и той же мысли — они смогут увидеть, что надо менять положение вещей, и, может быть, оно действительно изменится».
Он действительно верил, что смелость нескольких ораторов может изменить ход истории. Меж тем история шла железным шагом туда, куда боялись заглядывать люди с даром предвидения — вроде Мандельштама; их внутренняя бездна резонировала с этой кровавой ямой, а Пастернак по-прежнему верил, что если несколько человек, находящихся на виду, будут вести себя прилично, то и история повернет в сторону от репрессий… В тридцать шестом Пастернак еще полагал, что ему обязательно надо выступать публично, хоть изредка. Пусть контакты с властью уже бессмысленны,— апелляция к обществу еще возможна!
«Прежде всего я столкнулся с искренним удивленьем людей ответственных и даже официальных, зачем де я лез заступаться за товарищей, когда не только никто меня не трогал, но трогать и не собирались. Отпор мне был дан такой, что потом, и опять-таки по официальной инициативе, ко мне отряжали товарищей из союза (очень хороших и иногда близких мне людей) справляться о моем здоровье. И никто не хотел поверить, что чувствую я себя превосходно, хорошо сплю и работаю. И это тоже расценивали, как фронду».
Это он пишет уже в октябре, желая утешить Ольгу Фрейденберг, ставшую жертвой необъяснимого критического наскока: критиковали ее «Поэтику сюжета и жанра». Фрейденберг никак не могла взять в толк — почему скромная работа об античной литературе вызывает такое беспокойство прессы? Проблема была в том, что работа слишком отличалась от предписанного уровня,— ругали не за концепцию, а за факт ее наличия.
Дискуссия о формализме скоро была свернута: на стол Сталину попала стенограмма пастернаковской речи. Подбросил ее главный редактор «Правды» Мехлис, давний враг Бухарина, возглавлявшего «Известия». Мехлис преследовал свои цели — лишний раз подковырнуть Бухарина: Пастернак в начале своей речи мельком сказал, что до 1934 года, до писательского съезда, «не понимал коллективизации», считал ее концом света,— Мехлис в сопроводительном письме подчеркивает:
«Это как раз в то время, когда тов. Бухарин призывал равняться на него всех советских поэтов».
Тонкошеие вожди уже начали сворачивать друг другу шеи. Стенограмма, однако, возымела противоположное действие. Сталин подчеркнул в ней все упоминания о том, что верховные инициативы нерадиво исполняются, попадают в равнодушные руки,— и дискуссию порекомендовал свернуть. Это, пожалуй, последний случай, когда он прекратил идеологическую кампанию, явив все ту же иррациональную мудрость и либеральность, а крайними сделав клевретов. Это был отличный повод лишний раз «почистить» писательское начальство.
Пастернак, однако, понял, что заступаться за товарищей по меркам 1936 года — уже значит вредить и себе, и им. Даже выступать в печати в защиту Ольги Фрейденберг он отказался, замечая в письме к ней, что единственный способ повлиять на ее судьбу — это действовать «негласными путями, т.е. личными встречами и уговорами, апелляциями к людям с весом и т.д.». После выхода в «Известиях» статьи некоей Цецилии Лейтейзен «Вредная галиматья», где книгу шельмовали невежественно и грубо, надо было срочно защищать Фрейденберг от клеветы: времена наступали такие, что каждый ярлык мог стать приговором, а отсутствие возражений считали признанием вины. В Москву отправился Израиль Франк-Каменецкий — друг Фрейденберг, рецензент ее докторской диссертации,— с тем, чтобы предложить Пастернаку поговорить с Бухариным; ни в письме, ни по телефону они уже не решались обсуждать стратегию самозашиты. Пастернак сказал, что Бухарин и сам «под вопросом». Когда Каменецкого отправляли из Переделкина на машине в Москву, на коленях у него сидела та самая Лейтейзен, бывшая в гостях у кого-то из переделкинцев. Она щебетала и хохотала. «Сумасшедший дом»,— сказал Каменецкий по возвращении. Но сумасшедший дом только начинался.
Вокруг Фрейденберг образовался вакуум.
«В эти дни я увидела, что значит трусость, какой цвет лица у низости, как выглядит обезличенность, лакейство, отсутствие чести».
В отчаянии она написала Сталину. Через два месяца замнаркома просвещения Волин принял ее и обласкал. Но сигнал, главный посыл новой эпохи,— она угадала безукоризненно:
«Сейчас нельзя анализировать. Боря чудно сказал: анализ принимается за осуждение. Нужно восхвалять».
Зимой 1936 года случилось событие, которое можно истолковать как мрачное предзнаменование; мы уже видели, что при символистском мировосприятии Пастернака естественно было персонифицировать в членах собственной семьи те или иные абстракции. Зинаида Николаевна воплощала собою страну, ее дети — будущих ее идеальных граждан. Пастернак нежно относился к сыновьям Нейгауза, хотя они никогда не стали для него тем, чем был Женечка, сын от первого брака; Адик и Стасик общались с отцом часто, Пастернак всегда оставался для них «Борей»,— и, как и собственного старшего сына, ничему их не учил. Он предпочитал действовать живым примером. На роль идеальных граждан будущего Адик и Стасик годились именно потому, что воплощали собою две распространенные крайности. Адик был физически развит, ловок, смел, непоседлив — Стасик предпочитал тихие занятия, уединение, унаследовал музыкальность отца и непременно стал бы прославленным пианистом, если бы ему не мешали на каждом шагу: сначала препятствием была фамилия отца, впавшего в опалу и даже арестованного в начале войны, потом — подозрение в семейственности, позже — родство с крамольным Пастернаком.
В декабре тридцать шестого девятилетний Адик затеял прыгать на лыжах с крыши переделкинского гаража (своей машины у Пастернаков не было, но гаражи на дачах были предусмотрены — на случай визита высокопоставленного гостя из Москвы; бывало, что за особо выдающимися литераторами закреплялась государственная машина с шофером). Это было еще на первой даче Пастернака, которую он недолюбливал,— и участок тенистый, и дом неуютный. Адик прыгнул неудачно, сильно ударился копчиком о торчащий из снега кол занесенного забора. Зинаида Николаевна прибежала на его страшный крик, тут же посадила в таз со снегом, даже не раздевая,— и только потом осмотрела место ушиба. Ниже пояса вся спина заплыла черно-лиловым синяком. Из туберкулезного санатория привели самого директора — профессора Попова: когда речь шла о муже или детях, Зинаида Николаевна могла вызвать любое светило. Не зря перед смертью мужа, на просьбу позвать священника, она ответила: «Ты еще не умираешь. Будет нужно — я приведу хоть самого патриарха» — и привела бы.
Директор санатория был не администратор от медицины, как повелось впоследствии, а выдающийся врач; его прогноз оказался неутешителен. «Такие ушибы,— сказал он,— часто кончаются туберкулезом позвоночника». Адик Нейгауз почувствовал первые признаки болезни только три года спустя, в тридцать девятом, когда уже ходил в шестой класс: начал быстро худеть и жаловаться на головные боли. Почти все свои последние годы — с сорокового по сорок пятый — он провел в туберкулезных санаториях и больницах. Пастернак переживал его трагическую судьбу — как и все трагедии, ему выпадавшие,— в двух планах: реальном и символическом. Болезнь Адика в разгар террора и смерть в конце войны стали для него мистическими событиями. «Страданья маленьких калек не смогут позабыться» — это не только о раненых детях, жертвах первых немецких бомбардировок. Это еще и о собственном пасынке, которого увозят и никак не могут увезти в эвакуацию из осаждаемой Москвы. Пятилетние страдания Адика Пастернак воспринимал и как личную вину — болезнь пасынка была для него следствием того слома всего обихода семьи Нейгаузов, который из-за него произошел в тридцатом. Может быть, останься Адик с отцом — ничего бы не было. Но главное — болезнь и смерть Адика стали для него символом гибели нового поколения, выбитого войной или безжалостно раздавленного репрессиями сразу после нее.
Трудно сказать, в какой момент и в какой мере Пастернак окончательно сделал для себя вывод о том, что история России завернула в очередной тупик и что частными усилиями этого не поправишь.
В конце 1936 года его больше всего беспокоила судьба родителей: они уже не могли оставаться в Германии. Монография о Леониде Пастернаке попала в списки книг, обреченных на сожжение. Несмотря на все опасности начавшегося в СССР террора, Пастернак не мог сказать отцу и матери: «Оставайтесь в Германии». Он начал готовить их возвращение. Выручила Лидия — она с 1935 года жила в Оксфорде и забрала родителей к себе.
К августу 1936-го относится эпизод, которого Пастернакдолго не мог себе простить. Шел процесс над «группой шестнадцати» — Каменевым, Зиновьевым и их окружением. 21 августа 1936 года в газетах появилось письмо «Стереть с лица земли!» — список «подписантов» был подготовлен писательским начальством заранее. Туда входили, между прочим, и Леонов, и Сейфуллина, и Федин — люди, которых Пастернак считал вполне приличными. Узнав о письме, Пастернак потребовал, чтобы его фамилию сняли. Ставский сказал, что править текст поздно, Пастернак вынужденно смирился… Пассивность Пастернака в этой ситуации объясняется тем, что многие верили в мягкость будущего приговора: надеялись на помилование, как в случае с процессом «Промпартии», на то, что даже если будет вынесен смертный приговор — его отменят в последний момент; относительно Каменева и Зиновьева, как справедливо замечает Флейшман, у современников могли возникнуть подозрения насчет их действительной связи с троцкистами, фашистами и пр. Тем не менее современников подпись Пастернака поразила: Марина Цветаева написала Тесковой, что он, верно, плохо прочел последнюю элегию Рильке (посвященную ей). «Разве можно после такой элегии ставить свое имя под прошением о смертной казни?!» Пастернаку и еще раз пришлось пойти против совести — пять месяцев спустя, в январе 1937 года, он поставит свою подпись под требованием смертной казни для новой группы, уже «семнадцати»,— 25 января президиум Союза писателей собрался, чтобы вынести резолюцию: «Если враг не сдается, его уничтожают». Пастернак на собрание не пошел, но то ли был предупрежден, то ли сам понял, что демонстративный отказ от участия в очередной кампании может стать последней каплей. Ему пришлось отправить в союз предельно двусмысленное письмо:
«Прошу присоединить мою подпись к подписям товарищей под резолюцией Президиума Союза Советских Писателей от 25 января 1937 года. Я отсутствовал по болезни, к словам же резолюции нечего добавить.
Родина — старинное, детское, вечное слово, и родина в новом значении, родина новой мысли, новое слово, поднимаются в душе и в ней сливаются, как сольются они в истории, и все становится ясно, и ни о чем не хочется распространяться, но тем горячее и трудолюбивее работать над выражением правды, открытой и ненапыщенной, и как раз в этом качестве недоступной подделке маскирующейся братоубийственной лжи».
На дворе был уже не 1932 год, и эта его попытка настоять на своей отдельности осталась без внимания. Текст небыл опубликован — скорее всего потому, что в нем отчетливо читался призыв прекратить травли, противопоставив кошмару «процессов» работу, вечную пастернаковскую панацею. «Ни о чем не хочется распространяться» — заявление для января 1937 года уже принципиально несвоевременное.
Еще одной мучительной проблемой была необходимость оправдываться за недавнюю симпатию к Андре Жиду. Пастернак переводил стихи для его романа «Новая пища», встречался с ним, когда летом Жид гостил в СССР, говорил с ним на своей переделкинской даче (именно от него Жид почерпнул первые сведения о том, как подавляется в СССР свобода личности,— точнее, услышал подтверждение собственных впечатлений). Жиду Пастернак врать не мог: это был большой и честный писатель.
Книга его «Возвращение из СССР» вышла в ноябре. Ее демонизировали в советской печати напрасно: там много искреннего восхищения перед героизмом Николая Островского, в гостях у которого Жид разрыдался, и уважения к людям труда, с которыми Жида усиленно знакомили. Но есть и слова о культе Сталина, и о низкой культуре большинства людей, которых ему приходилось видеть в СССР, и о бесконечных банкетах, и о том, что любой французский рабочий легко выполнил бы стахановскую норму — не Стаханов велик, а норма занижена… В общем, книга была мужественной и объективной: он, не увидел в СССР надежной альтернативы Европе даже перед лицом фашистской опасности — и вызвал взрыв негодования среди леваков и прочих «друзей Советского Союза», утверждавших, что Жид нанес антифашистским силам гнусный удар в спину.
Речь Пастернака на Пушкинском пленуме (на заключительном заседании, вечером 26 февраля) гораздо более осмотрительна, чем выступление на дискуссии о формализме.
«Очень прискорбно, товарищи, что по моим 3—4 оплошностям, я готов их признать,— и по двум-трем обмолвкам на прениях, я должен ломиться в открытую дверь и выступать в прениях. (…) Я должен сказать, что раз уж случилась такая вещь, что человек в каком-то смысле слова поскользнулся, вызвал неправильное понимание, то это может затянуться. И это меня не отпугивает. Искусство преодолевало и не такие трудности. Важно, чтобы у самого художника не было разлада со своим делом… Теперь о частностях. Товарищи, вот этот флер недоумения, какой-то нависший туман, идиотский туман, потому что это не тема для меня, а тем и мучительнее для меня, что это не тема, объясняется тем, что когда появилась книга Андре Жида, меня кто-то спросил — каково мое отношение. Должен сказать, что я этой книги не читал и ее не знаю. Когда прочел об этом в «Правде», у меня было омерзение, не только то общее, которое вы испытывали, но кроме того житейское, свое собственное омерзение. Я подумал: он со мной говорил, и говорил не просто, он как-то меня мерил — достаточно я кукла или нет, и, по-видимому, он меня счел за куклу. (…) Что вам сказать о моем отношении? Это все ужасно. Я не знаю, зачем Андре Жиду было нужно каждому из нас смотреть в горло, щупать печенку и т.д. Он не только оклеветал нас, но он усложнил наши товарищеские отношения. Иногда просто человек скажет — я отмежевываюсь. Я не говорю этого слова, потому что не думаю, чтобы моя межа была настолько велика, чтобы отмежевывание могло вас интересовать. (Любимый прием — унижение паче гордости.— Д.Б.) Но все-таки я отмежевываюсь».
В зале раздался добродушный смех. Обошлось.
С этого момента публицистическая и общественная деятельность Пастернака прекратилась. Да, собственно, оставалась лишь одна легальная форма ее — присоединение к новым травлям и требованиям «стереть кровавых собак с лица земли».
Еще в августе 1936 года под следствием оказался главный пастернаковский покровитель — Бухарин, которого (явно по непосредственному указанию Сталина) оговорил Каменев, сказав о его причастности к террористическим замыслам оппозиции. Бухарин оказался под следствием, которое в сентябре было прекращено (хотя, как отмечает А.Бухарина-Ларина, никакой реабилитации не было,— формулировка была оскорбительная, «недостаток улик»). Когда на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года начали в открытую говорить о том, что Бухарин наравне с уже арестованными Рыковым и Радеком виновен в шпионаже и вредительстве,— Пастернак написал ему письмо, в котором поклялся, что никогда не поверит в его виновность. Бухарин был тронут до слез и боялся, как бы Пастернак этим не повредил себе. (Почти сразу после получения этого письма, 27 февраля 1937 года, Бухарин был арестован.) Пастернак же — не боялся, ибо ничего хуже разлада с собой в его системе ценностей не было.
«Я так вздохнул, так выпрямился и так себя опять узнал, когда попал в гонимые!» —
писал он родителям. Это одно из немногих писем, написанных им в 1937 году. Он замкнулся, старался как можно реже встречаться с людьми. Жил в Переделкине затворником. Летом съездил к переводчику,поэту Сергею Шервинскому в Старки — там отдыхал его сын Женя.
Все свое время в Переделкине Пастернак посвящал работе над романом, от которого уцелело только начало — 60 страниц, при первой публикации названных «Начало прозы 1936 года» (Новый мир. 1980. №6). Отрывки печатались в «Литературной газете» и «Огоньке». «Записки Живульта» (или «Записки Патрика» — он не сделал окончательного выбора) остались незаконченными и погибли на переделкинской даче, как и большая часть архива, пошедшего на растопку, когда там жили зенитчики.
Глава XXXI. «Записки Живульта»
О том, почему Пастернаку не удалась эта третья (считая «Три имени» и «Спекторского») эпическая попытка, он сам говорил Михаилу Поливанову, зятю верной своей помощницы и машинистки Марины Казимировны Баранович.
«До войны он еще отчасти верил и в идеологические требования и пытался писать свой роман (главы о Патрике, о 905 годе) на основе, к тому времени сильно износившегося и пощипанного, дореволюционного интеллигентского, восходящего еще к народничеству, мировоззрения, и у него ничего не получалось. Он чувствовал себя в безнадежном положении человека, взявшегося за квадратуру круга. Но после войны он обрел широкую идеологическую основу в очень свободно понятом христианском мировоззрении, очищенном от наслоений клерикализма, мешавших людям нескольких предыдущих поколений видеть его истину. Об этом написано стихотворение «Ты значил все в моей судьбе». (…) Пастернак с самого начала считал своим прямым долгом написать о революции и ее последствиях. Но эта тема требовала от него и нового языка».
Иными словами, есть геометрическая задачка — соединить девять точек (три ряда по три, квадратом) четырьмя линиями, не отрывая карандаша от бумаги. Сделать этого никак нельзя, если не взять вне квадрата десятую точку, через которую эти линии и пройдут. В жанре традиционного социального реализма о революции ничего не напишешь — тут неизбежен выход в христианскую проблематику. «Записки Живульта» очень похожи на «Доктора Живаго», но отличаются от них по главному признаку: это последняя попытка написать традиционный русский роман — тогда как «Живаго» уже роман-миф, написанный без оглядки как на традицию, так и на современность. Тот же Поливанов отмечает, что Пастернак не любил своего прошлого именно за мировоззренческие тупики, а ранних стихов — именно за невнятность: невнятность проистекала от того, что поэтическими туманностями маскировалась неясность мировоззрения. К прямому высказыванию он подошел лишь тогда, когда сложилась его картина мира; сложить ее ему никак не давали обстоятельства, влияния, собственная мягкость и податливость — действительность должна была стать достаточно отвратительной, очевидно неправой, чтобы окончательно расхотелось под нее подстраиваться. В тридцать седьмом году это случилось, дальше шло по нарастающей — и подтвердилась давняя мысль нелюбимого Пастернаком Томаса Манна. Манна он ценил как мыслителя, но недолюбливал как художника — ему представлялось, что проза его словообильна и сыра. Но именно в этой прозе, в «Докторе Фаустусе» — очень простой книге, если читать ее доверчиво и непредвзято,— есть мысль о нравственной благотворности дурных времен. Еще раньше, в первые годы американской эмиграции, Манн сформулировал ее напрямую, заметив, что при всей своей омерзительности фашизм был нравственно целебен для запутавшихся европейских интеллектуалов — именно потому, что черное сделалось черным, а белое — белым. Нравственный выбор упростился. В тридцать четвертом еще можно было ломать себя во имя согласия со временем, в тридцать восьмом в этом не было уже никакой необходимости, кроме шкурной, а эта последняя никогда для Пастернака не значила слишком много. Следующим этапом эволюции Пастернака стал его поздний гамлетизм, от которого оставался только шаг до «широко понятого христианства». Символично, что к христианству Пастернак пришел кружным путем — через европейскую культуру, через «Гамлета»; но таковы уж особенности русской истории — и мировоззрения русской интеллигенции. Да и нет блага в слишком прямых путях, как показывает все та же русская история.
В «Записках Живульта» странным образом встречаются «Детство Люверс» и «Доктор Живаго». Здесь уже присутствует будущая Лара — Евгения Истомина, в девичестве Люверс, «женщина с откровенно разбитою жизнью». Вероятно,теперь эта героиня — которую Пастернак начал писать с Елены Виноград и в которой потом захотел увидеть черты Евгении Лурье,— должна была стать похожа на Зину Еремееву и в отрочестве пережить роман с офицером. В нее влюблен Живульт — повествователь со многими чертами будущего Юры Живаго: у него уже есть жена Тоня, тесть Александр Александрович Громеко и сын Шура. Объяснение его влюбленности в Истомину дается в романе очень просто и исчерпывающе (Афиногенов не зря хвалил «Записки» за простоту и выпуклость каждой фразы):
«Она всех полнее отвечала моему чувству конца. Не посвященный в подробности ее истории, я в ней угадывал улику времени, человека в неволе, помещенного во всем бессмертии его задатков в грязную клетку каких-то закабаляющих обстоятельств. И прежде всякой тяги к ней самой меня потянуло к ней именно в эту клетку»
(ср. у Цветаевой: «Если видите человека в смешном положении — прыгайте в него к человеку»).
Сам герой больше всего тяготится собственным безволием:
«Все шло не по-моему, но и не наперекор мне и, следовательно, ни по-какому. Пожеланиям моим не хватало настойчивости. Уступчивость моя была не с добра. Страшно было подумать, от чего только не был я готов отказаться. Без меня родным было бы лучше, я портил им жизнь».
Пастернак (и его герои) часто обвиняет себя в подобных вещах, но только здесь он начинает винить в происходящем само время, а не только себя:
«Постепенно мною завладел круг мыслей, привычных в те годы всем людям на свете и разнообразившихся лишь их долею и личным складом да еще отличьями поры, в которую они приходили: тревожных в четырнадцатом году, еще более смутных в пятнадцатом и совершенно беспросветных в том шестнадцатом, осенью которого это происходило».
Пастернак писал роман именно для того, чтобы разобраться в революции. Получилось у него примерно вот что: интеллигенция стала духовно дряблой и искала идею, за которую можно бы ухватиться — и при случае умереть за нее (не случайно Патрик мечтает попасть на войну и погибнуть там — более достойного дела он для себя не находит). Такой идеей временно оказалось большевистское народовластие, железная прямота марксизма в его ленинской версии,— и Пастернак в набросках к «Доктору Живаго» писал о том, что всегда любил людей железной воли, но не хотел им подражать. Такова же была духовная дряблость всей России — она искала, во что бы поверить, но большевизмом, конечно, удовлетворилась только временно. Эта роковая подмена и составляла круг размышлений Пастернака в тридцать шестом — тридцать восьмом: шестнадцатый год был безнадежен, альтернатива не лучше.
В «Записках Патрика» воображением Пастернака прочно завладели принципиально важные для него персонажи. Это, во-первых, роковая женщина со своей таинственной драмой; во-вторых, несколько мальчиков и девочек, которым в 1905 году было по пятнадцать-восемнадцать лет; в-третьих — классический русский интеллигент, чья преемственность с лучшими представителями этой породы подчеркивается одинаковостью имени и отчества (Александр Александрович). В романе появляется и его жена Анна Губертовна Громеко, срисованная с собственной тещи Пастернака,— она гибнет так же, как и мать Евгении Лурье, Александра Николаевна: достает со шкафа игрушку для внука, падает, умирает от болезни позвоночника. «И еще шкафы какие-то приплел»,— трунила над его романом Зинаида Николаевна в гостях у Афиногеновых. В общем, для большой прозы есть все — и люди, и положения,— нет только сквозного внутреннего сюжета, ибо нет, по существу, и героя. Он ничего еще для себя не решил. Потому не состоялась и проза.
Но главный сюжет ее был ясен: прежняя жизнь обречена, но заменить ее нечем. В результате социальных перемен она во много раз ухудшилась, лишившись и того немногого, чем в ней стоило дорожить.
Язык Пастернака в этой новой прозе впервые ясен и прост. Он научился писать короткими фразами. Наметились и три основные интонации его героев: отрывистая, как у Марии Ильиной, речь главной героини; захлебывающееся интеллигентское щебетанье, московское арго, которым говорят мальчики, девочки, курсистки и бородатые интеллигенты; и вычурная, словно из Даля, речь людей из народа — с последним недостатком он не справился и в «Докторе», поскольку о правдоподобии не заботился, а сочный и яркий язык всегда его забавлял.
Глава XXXII. «Гамлет». Театр террора
В 1937 году в СССР начинается полномасштабный процесс, который называли с тех пор по-разному — Большой Террор, большая чистка, сталинские репрессии,— но который на самом деле являл собою наиболее масштабное с 1917 года отчуждение государства от народа. Единственным оправданием всех гримас революции, военного коммунизма, нэпа, зверской коллективизации и сталинской реставрации для Пастернака было то, что народ в конце концов получает право распоряжаться собой; что на место старой интеллигенции — бог бы с ней, уже готовой принять и заранее оправдать свою участь,— придет новый человек, полновластный хозяин. Новый человек оказался поначалу многократно предсказанным Грядущим Хамом, но к началу тридцатых этот грядущий хам начал образовываться, задумываться, читать. Во втором поколении детей Октября были удивительные, пытливые отроки и пылкие девы, читавшие серьезные книжки и фанатично готовившиеся к великим будущим испытаниям. Предвоенное поколение ифлийцев, выбитое войной и последующими репрессиями, дало лучшую поэзию и философию шестидесятых-семидесятых; во всех сферах советской жизни — политике, искусстве, военном деле — нарастала новая генерация смелых, честно мыслящих людей, в которых Пастернак видел свою надежду.
В тридцать седьмом году народ в очередной раз понял, что он не хозяин своей страны. Началась оргия самоистребления, во время которой никто не мог поручиться ни за отца, ни за сына. Потом сталинисты, неосталинисты и антисталинисты попробуют вывести разного рода критерии: брали только умных; только глупых; самых преданных; самых сомнительных… Все это приписывает террору наличие логики, отсутствие которой является его главным условием; любая попытка ее отыскать — косвенное оправдание происходящего, ибо она предполагает, что страна все-таки имела дело с некоей программой, а не со слепой машиной уничтожения. Между тем функционировал не компьютер, а мясорубка. Террор не имел ни поводов, ни причин; он был самоцелей, ибо являлся единственным условием существования и лихорадочного развития вертикальной империи, выстроенной на руинах прежней России. У людей не просто отнимали жизнь — у них отняли страну, которую четыре года спустя, в сорок первом, им пришлось защищать как свою.
Поразительно, как в сознании и биографии Пастернака укоренилась рифма из «Высокой болезни» «тенор» — «террор», парономасия в его духе, созвучие террора и театра. Ондавно подступался к Шекспиру, еще в 1930 году Ромен Роллан советовал ему в условиях советской несвободы поискать утешения в масштабном, серьезном переводческом труде, который дал бы силы вытерпеть преходящее и обрести опору в вечном. В тридцатом не сложилось — подошло «Второе рождение», потом начались переводы из грузинской поэзии. В тридцать седьмом он впервые упомянет театр в связи с начавшимися повальными арестами и публичными процессами. Случится это вот как: 14 июня 1937 года к нему в Переделкино приедет машина из города.
Пастернак ждал ареста, готовился к нему и готовил, как умел, близких. Зинаида Николаевна была на третьем месяце беременности. Она ему сложила чемоданчик — мудрено ли, в одном Переделкине за 1937 год взяли 25 человек, чуть не четверть обитателей! Каждый автомобиль вызывал у нее приступ ужаса. На этот раз машина повернула прямо к их дому — Пастернак спокойно вышел за ворота, и ему сообщили, что от него требуется подпись под коллективной литераторской петицией с требованием расстрела для представителей советской военной верхушки: Тухачевского, Эйдемана и Якира.
По воспоминаниям Зинаиды Николаевны, Пастернак чуть не с кулаками набросился на чиновника, собиравшего подписи писателей.
— Чтобы подписать,— кричал он на весь поселок,— надо знать этих людей и знать, что они сделали! Я ничего о них не знаю! Не я им давал жизнь и не мне ее отнимать! Это вам, товарищ, не контрамарки в театр подписывать!
Так впервые в связи с процессами тридцатых вспомнился ему театр — по привычной уже ассоциации: ведь и о якобинском терроре он собирался писать именно пьесу. Справедливости ради заметим, что по крайней мере одного из «врагов советской власти», чье убийство ему предлагалось одобрить, он знал хорошо: комкор Эйдеман (1895—1937), из латышских красных стрелков, был еще, по совместительству, поэтом. С 1932 года он возглавлял Осоавиахим — Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР. В феврале тридцать пятого, на Третьем пленуме правления Союза писателей, Эйдеман взял слово и сказал о Пастернаке следующее:
«Да, Борис Пастернак замечательный поэт нашей страны и замечательный гражданин нашей страны… Вам, Борис Пастернак, дан замечательный паровоз. При помощи этого паровоза вы можете тянуть целый состав полезного груза. Мне было бы обидно, если бы вы использовали этот паровоз для одной только платформы, груженной хотя бы очень ценным грузом. Вы должны целый состав везти».
Это был не первый случай в пастернаковской биографии, когда советская власть расстреливала человека, учившего Пастернака быть более советским. Впоследствии перед его глазами прошла целая галерея низвергнутых вождей, которые во времена его молодости требовали от него идейности, народности, партийности — а теперь вот, со всей своей партийной идейностью, маршировали в яму, и от Пастернака требовали уже одобрения их расстрела. Впоследствии, в сороковых, на советы написать «что-нибудь общественное» и тем реабилитировать себя он радостно кричал: «Да, да, мне это еще ваш Троцкий говорил!» — после чего советчик испуганно удалялся. Пастернак и сам многим говорил об этой смене ролей вокруг него:
вот, говорил он Афиногенову, я помню Пикеля, как он на меня обрушивался (Пикель был критик, один из «группы шестнадцати», фигурант августовского процесса тридцать шестого, на котором были осуждены Каменев и Зиновьев). Теперь другие с теми же обвинениями обрушиваются на Пикеля, но я не чувствую никакой радости, потому что и лица у них, как у него, и интонации пикелевские… (и ждет их то же самое, домыслим недосказанное). Не то чтобы шанс уцелеть в тридцать седьмом был только у тех, кто не колебался вместе с генеральной линией,— шансы у всех были одинаковы,— но те, кто не колебался, по крайней мере гибли не так позорно. В некотором смысле это урок не только для эпохи террора, но и для любой эпохи вообще — всякая жизнь кончается смертью, и бессмысленно говорить, что уцелеют достойнейшие. Просто у достойнейших есть предсмертные утешения, которых люди хитрые или суетливые лишаются по доброй воле.
Заметим кстати, что театр террора был вдобавок театром абсурда — писателям предлагалось потребовать расстрела для полководцев, которых уже убили за три дня до того: Тухачевский, Эйдеман и Якир были осуждены 11 июня 1937 года и в тот же день поспешно расстреляны, но об этом, по обыкновению, не сообщалось, так что творческая интеллигенция, выходит, требовала казнить их вторично.
Зинаида Николаевна позвала Пастернака в дом; он подошел к ней, оставив за калиткой гонца из союза.
— Что там?— прошептала она.
— Требуют моей подписи под одобрением казней.
— Ты подписал?
— Нет, и никогда не подпишу.
Зинаида Николаевна бросилась Пастернаку в ноги и умоляла ради их будущего ребенка подписать проклятый документ.
— Если я подпишу, я буду другим человеком,— ответил он.— А судьба ребенка от другого человека меня не волнует.
— Но он погибнет!
— Пусть гибнет!— сказал Пастернак голосом, какого Зинаида Николаевна никогда у него прежде не слышала. Ей пришлось отступиться. Посланный все ждал. Пастернак снова вышел к нему.
— Пусть мне грозит та же участь,— сказал он громко, так, что и в доме было слышно.— Я готов погибнуть со всеми.
Чиновник уехал собирать подписи дальше и, видимо, не утаил от начальственных обитателей Переделкина пастернаковского демарша. Через час по жаре заявился Павленко. Он с порога обозвал Пастернака христосиком и стал вымогать подпись. С Павленко, как ни странно, у Пастернака были сносные отношения — по крайней мере внешне; на этой фигуре вообще стоит остановиться — хотя бы потому, что дом Пастернака стоит на улице Павленко. Они были соседями. Система отношений Пастернака с любым начальством — общегосударственным ли, писательским — была тщательно продумана: он никогда ни перед кем не лебезил, как бы давая понять крупным чиновникам, что они слишком умны, слишком крупны для того, чтобы покупаться на дешевую лесть. Начальство в сталинские времена любило, когда с ним разговаривали на равных,— это предполагало в бонзах определенную широту души. Разговор с Павленко прошел в той же простой и демократичной манере: прости, Петя, но я ничего подписывать не буду. Ведь ты и сам писатель! (Пастернак любил им всем давать понять, что они тоже писатели, хотя, разумеется, отлично знал цену их литературе; благодаря этой тонкой манере Павленко на верхах неизменно отзывался о Пастернаке как о чудаковатом, но в общем «нашем».) Петя еще несколько раз выразился насчет христосика и ушел.
О дальнейшем сохранилось несколько свидетельств: по одной версии, Пастернак поехал в Москву к руководству союза просить, чтобы его освободили от обязанности подписывать расстрельные письма, по другой — Павленко сообщил руководству о пастернаковском демарше, и сам Ставский — «большой мерзавец», как характеризует его Пастернак в воспоминаниях Ивинской,— приехал в поселок, но не к Пастернакам, а на дачу Павленко, куда Бориса Леонидовича вызвали для разговора. Конспирация понятна — Ставский, по воспоминаниям Ивинской, большевсего боялся, что у него в союзе обнаружат гнездо оппортунизма и тогда ему не поздоровится. Бунт писателя — отказ подписывать расстрельное письмо — мог получить широкую огласку, а это уже был пре-це-дент! Пастернак в тридцать седьмом еще был член правления союза и вообще фигура видная, и несмотря на многочисленные сигналы того же Безыменского — его щадили, защищали, иногда даже ставили в пример… Это уже получалась не просто снисходительность, а преступный либерализм! По воспоминаниям Зинаиды Николаевны, вернувшись после разговора со Ставским, Пастернак сказал, что сможет ходить с высоко поднятой головой: так они его и не уговорили. Все-таки он хорошо о них думал… Ему и в голову не могло прийти, что, спасая себя, Ставский поставит его подпись без всякого согласования.
Ночью Зинаида Николаевна ворочалась без сна,— Пастернак спал, как младенец. «Это со мной всегда бывает, когда сделан бесповоротный шаг»,— объяснял он потом Ивинской. Жена прислушивалась к каждому шороху, ждала, что за ним приедут из города, что возьмут этой же ночью,— но тут всмотрелась в его спокойное, строгое во сне лицо и устыдилась.
«Я поняла, как велика его совесть, и мне стало стыдно, что я осмелилась просить такого большого человека об этой подписи».
За одну эту фразу в мемуарах многое можно простить: масштаб личности проверяется именно в такие минуты.
Следующий день, 15 июня 1937 года, был одним из самых страшных в жизни Пастернака. Он раскрыл газету — в семье получали «Известия» — и увидел письмо «Не дадим житья врагам Советского Союза», под которым стояла и его фамилия.
— Меня убили!— закричал он. Пастернак помчался в город и отправился прямиком к Ставскому.
Разговаривали с самого начала на повышенных тонах. Ставский орал: «Сколько будет продолжаться это толстовское юродство?!» Пастернак требовал, чтобы в «Известиях» назавтра же было напечатано опровержение — он ничего не подписывал, он не может лишать людей жизни и пр.; он выражал готовность немедленно написать письмо с разъяснением своей позиции! Ставский говорил, что ни о каких опровержениях и речи быть не может и что письма никто не напечатает. «Кто это решает?! Я пойду в «Известия»!» — «Проще с самого начала написать Сталину»,— издевательски ответил Ставский. «Как будто мы со Сталиным к праздникам открытками обмениваемся»,— комментировал потом Пастернак. По его рассказу, записанному Ивинской, письмо Сталину он все-таки написал, но достоверных сведений о нем нет. Ивинской Пастернак рассказывал, что в письме просил избавить его от необходимости подписывать просьбы о расстрелах: не он давал жизнь, не ему ее отбирать! О том, что такое письмо в принципе могло быть написано, косвенно свидетельствует такой факт: нескольким молодым друзьям, в том числе Вознесенскому, Пастернак говорил, что Сталин всегда выполнял его просьбы. Больше к Пастернаку насчет подписей не обращались, и под бесчисленными резолюциями писательских собраний его имени нет.
В мае 1937 года Берия делал отчетный доклад на X съезде компартии Грузии. В Грузии в миниатюре повторялся московский ужас — всюду требовались свои вредители, лепили их и в Тбилиси. Каждый яростно оговаривал себя. Каялись Каландадзе, Табидзе, Яшвили. В июне взяли поэта Владимира Джикию. На очную ставку вызвали Паоло Яшвили. Он шел на допрос в полной уверенности, что не вернется,— но после допроса его выпустили. Это оказалось еще страшней. На допросе ему были предъявлены подробные записи его крамольных бесед с Табидзе и Джикией, при которых не было посторонних. Как могли попасть эти разговоры в НКВД? Яшвили был уверен, что теперь его ославят провокатором. 20 июля он по охотничьему билету взял в клубе охотников ружье. Все было продумано: держать ружье дома он не решился и спрятал его за занавеской в клубе писателей на улице Мачебели. 22 июля в тбилисском Союзе писателей было совещание. Яшвили на нем был, в перерыве поднялся на второй этаж и застрелился.
На другой день в дом Яшвили пришли с обыском, забрали все бумаги, и стало ясно, что Паоло выбрал лучшую участь. Следователь НКВД не скрывал досады: ускользнул!
Пастернак в Москве появлялся редко. Известие о гибели Яшвили дошло до него с опозданием — были слухи, он не верил, окончательно ему все подтвердили в городе, 17 августа. Письмо Пастернака к Тамаре Яшвили, вдове поэта,— очередное свидетельство того, что Пастернак обладал счастливым и трагическим даром увещевать отчаявшихся.
«Я знал, что, когда у нас на террасе я открою рот, чтобы сказать это Зине, у меня сорвется голос и все повторится сызнова. Пока же, по пути домой, я все больше и больше, без рецидивов, отдавался очищающей силе горя, и как далеко она меня заводила!
Мне захотелось выкупаться. Вечерело. На берегу, в затененном овраге, когда, разлегшись, я понемногу отошел от треволнений поездки, я вдруг то тут, то там стал ловить черты какого-то бесподобного сходства с ушедшим. Все это было непередаваемо хорошо и страшно его напоминало. Я видел куски и вырезы его духа и стиля: его траву и воду, его осеннее садящееся солнце, его тишину, сырость и потаенность. Так именно бы он и сказал, как они горели и хоронились, перемигивались и потухали. Закатный час точно подражал ему или воспроизводил его на память. Я как бы по-новому задумался о нем. Меня всегда восхищал его талант, его непревосходимое чутье живописного, редкое не только в грузинской литературе, не только во всей нашей современной, но драгоценное в любой и во всякое время. Он всегда удивлял меня, у людей имеются письма, как неизмеримо высоко я его ставил. Но впервые я задумался о нем в отдельности от того, что я к нему чувствовал. Как при удаленьи от чего-то очень, очень большого, лишь на роковой дистанции утраты стали обрисовываться его абсолютные очертания (…), то, чем он был сам с водой и лесом и Богом и будущим.
Надо ли об этом распространяться? О том, кто именно будет через несколько лет грузинским Маяковским или к чьим образцам будет восходить и на ком учиться будущая молодая литература, если ей суждено развиваться. Но эта сторона посмертности никогда меня не трогала. Я поражен другим, как это ни трудно выразить. Тем, как много его осталось в том, чего он касался и что назвал: в часах дня, в цветах и животных, в лесной зелени, осеннем небе. А мы жили и не знали, с какою силою он был среди нас и с какой властностью остался.
Дорогая Тамара Георгиевна, простите меня. Нельзя так писать, нельзя — Вам. Поэзия, и притом дурная, здесь неуместна. Все же я отошлю написанное, а то когда же наконец скажу я то единственно нужное, что рвется у меня к Вам и милой, невообразимо драгоценной Медее».
Лучших слов, кажется, не найти. Поразительно, как у Пастернака ничто не выглядит кощунством — даже сообщение о том, что после известия о смерти Яшвили ему захотелось выкупаться. Есть какое-то всеобъемлющее органическое чувство жизни, не боящееся небрежностей и неловкостей,— на волне этого чувства все можно.
Тициан Табидзе был арестован 10 октября 1937 года ирасстрелян в декабре — точная дата не известна и теперь. Пастернак узнал о его аресте почти сразу. Отправлять письмо Нине Александровне почтой он не решился, будучи уверен, что почта просматривается; писать ей казенные слова он не мог, а делать настоящие достоянием органов не хотел. Письмо он передал с переводчиком Виктором Сонькиным, не забыв отметить, что такая миссия — «честь и слава его сердцу». Он и здесь нашел слова поистине духоподъемные, хотя с самого начала почти не верил, что Тициан вернется:
«Я знаю, что в каком-то высшем плане наше новое, выстраданное, временно отсроченное воссоединенье предрешено во всех подробностях, и наше дело только не погубить свиданье, то есть дожить до него».
Младший сын Пастернака, Леонид, родился ровно в полночь 31 декабря 1937 года. За сорок лет существования больницы, с гордостью отмечает Зинаида Николаевна в мемуарах, не было ничего подобного. Сенсация даже попала в газеты: «Вечерняя Москва» сообщила о том, что первым новорожденным москвичом оказался сын гражданки 3.Н.Пастернак (о том, что отец новорожденного москвича имеет какое-то отношение к поэзии, не было сказано ни слова). Пастернаки собирались встречать Новый год у Ивановых в Лаврушинском, но схватки начались в седьмом часу вечера — в семь Пастернак отвез жену в больницу имени Клары Цеткин, привилегированную, с телефоном в каждой палате. Сам Борис Леонидович поехал к Ивановым и каждый час оттуда звонил жене. В десять Зинаида Николаевна ему сказала, что рожать, по-видимому, будет не раньше, как дня через два-три,— и попросила ее забрать хотя бы на ночь, чтобы вместе встретить Новый год.
— Ты с ума сошла!— закричал он.— Лежи смирно!
Не успела она повесить трубку, как поняла, что он прав: схватки возобновились. В следующий раз он позвонил в больницу сразу после боя курантов — поздравить жену с Новым годом,— и ему сообщили, что он стал отцом. В восторге он все время целовал и благодарил Тамару Владимировну, как будто счастливое разрешение Зинаиды Николаевны от бремени было ее личной заслугой. Мальчика записали все-таки 1937 годом — о чем Зинаида Николаевна впоследствии горько жалела: и в смысле призыва в армию, и в смысле отправки в эвакуацию этот лишний год ему сильно мешал.
На следующий день после родов Афиногеновы прислалией огромную корзину цветов и вырезку из «Вечерки». Денег не хватало — оригинальных стихов Пастернак не писал, а переводил в основном западноевропейскую лирику, которую печатали не слишком охотно и оплачивали скудно. Зинаида Николаевна после родов взялась даже за переписку нот,— но вскоре у Пастернака появился новый, неожиданный источник дохода. Он стал переводить Шекспира.
Пастернак с 1936 года, по свидетельству Тарасенкова, повторял: «Мы живем в шекспировские времена». Тогда он имел в виду всеевропейское противостояние фашизму, говорил о том, что СССР из объекта истории становится ее субъектом,— наблюдение очень важное, как почти все, что записал Тарасенков: значит, в пастернаковском понимании ни во времена коллективизации, ни во дни писательского съезда, ни даже в революционное пятилетие его страна субъектом истории не была — то есть, иными словами, не творила свою историю сама. Это мысль очень точная, пророческая,— поскольку революция и все, что воспоследовало за ней, не было актом собственно народной воли. Это было действие рока, фатума, исторического предопределения — то есть коллизия скорее античная, нежели шекспировская; в античной драме главную роль играет рок — у Шекспира на первый план выходит человек, и именно это постоянно подчеркивал Пастернак, говоря о «человечности Шекспира». Замечание о его человечности — без подробной расшифровки — встречается у него в разговоре о Шекспире на каждом шагу: и в собственных его писаниях, и в записанных разговорах. Это свидетельствует о том, что главной чертой трагического у Шекспира Пастернак считал наличие свободного выбора у каждого из его героев, мотив экзистенциальной ответственности — в конечном итоге христианский, наиболее явно выразившийся в «Гамлете». Обращение Пастернака к Шекспиру в контексте европейской истории тридцатых годов не менее важно, чем в контексте советского террора: он предчувствовал, что возрождение русского самосознания будет связано именно с большой войной. Во времена террора народ остается объектом истории и своего слова о ней не говорит — вот почему мысль о неизбежной большой войне пугала в эти дни, кажется, всех, кроме Пастернака. Он один думал о ней чуть ли не с надеждой — каждый наконец будет стоить того, чего стоит.
В 1937 году Мейерхольд повторял: «Читайте «Макбета»!» В терроре, особенно в сталинском — помпезном, пурпурном, обставленном громкими эффектами,— налицо была именно театральность. Эта театральность больше всего претила Пастернаку — он, как мы знаем, не любил в жизни театральных эффектов, а уж когда ими обставлялись такие серьезные вещи, как смерть,— это его взрывало. Герой трагедии для Пастернака лишь в той мере героичен, в какой он противостоит театру террора; театральны — в дурном, декоративном смысле — пародийные фрагменты «Мышеловки», тогда как подлинность всегда враждебна театрализации. И «весь Шекспир, быть может, только в том, что запросто болтает с тенью Гамлет» — как было сказано в послании к Брюсову; то есть ключевое слово здесь — «запросто». Для Пастернака главная коллизия Шекспира — в противостоянии личности и разыгрывающейся вокруг драмы; драма идет отдельно. Личность не желает играть по ее законам. Таков для него пафос его личной драмы 1937—1938 годов; с таким чувством взялся он за «Гамлета».
Перевод был заказан Мейерхольдом в самое страшное для него время — после закрытия Гостима. По воспоминаниям Александра Гладкова, Пастернак пришел к Мейерхольду 10 января 1938 года, на третий день после того, как театр был закрыт. День был тяжелый, пасмурный, Гладков обедал у Мейерхольдов и вспоминает, что Зинаида Райх (полная тезка жены Пастернака, что сближало их с Мейерхольдом дополнительно) была мрачна и ничего не ела, а Всеволод Эмильевич гладил хохолок своего зеленого попугая — участника «Дамы с камелиями» — и пытался шутить, разговаривая с ним. Шутки не получались — Мейерхольд бросался на каждый телефонный звонок, словно ждал чего-то. Чего — он и сам бы не сказал. Сталин сделал их всех «ожидальщиками», как говорил Мандельштам.
Пастернак заглянул вечером, ненадолго,— но, по словам Гладкова, «важно было, что он пришел». Мейерхольд обрадовался ему необыкновенно, достал «Шато-лароз», разлил в любимые зеленые фужеры. Заговорили об аресте кремлевского врача Левина, удивлялись — хотя, пишет Гладков, удивляться уже было нечему. Мейерхольд сказал, что у него нет никаких сбережений — может быть, придется машину продавать; Пастернак «почти радостно» загудел, что у него тоже ничего нет, что сбережений вообще иметь не надо, на жизнь всегда хватит… Мейерхольд поздравил его с рождением сына.
Над «Гамлетом» Пастернак работал больше, чем над любым собственным текстом, исключая роман. Сначала он перевел трагедию целиком, буквально, почти машинально (писать белым пятистопным ямбом было для него технически почти так же естественно, как говорить прозой). Результатего удручил: по его собственным подсчетам, на каждую тысячу строк приходилось пять, дословно совпадающих с вариантом Лозинского. Пастернак хотел уже писать Лозинскому покаянное письмо — «ты победил, галилеянин»,— но от противного изобрел принципиально новую концепцию перевода. Он решил написать хорошую русскую пьесу, с мощным стихом, с эпическим ритмом,— не гонясь за текстуальной точностью; так стал расти его «Гамлет», который во многих отношениях точнее самого точного подстрочника, но тем не менее это полноправное творение Пастернака.
О Шекспире подробно и компактно (он сам гордился лаконизмом тридцатистраничной статьи) рассказано в статье «К переводам Шекспировских драм» 1946 года. Она сначала без авторской подписи появилась в «Советской литературе» по-английски, а десять лет спустя — в сокращении — в «Литературной Москве». В этих заметках Пастернак ополчается на саму условность — главный элемент театра; вот почему ни одна из его собственных драматических попыток не имела успеха. Шекспир все-таки лучше знал театральные законы, но в переводах Пастернака возникает замечательный контрапункт — естественность и энергия пастернаковской речи против шекспировских напряженных фабул (которые так критиковал Толстой) и пышных метафор (о которых сам Пастернак выразился по-толстовски резко:
«Порой откровенная риторика, нагромождающая десяток пустых околичностей вместо одного вертевшегося на языке у автора и второпях не уловленного слова»).
Пушкин считал Шекспира замечательным поэтом и гениальным драматургом; Пастернак ставил Шекспира-поэта выше Шекспира — театрального писателя. Доминантой его поэзии он считал ритм — важнейшую характеристику поэтического текста в пастернаковской системе ценностей; большинство афоризмов Шекспира, писал Пастернак, подсказано именно ритмом. В самом деле, его перевод с поэтической точки зрения безупречен — столько в нем энергии; перевод Лозинского, эквилинеарный, более темный и романтический,— рисует Гамлета далеко не столь мужественным и решительным. Поистине «Гамлет» Пастернака — прежде всего о конфликте героя с навязанной ему пьесой: до такой степени отличается речь героя от речи всех окружающих его персонажей. Различия в их речевых характеристиках (в частности, Пастернак подчеркивает и старается адекватно передать напевность речи Гертруды, обилие гласных в ней) незначительны по сравнению с тем, до какой степени отрывистая, лаконичная, размашистая, безжалостная в определениях и оценках речь Гамлета отличается от речи всех прочих, будь то даже его ближайший друг Горацио. К мощнейшим монологам Гамлета в пастернаковской передаче относится знаменитое — из четвертой сцены четвертого акта — «Все мне уликой служит, все торопит». Здесь, мнится, высказана одна из самых заветных мыслей Пастернака — которую он подчеркивал и в «Лире», особенно любил ее, указывал на нее дочери Ольги Ивинской:
«Как отлично сказано — «Сведи к необходимости всю жизнь, и человек сравняется с животным!»»
Непрагматические ценности, великие абстракции, во имя которых только и стоит жертвовать,— это одна из сквозных пастернаковских тем:
- В мечтах о славе
- Он рвется к сече, смерти и судьбе
- И жизнью рад пожертвовать, а дело
- Не стоит выеденного яйца.
- Но тот-то и велик, кто без причины
- Не ступит шага, если ж в деле честь,
- Подымет спор из-за пучка соломы.
- Отец убит, и мать осквернена,
- И сердце пышет злобой: вот и время
- Зевать по сторонам и со стыдом
- Смотреть на двадцать тысяч обреченных,
- Готовых лечь в могилу, как в постель,
- За обладанье спорною полоской,
- Столь малой, что на ней не разместить
- Дерущихся и не зарыть убитых.
- О мысль моя, отныне будь в крови,
- Живи грозой иль вовсе не живи.
Думается, здесь есть и упрек себе — затянувшийся период конформизма, «симфонии с государством», сомнений (меж тем как друзья убиты и дело жизни осквернено) и так уже привел Пастернака на грань безумия; «Гамлет» — это еще и жест бесповоротного разрыва с эпохой.
Первый вариант перевода Пастернак уничтожил, второй закончил весной 1939 года. За это время многое успело перемениться, и перемены были подлинно шекспировские — столь страшные, что они вполне вписываются в парадигму Ричардовых или Клавдиевых злодейств, но романтизация этих злодеяний показалась бы Пастернаку непростительным кощунством. Был арестован Мейерхольд, который заказал перевод. Зарезали его жену Зинаиду Райх. Перевод оказался невостребован, но Пастернак не отчаивался — все искупалось минутами наслаждения, испытанными во время работы. В ноябре 1939 года «Гамлета» в переводе Пастернака захотел послушать Немирович-Данченко, приступавший к репетициям трагедии в переводе Анны Радловой — осовремененном, ярком, но, по точному определению Пастернака, «безвкусном». В результате к постановке была принята именно пастернаковская версия: как надменно писал Немирович-Данченко Анне Радловой, ее перевод, конечно, хорош — но, имея перевод выдающийся, Художественный театр находит его более соответствующим своему уровню. Начались репетиции. О дальнейшем сохранились одна чрезвычайно устойчивая сплетня и одно более-менее достоверное свидетельство: согласно сплетне, спектакль погубил Ливанов. Согласно свидетельству самого Ливанова — дневниковому, записанному по горячим следам,— во всем виноват был рок, тяготевший над мхатовским «Гамлетом».
Зинаида Николаевна пишет, что на одном из кремлевских приемов 1940 года (Евгения Ливанова уточняет, что это был прием лауреатов Сталинской премии) Ливанов решил «прогнуться» перед Сталиным и спросил, какие будут руководящие указания в работе над образом Гамлета, которого он сейчас репетирует; возможно, это был не подхалимаж, а желание заранее обезопасить спектакль от запретов и критики — как же, играется по партитуре самого Сталина! В записи Исайи Берлина сохранилась пастернаковская острота по этому поводу:
«Он (Ливанов.— Д.Б.) хотел, чтобы Сталин сказал хоть что-нибудь, пусть даже самое незначительное, чтобы это можно было унести с собой под мышкой и козырять этим потом повсюду».
Как выразился Пастернак, если бы Сталин сказал: «Сыграйте его лилово», Ливанов бы потом говорил актерам, что их игра недостаточно лиловая, что Вождь дал насчет этого совершенно ясные указания — надо играть лилово. Сталин остановился и сказал:
«Вы артист? Артист МХАТа? Тогда обратитесь с вашим вопросом к художественному руководителю театра. Я не специалист по театральным делам».
Затем, помолчав, добавил:
«Однако, поскольку вы обратились с этим вопросом ко мне, я отвечу вам: «Гамлет» — упадочная пьеса, и ее не следует ставить вообще».
На следующий же день репетиции были прерваны. «Гамлета» не ставили до самой смерти Сталина. (На самом деле «Гамлета» не ставили только в Москве и Ленинграде. В провинции он шел — в частности в Новосибирске; если бы Сталин в самом деле прилюдно назвал его упадочной пьесой — вряд ли пастернаковский перевод, да и перевод Лозинского переиздавались бы столько раз.)
Думается, что эта версия неверна — потому что очень уж хорошо видно, откуда растут у нее ноги. В постановлении 1946 года «О второй серии фильма «Большая жизнь»» разгрому подверглась вторая серия «Ивана Грозного». Об эйзенштейновской картине было сказано, что Иван Грозный изображен в ней «слабохарактерным и безвольным, чем-то вроде Гамлета». Пастернака глубоко возмутила эта характеристика:
«Безволие было неизвестно в шекспировское время. Этим не интересовались. Облик Гамлета, обрисованный Шекспиром так подробно, очевиден и не вяжется с представлением о слабонервности. По мысли Шекспира, Гамлет — принц крови, ни на минуту не забывающий о своих правах на престол, баловень старого двора и самонадеянный вследствие своей большой одаренности самородок. В совокупности черт, которыми его наделил автор, нет места дряблости, они ее исключают. Скорее напротив, зрителю предоставляется судить, как велика жертва Гамлета, если при таких видах на будущее он поступается своими выгодами ради высшей цели. (…) «Гамлет» — не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения» («К переводам…»).
Это — к вопросу о вечных упреках в безволии, которые предъявлялись и Гамлету, и Пастернаку. Именно стереотипная цитата из постановления насчет гамлетизма как безволия — могла послужить источником легенды о сталинском грубом ответе.