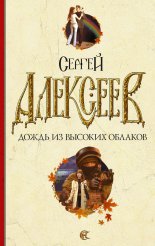Адаптация Былинский Валерий
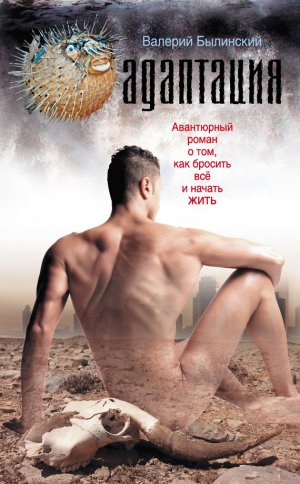
Деньги продолжали падать.
Я нагнулся и стал собирать купюры с пола, ворохами запихивая их в карманы одежды и в рюкзак.
– Ты думаешь, надо? – услышал я вопрос Лизы.
Не прекращая работу, я молча кивнул.
Через какое-то время Лиза нагнулась и стала помогать мне.
Мы вернулись в квартиру Тищика. Гена лежал тихо и сначала мне показалось, что он умер. Но наклонившись над ним, я вроде бы расслышал едва слышное дыхание. Водку я положил в холодильник, ключи оставил на стуле возле дивана. Уходя, мы закрыли входную дверь, и замок защелкнулся сам.
На улице уже порядком стемнело. Проходя мимо все того же, ярко освещенного изнутри супермаркета, мы увидели сквозь стеклянные двери, что банковский автомат продолжает рожать деньги. В сугробе тысячерублевок, в который врос автомат, рылись двое мальчишек и один взрослый мужчина.
Уже пройдя с полчаса по улице, я вдруг вспомнил, что когда мы пришли второй раз к Тищику, в его квартире был выключен свет. Может, просто перегорели пробки? Или… Лиза тоже ничего не заметила. Что-то с нами происходило – с мной и Лизой. Мы стали как будто стареть. Или…
Почему мы не попытались включить ему свет, как он просил?!
С утра Лизе нездоровилось, она лежала, закутанная в два одеяла, молчала и смотрела мимо меня в окно. А я начал обзванивать авиакомпании. Мне сообщали, что регулярные рейсы как внутри страны, так и во все направления мира отменены еще неделю назад, но курсируют специальные чартеры по специальной цене. Билеты в одну сторону в Иркутск на сегодняшний вечер имелись, но стоили они как двухнедельный тур в Австралию в прежние времена. Я попроси менеджера авиакомпании забронировать два билета. Мне ответили, что выкупать билеты нужно сейчас, и как можно быстрее.
Выйдя из дома, я долго голосовал, пытаясь остановить машину. Наконец возле меня остановилась «Волга», и сидящий за рулем хмурый старик согласился подвезти до аэровокзала. Мы поехали. Я пытался заговорить со стариком на предмет того, где он разживается бензином, но он ничего мне не отвечал. Мы проехали мимо церкви, в дверях которой толпился народ. «Надо же», – подумал я и вспомнил отца Петра.
Наконец мы приехали. Денег старик не взял. Когда я пытался почти насильно ему всунуть несколько тысячных, он молча отпихнул мою руку.
Когда я входил в здание, где располагалась нужная мне авиакомпания, то заметил, что, кроме множества табличек над дверью с логотипами фирм, на стене висит большой плакат с надписью: «Продаем добро. Добро пожаловать!».
Получив билет, я спросил у менеджера авиакомпании:
– Скажите, а кто это продает здесь добро?
– Какое добро? – удивился менеджер.
– На входе висит плакат: «Продаем добро».
– А… вы об этом, – скривился парень, – компания есть одна в нашем здании, продает удобрения для сельского хозяйства. «Семирамида» называется.
– Удобрения?
– Типа того.
Я полез в задний карман джинсов, вытащил мятую визитку. Прочитал: «Анзорин Глеб Васильевич. Вице-президент ОАО „Семирамида“. Сельскохозяйственные удобрения»…
– А на каком они этаже, не знаете?
– На втором, кажется. Там указатели висят. Да их может и не быть на месте. Это мы еще работаем, потому что нам зарплату в четыре раза подняли… А остальные…
Следуя указателю с надписью «Семирамида», я поднялся по лестнице на второй этаж, пошел по коридору.
Постучал в дверь с табличкой, вошел.
Девушка с худым бледным лицом сидела за столом за монитором и смотрела на меня. У нее были влажные, бледные глаза. Рядом на столе стоял наполовину полный стакан с жидкостью, напоминающей виски.
– Шеф у себя? – спросил я, подходя.
– Да, – испуганно кивнула влажными глазами секретарша, – он вас ждет.
– Меня? – я остановился.
– Ва-ас, – пролепетала девушка. Казалось, она сейчас заплачет.
Я постоял секунду, потом подошел к двери, распахнул ее и вошел.
Вжав голову в плечи, Анзорин сидел с ногами на столе и смотрел в экран ноутбука. Рядом на полу, да и вокруг, везде – были разбросаны листы покрытых текстом бумаг, некоторые из которых были смяты и разорваны. В углу стоял сейф с распахнутой дверцей, в котором – мне сразу бросилось это в глаза – лежал пистолет.
«Как по заказу…» – мелькнула тревожащая мысль.
– А… это вы… – проговорил Анзорин, казалось, за секунду того, как поднял голову и посмотрел на меня. И сказал как-то неестественно вежливо: – Проходите, садитесь вот сюда… – и тут же вдруг резко стукнул ладонью по столу рядом с собой, так, что я вздрогнул. – Садитесь, – вновь ненормально вежливо продолжил он, – я тут, видите ли, любопытный график вычертил…
Я подошел.
– Какой график?
– Гениальный, – Анзорин указал в экран компьютера. – Понимаете, я никак не возьму в голову, почему же раньше никто до нас не додумался? Ведь это же очевидно!
– Что очевидно?
Он не ответил, вновь погрузившись в созерцание чего-то на экране ноутбука, и улыбнулся.
Я медленно подошел к сейфу, медленно взял лежащий там пистолет – его рукоятка плотно легла мне в ладонь. Поднял рычажок предохранителя, вернулся к столу и упер ствол Анзорину в висок.
– А? – обернулся Анзорин.
– Очевидно? – превозмогая себя, зло заговорил я. – Вот что очевидно… Ты помнишь меня, Анзорин? Помнишь, как ты человека убил, и тебе за это ничего не было?
– Помню я, помню… – как-то странно радостно и мелко закивал он. В нем не было страха, только чрезмерная и какая-то ненормально восторженная возбужденность.
– Ты помнишь, я говорил, что убью тебя? – говорил я, сильно давя стволом его голову.
– Помню, конечно помню… – качался он как ванька-встанька.
– Но ты… не верил, что я тебя убью, помнишь?
– Не верил… Почему же не верил?
– Сейчас самое время пристрелить тебя, сволочь… – почти рычал я, – потому что мне, гад… ничего за это не будет. Понимаешь?
– Понимаю, понимаю, – кивал Анзорин, – только ты не переживай так сильно, не расстраивайся. Мы же выпутаемся!
– Что? Выпутаемся? – я почти продавил его висок стволом.
– Выпутаемся, не волнуйся так… Потому что существуют законы рынка… – скороговоркой, дурашливо улыбаясь, говорил мне в глаза Анзорин.
Казалось, что он говорил это не мне, – кому-то другому.
– Ка-кого рынка?
– Как какого? Нашего, родного, рыночного рынка… Ты посмотри только… – Анзорин, ненормально, рвано улыбаясь, с расширенными глазами, потянул меня пальцами за локоть к экрану ноутбука: – Ведь совершенно же ясно, видишь? Что по законам рыночного саморегулирования, если существует спрос на то, чтобы солнце не погасло, то и способы для реализации этого спроса найдутся. А они-то, дураки, не подозревают, что мы с тобой додумались! Вот посуди сам: спрос рождает предложение – так? Никто не хочет погибать – так? Каждый из нас готов отдать последние деньги, чтобы люди не вымерли. Так? А значит, значит… хи-хи, – должен возникнуть невероятно феноменальный спрос на то, чтобы солнце не погасло. Понимаешь? – брызгая слюной, взахлеб говорил мне Анзорин. – А что это значит? А то, что по законам саморегулирования если возник спрос, то немедленно появится и предложение! И… и солнце, так и не погаснув, вновь возгорится. Оно будет пылать, одаривая нас теплом до тех пор, пока кто-то снова не попытается нарушить рыночные механизмы… Но мы-то будем начеку! Да? Понимаешь? – подмигнул мне Анзорин. – Ага? Мы с тобой на страже будем!
Почувствовав его панибратское похлопывание по своему плечу, я резко отшатнулся, чуть не упал и едва не выронил пистолет.
– Да что ты, что ты! – пуча глаза, обеспокоенно оглядываясь и еще больше пригибаясь в мою сторону, заговорил Анзорин. – Я тут разработал кое-какие нужные алгоритмы вероятности, вот! – он ткнул пальцем в экран ноутбука, – и вычислил, что предложение по спасению солнца уже появляется! Кто-то прямо сейчас, невидимый и всемогущий, настоящий суперменеджер высочайшего звена, гений рыночного саморегулирования, уже делает свое дело. Понимаете? Предложение оформилось, обрело силу и спешит нам на помощь! Скоро оно начнет действовать, охлаждение солнца будет остановлено. Все просто. Это как если подойти к солнышку и пописать на него, вот и все… Все! Поссать и затушить! А знаешь, а я рад, что мы с тобой компаньоны. Разумеется, всем порядочным людям нужно теперь узнать банковский счет нашего спасителя, чтобы немедленно перевести на его счет деньги. Конечно, мы с тобой не сможем так уж много перевести… от возможности, так сказать, по потребности… Но все же – не жалей средств! Там, в сейфе, вложены кое-какие ценные бумаги. Я бы хотел поручить тебе, как самому надежному своему компаньону, реализовать их по выгодной цене. Но не сейчас, разумеется. О, только не сейчас! А подождать немного, когда солнышко совсем почти погаснет… и вот тогда, акции – бряк, и в дело! Вот тогда станем триллионерами и весь мир будет наш… Ну не весь, но полмира точно, пойми, точно! И это ничего, что спасение не наступило ни месяц, ни неделю назад… А внезапно! Сказано же – рынок спасет. В любой день, в любую секунду… главное, верить в него и ждать… ждать… он придет, наш спаситель… Так? Придет?! – Анзорин встал со стола и его глаза безумно сверкнули.
В ту же секунду, будто вновь забыв обо мне, он опять взобрался на стол, скрючился над ноутбуком и стал сосредоточенно щелкать по клавиатуре указательным пальцем правой руки:
– Ага! Вот так, вот так! А мы им – хоп, и не дадимся. Ха-ха-ха! Не-е-т уж. Мы первые застолбили этот участочек, он наш, наш… А это… Ух ты! – Анзорин вдруг резко отшатнулся от экрана ноутбука – так, что едва не упал со стола.
– Ах вот оно что… – изумленно бормотал он с выпученными глазами, и качая головой, словно изумляясь чему-то. – Оказывается, идея-то спасения солнца – твоя, твоя… – Анзорин пристально вглядывался в ноутбук, словно увидел что-то важное внутри экрана. – Твоя идеища-то, твоя! Ух, твоя… Ну, монстр… Ах, голова! Знаешь, я… я ведь надежный партнер, очень надежный, сверхнадежный партнер! Я бы хотел быть твоим… Слушай, возьми меня на работу! А? Ну пожалуйста! – разговаривал он с экраном. – Возьми для начала ну хотя бы на какую-то низенькую должность… Я готов даже бумажки на твоем столе разбирать и складывать, только… я на все… я… – лицо Анзорина исказилось в мучительном экстазе.
У меня похолодели уши, подбородок, грудь. Медленно отойдя от него, я швырнул пистолет в стену напротив – там тотчас же что-то разбилось и зазвенело осколками.
Анзорин не шелохнулся. Он сидел на столе, скрючившись в три погибели над маленьким ноутбуком, и его расширенные глаза и рваную улыбку освещали сполохи огней компьютерного экрана.
Выйдя из кабинета, я встретился с бледным взглядом смотревшей на меня секретарши. Пустой стакан из-под виски валялся на полу. Девушка смотрела на меня так, что казалось, сейчас мы убиваем кого-то вдвоем взглядами. В три шага я подошел к ней, перегнулся через стол, схватил за худые плечи и выдернул из-за стола, словно овощ. Она была легкой, только платье мешало – тяжелое и длинное, словно старинная гардина. Я комкал это платье и заворачивал его вверх, а она только тонко дрожала, глядя на меня ледяными глазами. Грязно, глинисто я вошел в нее, и комкал, и мял, возя, словно живую куклу, по гладкому секретарскому столу, с которого свалился компьютер вместе с клавиатурой, и падало и разбивалось что-то еще и еще. Наконец из меня хлынул поток грязного селя, который, забурлив, заполнил ее всю и выплеснулся через все ее отверстия. Выдернув себя из селя, почти не застегнувшись, как зверь, все еще рыча, стуча ногами, я пошел вон. В зеркале успел увидеть, как секретарша поднимает обе руки, зажимает ими уши, а затем зажмуривает и глаза.
Почти бегом я спустился вниз, пролетел мимо испуганно глянувшего на меня менеджера авиакомпании и очутился на улице.
«Передаем экстренный выпуск новостей. Принято решение закрыть с завтрашнего дня специальные коммерческие авиарейсы. Все полеты будут осуществляться теперь только по мере необходимости самолетами МЧС, а также военной и правительственной авиацией Российской Федерации…»
Когда я пришел домой, Лиза спала, завернувшись, как в кокон, сразу в три одеяла.
Я стоял над ней и размышлял, будить ли ее. Самолет улетает через три часа. Наконец Лиза сама открыла глаза. Посмотрела на меня и проговорила хриплым шепотом:
– Саша, я хочу тебе сказать…
– Подожди, не надо. Лучше я скажу.
– Что-то случилось?
– Да. Я… не люблю тебя. Но это не важно. Я сейчас улетаю. Если хочешь, можешь со мной.
– Хорошо… пусть будет так… Как тебе, – сказала она, и я заметил, что у нее задрожал кончик левого века.
– Ты слышала, что я?..
– Конечно. Ты хочешь, чтобы я полетела?
– Не знаю.
– Тогда я лечу. – Лиза отбросила одеяла и с трудом поднялась. – Когда?
– Через три часа. Одевайся вот в это… – я бросил на пол вещи, которые принес из туристического магазина. В этот магазин я зашел по пути домой, там можно было, как и везде, взять просто так меховые куртки, альпинистские брюки, шапки, унты.
За окном ночь. Салон «Боинга-747» почти пуст. Из пассажиров только мы с Лизой, одинокая старушка, мужчина лет пятидесяти, беспрестанно целующиеся парень с девушкой. Земля, над которой летит наш самолет, погружается в нечто подобное холодному летаргическому сну. Над руинами Ирака, где никто уже не воевал, бродили закутанные в тряпье люди и часто смотрели в небо, откуда шел снег. Впервые в жизни ударили морозы и на островном государстве Кирибати. При температуре –1 половина населения Кирибати заболела простудными заболеваниями, а несколько десятков человек умерли. Люди зачарованно смотрели на легкий пушистый снег, который таял, падая в океан. Смотрели на снег и вылезшие на песчаный берег морские черепахи. Было очень молчаливо по всей земле. Затихли военные конфликты, люди впадали в анабиоз – как бывает с хамелеонами, которые, сидя на закате на теплых камнях, замирают, впитывая в себя остатки дневного света.
Озеро рождения
Когда мы прилетели в Иркутск, там была ночь. Температурное табло показывало, что на улице сейчас –50 °C. Мы вышли из здания иркутского аэропорта и сразу же стало темно – в городе погас электрический свет. Через несколько минут некоторые здания частично осветились, а многие так и остались во тьме.
Мы шли вдоль проезжей части, останавливались, я поднимал, голосуя, руку. Ни одна из редко проносившихся мимо машин не останавливалась. Начали замерзать ноги, нос. Может, вернуться в аэропорт, отогреться? Но ведь там нет света, и может быть, и тепла… Наконец возле нас затормозила темно-бежевая битая «пятерка».
– Чего надо? – спросили.
– До Байкала.
– Э-э… далеко, очень далеко…
– Довези, заплачу любые деньги.
– Какие любые?
– Ну, долларов пятьсот, в рублях…
– Э, дорогой, копейки это!
– Сколько же ты хочешь?
– Слушай, а купи машину! Сам на ней и доедешь, – засмеялись в салоне.
– Эту? Хорошо. Сколько?
– Миллион.
– Рублей?
– Рублей, рублей… – смеялись, – рубль сейчас самая крепкая валюта в мире.
Я вытащил из карманов несколько охапок денег.
– Вот все, что есть. Тут много. Может, и не миллион, но, согласись, много.
Те, кто сидел в машине, видимо, не ожидали такой реакции. Двое мужчин в тулупах вылезли, взяли в руки деньги, стали, освещая фонариком, их смотреть.
– Слушай, не фальшивые, а? Где взял, а?
– В банке. Слушай, если продаешь, то продавай, тут тысяч шестьсот, семьсот будет.
– Берем, – сказал один из них.
Я и Лиза сели в машину.
– А куда ехать, мужики? – спросил я.
– Да вот прямо езжай и приедешь…
Неожиданно дверь рванули.
– Э, слушай, мало здесь! У тебя еще есть?
– Нет!
– Э, давай выходи, говорить надо…
Я с силой захлопнул дверь. Распахнулась дверь со стороны Лизы, рука схватила ее за шею, потащила из салона. Лиза, уцепившись за эту руку ногтями, впилась в нее зубами. Раздался вопль, рука исчезла. Я нажал на педаль газа, и «пятерка» рванула с места.
– Ничего, – засмеялся я. – Break on through to the other side!
Мы ехали по городу какое-то время, Лиза листала путеводитель, который я взял вчера в туристическом магазине. Потом я очнулся и почувствовал, что она тормошит меня:
– Что случилось?
Наша машина стояла у обочины, развернувшись, освещая фарами заснеженную ель в двух метрах от капота.
– Ты заснул за рулем, родной мой… сейчас, давай, садись сзади и поспи, а я поведу.
На заднем сиденье я сразу провалился в сон, в котором ничего не видел, кроме слов «родной мой», которые выглядели как рисованный белый извивающийся человечек. Потом я почувствовал, что вокруг стало очень темно и холодно, и кто-то тормошит меня и говорит: «Не спи… Сашка! Слышишь, не спи… Нельзя спать на закате, плохо потом будет, плохо… не спи».
Такие слова мне говорил когда-то отец, когда я, школьником, бывало, ложился поспать часов в шесть вечера. Когда просыпался после такого сна «на закат», действительно болела голова, и было как-то дымно, тяжело, плохо…
Как сейчас.
Вскоре я ощутил, что что-то в самом деле будит меня – теплое, подрагивающее от радости, словно воспоминание из юности – как тогда, в тот день, когда я пошел в школу, не выучив математику, и меня осветил луч счастья. И как потом это же счастье повторилось, когда я смотрел на спящую Лизу… И теперь, такое же точно счастье толкало меня, вливалось в ноги, журчало через позвоночник, пронизывало ручьями, било потоком в голову, в горло, в глаза…
Я открываю глаза.
– Что это, Лиза?
Лиза молча ведет машину.
Я замечаю, что воздух вокруг стал светлее. Словно темноту стали просеивать через многослойный фильтр света – и вот, черное растворяется, исчезает… Я вижу дорогу, хвойный лес по краям. Спуск вниз – и вот, впереди открывается покрытое снегом и льдом гигантское поле. Подъезжаем ближе, поворачиваем влево – и эта гладь, сверкающая в бледных лучах желтоватого солнца, кажется уже нескончаемой.
Что это, рассвет? Неужели солнце… встает?
Оно действительно вставало. Тяжело, через силу, грузно – но все-таки вставало. Вставало так, как поднимается в последний раз утром с постели смертельно больной человек, которому вчера вечером врачи предписали смерть. Но он назло всем решил прожить еще один день. Последний…
Лиза остановила машину. Мы медленно вышли наружу – каждый из своей двери.
Байкал, залитый сверкающим ледяным панцирем, начинался метрах в двадцати перед нами. Справа и слева из озера пили воду косматые мамонты – поросшие коричневой шерстью елей и сосен холмы. Вдали, за горизонтом, застыли, словно пришельцы с другой планеты, прозрачные голубые горы.
– Ты… чувствуешь? – разлепил я губы…
– Да.
Растворенное в морозном небе солнце освещало серебристое озеро светло-оранжевыми лучами.
– Пошли?
– Да, конечно.
Когда-то очень давно, на жаркой, плавящей душу Кубе мы снимали с себя одежду, перед тем как ступить в море. А здесь мы надеваем на себя меховые шапки, куртки, унты. И когда мы надели все это, нам стало так же легко и свободно на душе, как если бы мы были совсем без одежды.
Взявшись за руки, я и Лиза, переступая ногами в тяжелых унтах, спустились с обрывистого берега на лед.
И пошли по нему.
Мы медленно шли по льду к голубым горам на горизонте. Сколько до них было километров пути? Тысяча? Сто тысяч? Миллион? Морозный воздух над озером был таким же прозрачным, как воды Карибского моря. Под нашими ногами тоже было море – только пресное. Я посмотрел вниз – и замер. Сквозь прозрачный лед под ногами хорошо просматривалось дно. Еще неглубокое, поросшее зелеными и желтыми водорослями, усеянное серебристыми рыбами. Но… рыбы застыли почему-то на месте. И водоросли не шевелятся, будто окаменели. Через какое-то мгновение я понимаю, что озеро попросту промерзло до дна – и мы сейчас идем по гигантской ледяной глыбе, в которой умерли и остались навечно, как в окаменевшем аквариуме, ее обитатели.
Может ли холод стать такой силы, что заморозит не только воду, но и воздух над ней?
И тогда Вселенная вместе с землей превратится в один нескончаемый кусок прозрачного льда, в котором будут недвижно вращаться вмерзшие в него, словно камни, планеты.
Что это?
Я остановился и стал всматриваться внутрь ледяной глубины.
– Лиза! – позвал я.
Она была рядом, я взял ее за локоть.
– Видишь?
Лиза молча смотрела вниз.
Метрах в двух под нами, в прозрачной замороженной синеве застыла с раздутым телом, оттопыренными плавниками и расширенными глазами Рыба-шар. Ощетинившись иголками, она чуть удивленно, немного нахмуренно смотрела на нас. Глаза у нее были, как и всегда, синие.
– Помнишь, я говорила, что ты встретишь меня? А я тебя – нет?
Подул легкий ветер. По льду покатила снежная поземка, задувая белой пудрой лед, и вскоре застывший подводный мир внизу уже нельзя было рассмотреть.
А потом вдруг стало резко, тяжело темнеть.
Что это? Неужели вот сейчас, прямо сейчас все кончается?
Может быть, это только тучи, обычные тучи над нами заслонили с таким трудом вставшее сегодня солнце? Но не должно вот так просто все кончиться, не должно…
Мы переставляли ноги, повинуясь тому же инстинкту, по которому плывут куда-то киты или совершают дальние переходы пингвины. Удалялись от берега, который, если обернуться – я знал это точно, – уже не рассмотреть. Шли, потому что так и не научились доставать взглядом горизонт. Мы просто теперь к нему шли. Шли к горизонту, на котором виднелись горы. Горизонт ведь существует специально для того, чтобы к нему идти. Вот только нельзя дойти до горизонта…
Я остановился, держа в своей руке руку Лизы. Мне показалось, что… горы, к которым мы идем и которые, казалось, все время к нам приближаются – вдруг сейчас, прямо на наших глазах начали отодвигаться от нас еще дальше.
Ожившие, они двигались, уменьшались – и вот, вскоре исчезли совсем…
Я не спрашивал ни о чем. Я не мог говорить.
– Внимание, – сказали где-то далеко на Земле, в тех городах, где все еще каким-то виртуальным чудом теплились в квартирах экраны ТВ. – Важное сообщение… процесс затухания энергии на планете Солнце вступил в необратимую фазу… В связи с этим… в прямом эфире ООН перед нациями Земли выступят ведущие мировые политики… Слово предоставляется президенту… (пауза… потеря изображения… шипение). Прощайте. Кажется, это конец. Простите, кто может… я вас всех… Господи, какая мелодрама… (послышался плач).
Тишина. Темнота.
В недрах моего альпийского комбинезона что-то пискнуло. Будто что-то живое. Протиснув руку за пазуху, я с трудом нащупал рукавицей мобильник. Вытащил – на табло светился значок присланного сообщения. Не от микросхемы, от человека. Одно слово: «Прощай». Номер телефона абонента был мне неизвестен. Я хотел ответить этому неизвестному, снял перчатку, стал набирать буквы – но пальцы онемели, телефон легко скатился с моей ладони и упал под ноги, в снег, в темноту. Да, вокруг уже снова сгущалась тьма. Я нагнулся, но ничего не нашел.
– Где Лиза? – вдруг вспомнил я, – где она?
В этот момент она ткнулась в меня сзади. Я обернулся – и увидел ее лицо, окутанное заиндевевшим меховым воротником куртки. Она ведь была ненамного ниже меня ростом – поэтому мы сразу коснулись друг друга губами. Там, где соприкасались наши лица, образовалась оттаявшая от холода прогалина.
– Кажется, сейчас это должно произойти, – тихо, почти мысленно, сказал ей я.
– Да, я знаю… – она сильнее прижалась ко мне, – сейчас я…
– Что?
– Хочу тебе сказать… – ее ресница коснулась моего носа.
– Говори…
Небо над нами темнело все глубже, одна за другой на нем гасли звезды. Мы чувствовали, что темнота, накрывающая нас, похожа на огромную ладонь… Мы стояли на одной ладони, а нас накрывала другая.
– Говори… Только прижмись ко мне сильнее, милая… ведь так мы еще сможем чуть-чуть пожить.
– А я уже очень сильно прижалась к тебе. Разве ты не слышишь, что у меня бьются два сердца?
– Два… сердца?
– Да. Вчера утром я узнала, что беременна от тебя. Почти месяц уже. Это когда я говорила по телефону с твоим отцом, помнишь? И мы потом… Теперь во мне живет новое сердце. Это наш детеныш. Он нас не видит, он только стучит. Знаешь, первое, что появляется внутри материнского организма – это сердце. Уже потом оно обрастает плотью, кровью, рефлексами… Но сначала – сердце. Оно застучало во мне тогда, четыре недели назад. Слышишь? Он уже не станет человеком, ну и что ж с того? Он все-таки пожил немного во мне… Как ты думаешь, нам не будет троим холодно, когда мы…
– Нет. Конечно же нет, Лиза! Ты не знаешь, кто он – девочка, мальчик?
– Не знаю… Просто человек.
– Просто – человек… Нам не будет больно, нет! Помнишь, нам всегда говорили и писали, что когда замерзаешь, то это нестрашно и не больно, никак…
– Да. Словно погружаешься в теплый сон.
– Или в ванну с теплой водой.
– Вот, мы вернулись в воду, как хотели.
– Конечно, мы ведь и идем по воде.
– Помнишь, я хотела, чтобы я чуть-чуть пережила тебя?
– Помню! Но не знаю, смогу ли я умереть раньше… – тихо засмеялся я. – Давай уж как получится, хорошо?
– Хорошо, – с таким же тихим звоном засмеялась она.
– Тебе тепло?
– Да. И ему, сердцу, тоже тепло, я чувствую…
– Ничего, что он прожил только месяц, это ведь тоже жизнь, да?
– Конечно, и секунда, наверное – это целая огромная жизнь. А тут – целых четыре недели… Это может, как двести лет…
– Он долгожитель, наш маленький… Ты хорошо сказала о секунде, очень хорошо… Знаешь, что-то я вспомнил сейчас о секунде, что-то очень хорошее…
– Конечно! Ведь это же все равно намного больше и лучше, чем совсем ничего, чем ни единой секунды жизни, чем нежизнь…
– Да, да… мне надо только вспомнить…
– Ведь не может быть, чтобы одна секунда хоть чего-то, но значила. Ведь если бабочка умирает за день, значит, она не просто так мало живет, и это не мало?
– Да… где-то я видел эту секунду… и помнил, помнил, как много может вместиться в ней жизни… Мне надо ее найти…
– Я помогу тебе, милый, давай вместе… Господи, как темно. Я почти не вижу тебя! Давай искать…
– Мне очень надо вспомнить, родная… мне кажется, это важнее всего… Неужели что-то одно может быть важнее всего!
– Может, может! Я всегда это знала, хотя и не знаю, что это… Но мы ищем, мы это найдем…
– Это было где-то там, в тепле, на солнце, на желтом солнце, в боли, в нескончаемой боли…
– Да, да… если у тебя осталось несколько минут, даже несколько секунд – вечность туда вполне может вместиться. Даже если одна секунда осталась. Это ведь довольно много – целая секунда времени. Посчитай, закрыв глаза: раз, и-и… И если не сфальшивить и делать, или хотя бы думать, в эти два длинных счета только лишь абсолютную правду – то все получится.
– Господи, как темно… я даже не вижу сейчас тебя, хотя прикасаюсь к твоему носу и целую его… Кто говорит сейчас эти слова – я или ты? Что происходит? Что… Кто мы… Откуда?.. Ведь не может же быть, чтобы было так темно! Мы – умираем?!
– Мне холодно, любимый…
– Что? Ты – еще здесь? Мы – еще здесь?
– Ты, кажется, хотел вспомнить о секунде.
– Что? Кто это? Ты?
– Милый, я здесь. И… мне страшно холодно.
– Мне тоже… Почему же говорили, что замерзать тепло… Нам должно быть тепло…
– Я… замерзаю…
– Я тоже. Господи, какой холод… О чем я думал? О чем хотел сказать? Как же холодно здесь, как больно!
– Ты хотел о секунде…