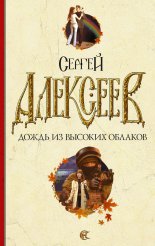Адаптация Былинский Валерий
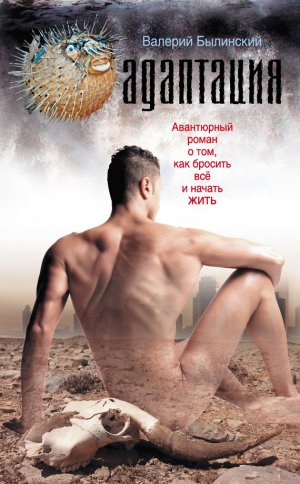
– Хорошее имя, – кивнул я, – Иисус, по-нашему. Выходит, ты не должен врать?
Кажется, Иса меня не понял. Он стоял, выжидающе и чуть тревожно улыбаясь.
– Я не очень-то верю в Иисуса и не знаю, был ли он на самом деле сыном Бога, – сказал я, – но думаю, он был очень правдивым и совестливым человеком. Наверное, самым совестливым на Земле. Ты как считаешь, Иса?
Иса быстро, с натянутой улыбкой проговорил что-то, из чего явствовало, не желаем ли мы еще заказать что, а если не желаем…
– Нет, Иса. Не желаем. Платить не желаем, – с расстановкой сказал я. – У тебя, уважаемый тезка Спасителя, ошибка в счете.
– Никакой ошибки, – после короткой паузы, все еще улыбаясь, сказал Иса. – Нужно платить, платить.
– Значит, у вас тут продают бокалы пива по двести евро. Это что, благотворительная вечеринка? – рассмеялся я по-русски. – Или вы хотите нас ограбить? – продолжил я по-английски.
Официант, поменявшись в лице, но все же сохраняя улыбчивую мину, кивнул:
– Да, мы хотим, чтобы вы заплатили.
– Так, значит, хотите ограбить?
– Да, хотим, – вспыхнули его глаза тлеющими угольками.
Я повернулся к Лизе:
– Лиз, вот это мне нравится! Какие же они честные, эти люди – и я их просто люблю. Весь мир врет, что не хочет нас грабить и обманывать, а здесь прямо объявляют – хотим! Ну что, и мы будем честными?
– Яволь, – с серьезным лицом кивнула Лиза. – Зуб за зуб, честность на честность.
Я поднялся из-за стола. Лиза тоже встала. Краем глаза я уже заметил появившихся слева двух верзил-охранников, которые вальяжно смотрели в нашу сторону. Интересно, куда ведет ход, прикрытый шторой, возле которого стоят эти монстры? Наверное, там находится спец-альков для туристов, решивших соблазниться телом медуз-танцовщиц. Какой же им выставляют счет?
– Вы будете платить? – скорбно покачивая головой, спросил Иса.
Но у меня тоже, по капиталистическим канонам, есть право на стачку или забастовку. Полагаю, что и на революцию.
– Честно? Не-а. Не хочу. Просто не хочется, понимаешь, – мешал я английские слова с русскими. – Хотя денег у меня полно, видишь? – Я вытащил из кармана и потряс перед лицом официанта бумажником, набитым евро. Затем положил на стол пятьдесят евро.
– Думаю и этого будет много, Иса. Ну да ладно. Прекрасное у тебя имя, Иса. А меня знаешь как зовут? Адам. А это моя женщина, Ева. Мы сейчас возвращаемся к себе домой, в рай, а тут так, временно, по пути решили заскочить и посидеть немного. Ну ладно, пока, Иисус. Желаю тебе воскреснуть.
Мы с Лизой пошли к выходу. Двое накачанных служащих стрип-комнатушки тут же преградили нам путь. Может быть, нас начнут сейчас убивать и закопают здесь же, в полу этого арабо-парижского стрип-подвала. Какая мелочь! Я совсем не дорожил своей жизнью. А Лиза не дорожила своей – в этом я был уверен. Но мы оба слишком ценили необъятное чувство нашей общей жизни, чтобы вот так, по-животному, его потерять. Победа – это двигает человека вперед. Если ты умрешь на пути к победе – так и что же? Умирать, побеждая – что может быть жизненней. Я не знал, что буду делать в ближайшие полсекунды – и поэтому, вероятно, внезапно для самого себя заорал что было силы, по-русски, вылупившись на стоявших на нашем пути охранников:
– Стоять! Упали, отжались, духи! Что? Не ясно?! Упали! – и тут я начал греметь на такой смеси мата с матом, какой никогда еще в своей жизни ни от кого не слышал. Откуда взялись во мне эти кладовые слов и выражений? Я строчил свою новую, матерную главу «Адаптации» с упоенной радостью и вдохновением. Я орал так, что белая медуза на подиуме стекла с шеста и куда-то исчезла. Седой старик за столом смотрел на меня с открытым ртом. Даже охранники, судя по их ошалевшим глазам, видели такое представление впервые. Продолжая орать, я размахивал руками, подпрыгивал, топал ногами, превращая свой матомонолог в танец, вставлял в него какие-то бессмысленные, но полные пограничной страсти выражения: «Ты кто такой, а, чайник, быдло, что смотришь, убью, в Багдаде все спокойно, вешайтесь, духи!»
Когда я, задохнувшись, наконец замолчал, а потом, сделав передышку, вновь набрал в грудь воздуха, то услышал звон бьющегося стекла. Повернувшись, я увидел, что Лиза стоит, широко расставив ноги, наклонившись вперед и выставив перед собой горлышко разбитой пивной бутылки «розочкой» вперед – словно средневековый воин с мечом. По выражению ее лица я понял, что она намерена также произнести свою программную речь. Широко раскрыв глаза, Лиза подняла вверх руку с «розочкой» и звонко запела:
– Там вдали за рекой засверкали огни, в небе ясном заря догорала… Сотня юных бойцов, из буденновских войск на разведку в поля поскакала…
Она пела так вдохновенно и громко, что все в помещении, в том числе и я, и обе выглянувшие из-за портьер медузы, охранники, Иисус, молча и с изумлением смотрели на растрепанную высокую девчонку, поднявшую над собой, словно знамя, отколотое бутылочное горлышко:
– Они ехали долго в ночной тишине по широкой украинской степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки: это белогвардейские цепи… И без страха отряд поскакал на врага, завязалась кровавая битва. И боец молодой вдруг поник головой – комсомольское сердце пробито…
– Рашенс… – кивая головой, сказала выглядывающая из-за портьеры черная медуза и улыбнулась.
– Рашенс? – повернулся к ней Иса.
– Рашенс, – кривя лицо в усталой гримасе, сказал появившийся в стрип-комнате еще один человек, полный, лысоватый и по виду совсем не похожий на араба – вероятно, владелец заведения. – Рашенс, – сказал он охранникам, повернулся к нам и брезгливо махнул рукой в сторону двери:
– Рашенс, гоу хоум!
На улице я выпятил грудь и забарабанил по ней кулаками, трубя как Кинг-Конг. Лиза, извиваясь всем телом, тряся волосами и широко расставляя ноги, начала танцевать. Проходящие мимо туристы с улыбками восхищения смотрели на нас, одна женщина зааплодировала. Арабы-зазывалы с мрачноватыми лицами улыбались.
Ночь. Мы идем через освещенные парижские улицы, опускаемся на плетеные стулья уличных кафе, пьем прохладное вино, смотрим на пышные, как застывший салют, звезды над головой, поднимаемся и плывем дальше, вплываем, как бабочки, на желтый свет освещенных залов и комнатушек, пьем холодное вино с белым хрустящим хлебом, пьем горячий кофе и запиваем его ледяной водой. Бабочки живут сутки или несколько дней, в зависимости от своего рода и окружающих их опасностей. Человек живет шестьдесят – семьдесят лет. И бабочки, и мы летим на свет радости и приключений. Если бы каждый день длился так же долго, как сейчас, или как в детстве. Бессмертие – это, вероятно, когда всю жизнь, каждый день и час ты влюблен. Отбираемые у тебя кусочки счастья – как отваливающиеся кирпичи со стены дома, как листья, опадающие с дерева, – приближают тебя к смерти.
На рассвете мы сидим на берегу Сены рядом с седым бродягой, пьем утренний кофе в бумажных стаканчиках из «Макдоналдса». Бродяга похож на Хемингуэя. Мы говорим с ним, не понимая ни слова, о вечности и любви. И мы, и этот старик, и ночные отблески Сены, и танцующие медузы в подвале, и арабы, владельцы медуз, – все это вместе с миром кажется разбросанными в результате какого-то гигантского взрыва слов. Да, именно слов, которые были сложены когда-то вместе и представляли собой идеальную книгу. Книгу, которую в результате жестокого террористического акта однажды взорвали – и слова из нее разлетелись миллиардами осколков по миру. Теперь мы ходим, собираем эти осколки, пытаемся сложить пазл жизни вновь. Кому-то это удается время от времени – и он восстанавливает часть книги. Тогда начинаются революции, войны, болезни, бумы рождаемости, расцветы и закаты искусства, строительство и запустение монастырей, создание и забвение книг. Когда-то, вероятно, пазл полностью восстановят. Но писать тогда ничего уже будет не нужно. Потому что, по сути, все хорошие книги пишутся для того, чтобы преодолевать зло.
Войдя в семь утра в гостиницу, мы вошли друг в друга и уснули: она на мне, я под ней, потом повернулись на бок и проспали все так же, слитым воедино человеком, до двух часов дня.
Надо быть честным.
На следующий день мы уехали на поезде в Амстердам.
Надо быть честным. Есть и другие книги, пишущиеся – сознательно или нет – для того, чтобы проповедовать зло. А бывает, что обе цели – добро и зло – слиты в одной книге воедино, словно человек с человеком. Что победит, а? Что окажется сильнее? Доброту труднее выписать, вычленив из тонкого и рафинированного, воспитанного и обладающим неплохим вкусом зла. Доброту лучше выписывать не в словах на бумаге, а в поступках. То есть вообще не писать. А у меня? Что делать?
Я помолюсь… Сейчас. Простите, понимаю, что это литературно. Но литературы вообще нет. Можете не читать.
Все, я молюсь.
Господи, прости меня, грешного человека. Прости, пожалуйста, даже если Тебя и нет. Прости, если я ошибаюсь и все-таки втискиваю, вливаю нечто отвратительное в свои слова. Господи, дай мне послабление на Своем Суде, я старался, пойми. Я ведь действительно хотел и хочу, чтобы было хорошо. Чтобы тому, кто прочтет написанные мной слова, стало чуточку лучше. Чтобы и я сам сделал что-то стоящее. Я делал все честно, я старался. Гордыня в том, что я писал, была и есть. Но я стараюсь выдавливать ее из себя, как господина. Человеку ведь не только раба надо выдавливать из себя. И рабство, и господство – лишнее, наносное, прилепленное с обоих концов человека. Господи, Ты меня создал и я Твое, не свое. Я многого не знаю, но чувствую. Во многом сомневаюсь. Но чувствую иногда точно, что хорошо и что плохо. Для себя хотя бы чувствую… Прости меня и пойми. Пожалуйста, пойми. Сейчас я помолюсь уже молча. Потому что слова стали мешаться и становиться лукавыми, словно я пытаюсь не опозориться, выглядеть достойным и сильным. Это и рабство и господство одновременно. Ладно, я понял. Каюсь. После этого романа я пойду на исповедь, обещаю. Веры во мне мало, но она есть. Я обещаю. Все. Даже если я сейчас нажму на «delete», мои слова уже прочитаны, они никуда не денутся в черноте безмолвия. Прости меня.
Шестидесятые начала XXI века
В Амстердаме царили шестидесятые годы прошлого века, обернутые в обложку нулевых века нынешнего. Практически на каждой травяной лужайке, на скамейках, на асфальте лежали или сидели лентяи со всего мира, в основном западного, курили, пили, читали, разговаривали или просто глазели в небо. Большая часть из них была молода, неопрятно одета, нечесана и немыта.
На взятых напрокат велосипедах мы с Лизой катили по одному из скверов.
– Эй, ребята, хотите познакомлю с медведем? – крикнул нам по-английски один из лежащих на траве парней, длинноволосый настолько, что волосы полностью закрывали ему глаза и было непонятно, как он вообще видит.
– С каким медведем? – я притормозил рядом с ним.
– Вот с ней, – кивнул парень на лежащую рядом с собой хрупкого вида девушку, похожую на тщедушного парня. Она была коротко пострижена и лежала на спине, заложив за голову руки. По тому, что она все-таки девчонка, можно было угадать по форме ног – она была в шортах.
– Она – медведь?
– Да, самый сильный медведь, тебя заломает в один миг.
– В смысле?
– В том смысле, что положит тебя в армрестлинге.
Я с сомнением посмотрел на тонкие руки спящей девчонки.
– У вас акцент прикольный, вы поляки? – спросил длинноволосый.
– Нет, рашенс.
– С русскими она еще не боролась. Бер! Эй, Бер, просыпайся, с тобой русский медведь будет сражаться.
Девушка проснулась, окинула меня взглядом. Она была курноса, с темными провалами глаз. Сощурилась и сказала мне по-русски с сильным акцентом.
– Кто, ты русский?
– Я. А ты откуда?
– Я никто. Будешь бороться? Ставка сто евро.
Посмотрев на Лизу, которая заинтересованно улыбалась, я кивнул:
– Идет.
Бер встала – и оказалась мне по грудь.
Мы разместились на коленях на траве за каменным столбиком, похожим на постамент для скульптуры. Сплели пальцы, и волосатый парень, которого звали Фишер, скомандовал: «Начали!» Рука Бер мгновенно налилась невероятной силой и стала чугунной. Я сразу понял, что шансов у меня никаких. Кажется, я не продержался и секунды, как ее тонкая рука пригнула мою к каменной поверхности постамента.
– Можешь попробовать двумя, – безразличным голосом сказала Бер.
Когда я жал ее одну руку своими двумя руками и медленно сгибал, мне казалось, что я могу победить. Бер держалась несколько секунд, потом хладнокровно, не меняя безразличного выражения лица, выровняла позицию и припечатала мою руку к постаменту.
– Да, – сказал я, доставая двести евро, – если бы это не произошло со мной, никогда бы не поверил. Ты профессиональный армлестлер?
– Да она в спортивном зале никогда не была, – сказал Фишер и достал сигарету. – Будешь? Неплохая трава.
Я отрицательно покачал головой.
– А не хочешь теперь со мной? – сказала Лиза. Бер посмотрела на нее и снисходительно усмехнулась:
– Пятьдесят евро.
Фишер спросил меня, о чем они говорят, я перевел. Он засмеялся и поджег свою сигарету.
Я взглянул на Лизу, она мне подмигнула. Ладно, в конце концов, денег у нас куча. Я беспокоился только об одном: как бы Бер не сломала Лизе руку.
Они легли на траву напротив друг друга, уперлись локтями в землю, сплели пальцы.
– Action! – крикнул Фишер.
Сначала я решил, что Бер поддается. Потом я понял, что нет: такое разрывающееся от внутренней натуги лицо подделать было невозможно. Менее чем через минуту рука Бер впечаталась в траву.
Изумленный Фишер восхищенно ругался на каком-то непонятном мне языке.
– Черт, как ты это сделала? – спросила Бер; стоя на коленях в траве, потирая свою руку.
– Как обычно, – растянула в длинной улыбке губы сидящая на коленях Лиза, – напрягла все силы и победила.
– Давай на левых!
На этот раз они схватились за каменным постаментом. Левой Бер продержалась чуть дольше. Как она ни извивалась, как ни шипела, скривив лицо и выпучив глаза, Лиза ее уложила.
– Попрошу мои деньги, – сказала Лиза, отряхиваясь.
Получив сотню евро, она с горделивой улыбкой засунула их в карман джинсов.
– Ну что, отыграем вторую сотню? – посмотрела она на меня. – Хотя не знаю, эта медведица не такая уж слабая, – кивнула она на Бер.
– Дело не в этом, Лиз, – сказал я.
– Слушайте, а вы друг с другом боролись? – спросил Фишер меня и Лизу.
Лиза пожала плечами:
– Са меня заломает даже мизинцем. Он сильнее меня раз в сто тринадцать, наверное.
– Нет, вы все-таки попробуйте, я не верю!
– Это действительно так, – сказал я, – и я ничего не понимаю.
– Я в шоке, – качала головой Бер… – Это что, сон?
– Наверное, твоя сила, Бер, заточена только против мужчин, – сказала Лиза. – Вот и все. Против женщины ты не можешь сражаться.
– А ты?
– А я могу сражаться только с тобой.
– Нет, гайз, герлз, – замотал головой Фишер, – это розыгрыш какой-то, сейчас я лично все разрешу. Давай со мной, – повернулся он к Лизе. – Меня Бер заламывала еще быстрее, чем твоего друга.
Он и Лиза легли напротив друга. Фишер без труда положил в траву сначала правую руку Лизы, а затем и левую.
– Бер, – озадаченно повернул он голову, – она не поддавалась. Что происходит, а? Бер, ты же только тому американцу проигрывала…
– Давайте что-нибудь выпьем, – предложил я. – Есть тут поблизости бар? Мы угощаем.
В кафе я заказал для нас всех виски. Здесь же продавали небольшие дозы марихуаны и пирожные с коноплей. Фишер предложил мне попробовать все это, и я отказался. Лиза тоже.
– Вы первые иностранцы, кто не хочет пыхнуть в Амстердаме, – с подозрением констатировал Фишер.
– Понимаешь, Фишер, – сказал я, – приехать в Амстердам, официально считающийся предназначенным для того, чтобы курить траву, и курить тут траву – как-то скучно и пошло, не находишь?
Фишер посмеялся моему ответу, согласно закивал и закурил конопляную сигарету.
Слово «poshlo» я сказал по-русски, но, кажется, он понял.
Бер была мрачна. Я спросил, не из проигрыша ли она расстроена.
– Нет, – пожала она плечами, – я всегда такая.
– Слушай, откуда ты? Из какой страны?
– Не помню. Откуда-то из Европы.
– Ну, если не хочешь говорить…
– Не не хочу. Действительно не важно. Усекаешь разницу?
– Ты хорошо говоришь по-русски.
– Я китайский тоже учу.
– Один мой знакомый уехал в Китай.
– Это классно. Китайцы есть, мы – нет.
– А твой родной язык, Бер, – английский?
– Нет у меня ничего родного, что пристал? Я даже не знаю, кто я. Да мне и по хрен. В грибах только нормально.
– В грибах?
– Ну да. Грибы пробовал?
– Галлюциногенные, что ли?
– Псилоцибин, мескалин, по хрен. Там я есть. А здесь нет. Надоело здесь. Паршиво, черт возьми.
Бер вдруг опустила голову на руку и расплакалась. Глядя на ее узкие вздрагивающие плечи, мне не верилось, что только что она положила меня одной правой. Не верилось, что я говорю с этим человеком наяву. Было жаль ее. Или его? Лиза положила Бер на плечо руку, погладила, присела рядом на корточки.
– Что с тобой? Не надо, ты не одна, мы тут все рядом, поможем тебе…
Бер подняла заплаканные глаза:
– Ты кто?
– Какая разница, – улыбнулась Лиза, – я люблю тебя.
– Точно?
– Ну конечно.
Бер смотрела на Лизу полувидящими глазами.
– Обними меня, пожалуйста… поцелуй.
Лиза, с улыбкой взглянув на меня, наклонилась к Бер, обняла ее и поцеловала в губы. При этом они обе закрыли глаза.
Лиза встала:
– Извини, у меня друг, – она указала на меня, – и я хоть и люблю тебя, но до конца жизни буду с ним, а не с тобой.
Бер встала и взъерошила свои волосы:
– Твой друг разрешает тебе целовать других?
– Он понял, что этот поцелуй нужен тебе. К тому же я думаю, что в любви нет пола. Я люблю в Са близкого мне человека, а не только мужчину.
– Тебя зовут Са? – посмотрела Бер на меня.
– Да.
– Давай я угощу тебя и ее грибами.
– Правда же, не хочу. Нам хорошо и так.
– Да, – подтвердила Лиза, – нам хорошо просто без ничего, только вдвоем.
– Вам хорошо. А я… ем грибы.
– Давно?
– Не помню… С тех пор, как забыла.
– А что ты там видишь, в грибах? – поинтересовалась Лиза.
– Все. Все, что здесь, там вот такое, – Бер показала кончик своего ногтя. Я хожу и ищу себя.
– Почему ты не ищешь себя здесь?
– Здесь нельзя. Здесь не получается. Там. Там есть такая дверь, можно войти. Но я не решаюсь.
– Какая она?
– Не знаю. Живая, очень живая. Может быть просто дверью, может быть из воздуха, из веток, неважно – всегда дверь.
– Дверь восприятия, – сказал я.
– Это очень важная дверь. Мне кажется, если я туда войду, сразу пойму, кто я. Но каждый раз… что-то мешает. Или я боюсь. Или это кончается.
Бер замолчала. Она вытащила из кармана шорт холщовый мешочек, затянутый тесемкой, вытряхнула из него на ладонь кучку сухих мелких грибов, похожих на скрюченных и высушенных человечков. Затем она наклонила голову и стала есть грибы с ладони – так кошка обстоятельно и внимательно поедает «Китикэт» с блюдца.
– Все, через пятнадцать минут отъедет, – заботливо сказал Фишер.
Вместе с Бер мы вышли на улицу, вошли в сквер и она улеглась в тени под кустом.
– На что вы живете, – спросил я Фишера, – армрестлинг?
– Так, живем и все. На пиво и на косяк всегда хватит. Знаешь, мы с Бер не трахаемся, – добавил он, вероятно, подумав, что мне это важно знать. – Для секса у меня есть одна бирманка, работает тут неподалеку официанткой. Я думаю, Бер вообще не трахается. Ей все равно.
Бер лежала, закрыв глаза. Пятнадцать минут уже прошло и, вероятно, все уже началось.
Интересно, войдет ли она сегодня в свою дверь? Отыщет ли себя?
На следующий день, с утра, пошел дождь. Мы с Лиз прогуливались по зданию аэропорта, раздумывая, куда отправиться дальше. На глаза попался плакат с надписью по-английски:
«Куба! Последний оплот коммунизма в Америке. Желаете там побывать?»
Я поинтересовался у сидящей за стойкой служащей аэропорта, симпатичной азиатки, как можно получить визу на Кубу. Узнав, что мы русские, служащая порылась в компьютере и сообщила с улыбкой, что для граждан России на Кубе действует безвизовый режим.
Я оглянулся на Лизу, перевел ей эти слова. Лиза захлопала в ладони.
В Ираке в это время толпа из нескольких десятков человек начала топтать захваченного американского солдата. Через пять минут, когда солдат превратился в сочащийся кровью кусок отбитого мяса, его, еще дышащего, облили бензином и подожгли. В последнюю секунду перед смертью душа морского пехотинца вложила в его губы молитву, которой его в пригороде Орлеана научила его негритянская бабушка. Подумав несколько начальных слов, двадцатидвухлетний парень скончался, и молитва договорилась его душой уже в другом мире. Через два часа, после бомбардировки с воздуха, в городок ворвались британские десантники. Было убито семьдесят восемь иракцев, в том числе трое детей и восемь женщин. Было ранено пятеро англичан – один из них через полчаса умер от ран без молитвы. Когда смолкали последние выстрелы и еще звучали стоны умирающих и живых иракцев, самолет, в котором находились я, Лиза и еще 150 пассажиров, взлетел из амстердамского аэропорта и взял курс на Гавану. Каждую минуту нашего полета в разных точках плывущей под самолетом земли умирало по разным причинам около 100 человек. Каждые 10 секунд нашего полета из чрева матерей рождалось 40 людей, а умирало примерно 18–20. Жизни производилось пока еще больше, чем смерти. Предприятие жизни, если говорить языком бизнеса, было рентабельным.
Последние часы секса
Над Атлантическим океаном все спали. Кроме меня и Лизы. Она, кажется, вообще не сомкнула век за все двенадцать часов полета, а я только проснулся и в полусонном, туманном состоянии смотрел в окно на плывущие под нами города и замки кучевых облаков. Лиза зашевелилась в своем кресле, прижалась ко мне и тихо сказала на ухо:
– Я чувствую, что наш секс скоро кончится.
– Почему ты так говоришь?
– Да… мне кажется, что граница нашего секса – это Атлантический океан. А за ним у нас начнется что-то другое, что-то более важное… Не знаю, понимаешь ли ты меня.
– Ты опередила мои мысли, Лиз. Они меня пугали, и я не говорил о них.
– Новое всегда пугает, Са. Но оно, мне кажется, сейчас лучше, это новое. Его не надо бояться.
– Мы с тобой будто бы в детство возвращаемся. Да? В то время, когда секс был не важен, но мы были счастливы. А может, не в детство, Ли? Может быть, у нас просто начинается настоящая любовь…
– И пока она окончательно не наступила, – улыбнулась мне в ухо Лиза, – мне очень хочется получить тебя в свое безраздельное пользование на высоте 12 тысяч метров.
– И мне.
Мы пошли вдоль рядов кресел, в которых спали люди. Вошли в туалет и закрыли за собой дверь. На последних вздохах своей жизни секс особенно прекрасен. Лиза сильно застонала, дернулась несколько раз в судороге и затихла. На мгновение я даже подумал, что она умерла – но она тихо дышала и я догадался, что она заснула. Одев ее и себя, я вывел обмякшую Лизу из туалета, а когда понял, что она спит очень крепко, взял ее на руки, пронес по проходу и посадил на свое место. Рядом со мной очутилась встревоженная стюардесса:
– Девушке плохо?
– Ну что вы, – улыбнулся я, – она просто спит.
– Спит? Как спит?
– Как ребенок. Как маленький ребенок.
Стюардесса еще некоторое время с подозрением оглядывала меня, потом, видимо, мое добродушное лицо ее убедило, она ушла. Я сел рядом с Лизой и тоже закрыл глаза.
За самолетным окном сидели на крыле два ангела – один был светловолосый, второй курчавый и темнокожий. Они были похожи на мужчин и женщин одновременно.
– Люди чокнулись, – сказал один из них, светлый, – вместо того, чтобы превращаться в бесполых после смерти, они делают это на земле.
– Я бы хотела быть человеком, – грустно сказал темный.
– Что ты сказала… сказал? – расширил глаза белый.
– Что слышал… – симпатичная мулатка резко потянулась ко мне синеватыми губами сквозь стекло иллюминатора самолета.
Я открыл глаза. Лиза спокойно спала рядом, склонив мне на плечо голову. Во рту было склизко и противно, в мыслях тоже. Жутко хотелось секса – как никогда. Что это со мной? Словно что-то долго сдерживаемое взорвалось. Что? Не в силах совладать с собой, я разбудил Лизу, тряся ее за руку.
– Что такое, Са? – сонными глазами она удивленно посмотрела на меня. У тебя лицо какое-то…
– Какое?
– Недоброе, – улыбнулась она. – Тебе что-то приснилось?
– Пойдем, – сжал я ее локоть, – ты мне нужна. Наверное, у меня лицо действительно было такое, что вопросы задавать было бесполезно. Лиза поднялась, мы прошли мимо спящих людей.
Едва закрыв дверь туалета, а повалил ее головой в умывальник и задрал юбку.
– Сашка, ты что!
– Не спрашивай, что, не спрашивай!
Я сразу же кончил. Пенис мгновенно налился новой силой. Я снова кончил. Он вновь затвердел, будто пропитался мгновенно каменеющим раствором…
– Боже, Са… – слышал я где-то далеко голос Лизы.
– Сейчас… сейчас… заткнись, слышишь, – резко наклонившись, я укусил ее за плечо и схватил за волосы.
Лиза вскрикнула, потом заплакала.
– Сука, – сказал я, сука… – и прошептал уже себе – сука, падла. – Отпустив ее, я схватил правой свою левую руку и резко выкрутил – и вскрикнул от боли, едва не потеряв сознание.
Поднял глаза. Лиза, тяжело дыша, с мокрым лицом, с выражением смеси покорности и ужаса смотрит на меня.
– Я… – сказала она, прерываясь, чтобы вздохнуть, – я… не… спрашиваю… что с тобой… Не спрашиваю…
– Иди к черту! – шипяще заорал я, схватил ее за плечи, рывком поднял и развернул к двери, – убирайся… То есть… прости, любимая… просто уйди. Я должен остаться здесь… чтобы… мне надо, надо!
Лиза смотрит на меня. Вот сейчас она скажет свое собачье: «Я не спрашиваю…»
«Уйди!!!» – заорал я без звука.
Она повернулась.
«Возвращайся…» – услышал я ее слова, произнесенные тоже без звука.