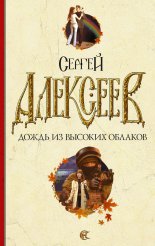Адаптация Былинский Валерий
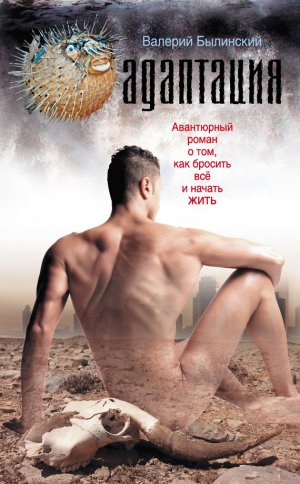
– Да?
– Водка…
– Водка?
– О да. Эни достал немного водки, и я выпил, – он показал пальцами, – вот столько. И теперь я полетел, полетел…
На его лице было написано безоблачное счастье.
Из двери возле стойки бара высунулся Эни. Увидев меня, он быстро восторженно заговорил:
– О, друг, где же ты был? Я так ждал тебя!
Я пожал плечами:
– Very busy.
Эни, не прекращая улыбаться, закуривая на ходу, проскочил мимо и исчез в желтой темноте выхода из отеля.
– Разбуди меня, пожалуйста, Муххамед, – попросил я. – В три ночи за мной придет автобус, я еду к пирамидам.
– О, небесные пирамиды… – блаженно сказал Муххамед, это очень хорошо, просто великолепно. У тебя есть подруга, друг?
– В Москве осталась, – сказал я.
– И у меня в Каире. Чтобы жениться, у нас нужно большой калям платить. Не заплатишь – семьи нет. Знаешь, тут опять две ги-ирл из России приехали, два часа назад, они пошли на дискотеку в «Саунд Бич». Ты видел их? Вам не надо калям платить, вам хорошо. А мне хочется улететь к своей любимой.
– Калям везде платят, – сказал я, – только у вас это делается официально. Разбудить не забудешь?
– О, не беспокойся, – мечтательно заверил Муххамед. – Я ведь в душе европеец, Саша, – настоящий пунктуальный, толерантный европеец, я люблю всех, русских, девушек, американцев…
– И евреев? – спросил я.
Но он не понял моего английского, или сделал вид, что не понял.
– Ну ладно, спокойной ночи… – усмехнувшись, я стал подниматься по лестнице.
Казалось, едва я заснул, как раздался телефонный звонок. Это был Муххамед:
– Пора, Саша, пирамиды… – сказал он почтительным, грустно-пьяным голосом.
– Да, спасибо, встаю…
Муххамеда за стойкой не было. Заспанный портье вынес мне коробку с сухим завтраком.
На улице сидел на ступеньках араб в белом халате и в наброшенной сверху кожаной куртке, он безразлично посмотрел в мою сторону и отвернулся.
Бесшумно подкатил автобус с затемненными окнами.
Выглянувший из дверей смуглый, интеллигентного вида человек в очках взял мой чек, свидетельствующий об уплате за экскурсию. Я опустился в кресло рядом с дремлющей женщиной. Надел на уши наушники плеера, включил «Джетро Талл». Звук флейты стал медленно приближаться по улицам ночных средневековых городов. Внизу, в середине тела, в районе солнечного сплетения стало тепло и покойно. Планета-душа, кажется, уснула. Чувствуя, что сон все плотнее окутывает и меня, я нажал на плеере кнопку «стоп».
Сид. All inclusive
Философия Сида: все люди – писатели. Только пишут они свои романы не на бумаге, а в жизни. Чтобы получить признание, не надо ничего выдумывать, главное – быть всегда откровенным, – говорит, попыхивая «кохибой» и покачиваясь в плетеном кресле, Сид. Он худ, небрит, гол по пояс, в вытертых обрезанных джинсах.
Окна открыты – был душный московский полдень, мы собирались ехать купаться в Серебряный Бор. Но так и не собрались. Разговаривая со мной, Сид одновременно читает интервью с какой-то популярной личностью в журнале FHM.
Мы пьем лимонад – между нами на ковре стоит стеклянный кувшин и два стакана, кувшин наполнен водой со льдом и с сахаром, туда выжаты несколько лаймов и накапано несколько капель белого рома.
«Если ты откровенен в своих писаниях, тогда читатель – Бог – будет доволен, – рассуждает Сид, – и начнет хорошо оплачивать твою работу – в смысле: подбрасывать способы заработка и заказывать следующие романы. Глядишь, под конец жизни и получишь Нобелевскую премию от Самого!» – Сид многозначительно поднимает указательный палец.
«То есть станешь святым, уйдешь в монастырь? Или вознесешься?» – уточняю я.
«Откуда я знаю? – пожал плечами Сид. – Мы же не знаем, в каком размере, получил, например, Нобелевскую премию Че Гевара».
«А он получил?»
«Безусловно».
«А Гитлер?»
Сид несколько удивленно посмотрел на меня поверх очков.
«Ну, он ведь тоже до конца был предан своим идеям, за что и поплатился…»
Сид вернул очки на место и опустил глаза на свою статью. «Фюрер был лгун еще тот, все время врал, и самому себе в том числе».
«Откуда это известно?» – с некоторой издевкой поинтересовался я.
«А ты почитай Феста „Биография Адольфа Гитлера“, там все написано».
«Ну биографы могли и соврать в угоду себе».
«Конечно, – согласился Сид, – но тогда мы им и не верим. Ты слышал, например, чтобы кто-то всерьез и надолго оболгал Христа? Нельзя оболгать тех, кто не врет, у кого поступки не расходятся со словом…»
Мы помолчали. Сид продолжил читать свою статью. Вскоре его лицо приняло обычный расслабленно-сосредоточенный вид. Мне иногда кажется, что Сид в минуты душевного дискомфорта чудесным образом набирается сил от текстов – причем неважно, каких: газетных, интернетовских, рекламных, научных, художественных. Он всегда говорил, что в текстах существует своя мини-жизнь, по ним можно учиться, через них можно отвлечься, посмеяться какой-нибудь заложенной в них глупости или восхититься мудрости, через тексты можно медитировать. Он как бы возрождался от написанных слов и предложений – как прикасались в былинах герои древности к земле, чтобы набраться сил.
«Но ведь у бандитов, – сказал я, – тоже поступки не расходятся со словом. Они живут по понятиям, верно? Значит, бандиты тоже выдвиженцы на Нобелевские премии от Самого»
«Да ты что, Саш! – почти засмеялся уже возрожденный Сид, оборвав свое чтение, – уж они-то врут на каждом шагу. Ложь – их ежедневное занятие. Что, если полицейский на улице подойдет к уголовнику и спросит: брателло, не ты ли убил вчера пятерых? – он что, кивнет и скажет, что да, он самый и есть? Нет, – эта здоровенная лживая и умная свинья соврет, что никого не убивал. Быть всегда откровенным – вот за что дает Господь в этом мире премию, ты что, забыл? Ведь раскаяние – по сути, то же откровение! Недаром тексты Библии – сплошь откровения. Там не врут, понимаешь? И именно поэтому все чтут эту Библию, хоть и без веры, но чтут. Чуют, что правда там какая-то есть. Вот и Моррисон, и Че Гевара – их ведь тоже никто толком охаять не может.
Я знал, что Сид служил в армии. Поэтому я спросил:
«Интересно, а в армии ты тоже не врал?»
«Не всегда, – подумав, ответил Сид. – Знаешь… там было вынужденное вранье, а не искреннее. Чтобы не подвести товарищей, можно обмануть, я думаю. Представь: например, я советский крестьянин в сорок втором году прошлого века, у меня спрятались от расстрела бежавшие из плена советские солдаты. Ко мне приходят немцы и говорят: есть в доме кто? И я отвечаю – нет. Ложь, как говорят, во спасение. Ты должен быть невероятно сильным, чтобы вообще не лгать! Это под силу, может быть, только святому, да и то я сомневаюсь. Нет – Бог только, наверное, один и может никогда не врать… А я… Я ведь временно не вру, Саша. Потому что не хожу в офисы, ни о ком не забочусь – поэтому мне и не врать легко… Мне некого спасать, Саша».
«Но как же тогда Моррисон, Че Гевара, ты же говорил, что они были по настоящему откровенными?»
«Конечно, и они не могли никогда вообще не врать. Но все же они хотя бы пытались делать это».
«Как Мак-Мерфи», – сказал я.
«Кто?»
Сид не видел «Пролетая над гнездом кукушки». Я пересказал: «Действие происходит в психушке. Мак-Мерфи, главный герой фильма, сказал пациентам, что поднимет стоящий на полу водопроводный пульт. Ему никто не поверил – пульт весил килограммов двести. Но он поспорил со всеми на пять долларов, что поднимет. Когда все сбросились по пятерке, Мак-Мерфи обхватил этот пульт, стал его рвать от пола – но даже на сантиметр не оторвал. Все засмеялись, мол, вот дурак, чего же спорил? Никто не может этот пульт поднять. А он говорит, чего смеетесь? Я хотя бы попытался это сделать, а вы только ржете, придурки…»
«И все-таки, – через некоторое время качнул я головой, – как же тебе трудно было служить в армии с таким характером!»
«Да очень просто, – Сид налил себе лимонад, – я в казарме брал на вооружение принцип современного эйджа: „Аll inclusive“ – все включено.
«Как это?»
«А так. „Аll inclusive“ подразумевает, как ты знаешь, слитые в одном заведении различные виды услуг. Современная молодежь исповедует то же самое: она ощущает весь мир как некий один громадный супер-отель, или клуб, в котором им предлагается масса услуг, и они поглощают эти услуги в одинаковых объемах и с одинаковым настроением, независимо от величия или низости этих услуг».
«Что-то я не очень догоняю, Сид».
«Ну как бы лучше объяснить… Понимаешь, в приличном отеле с системой „Аll inclusive“ постояльцу предложат как породистую гостиничную шлюху, так и экскурсию к религиозным святыням, как дорогущий коньяк, так и воду, как романтический ужин при свечах, так и пляжный конкурс „мокрых маек“, как выступление классного оркестра, так и караоке для всех желающих, в том числе и для тех, у кого нет слуха. И люди часто не хотят отказываться от этих услуг, даже если они им не нравятся, потому что думают: мы же заплатили, почему нет?»
«Подожди, я кажется, понимаю: ты хочешь сказать, что „Аll inclusive“ похож на Интернет, где можно найти как Пушкина, так и стихи графоманов?»
«Вот-вот, уже горячо. Мир стал глобальной сетью, где отсутствует понятие высокого и низкого, великого и ничтожного, а существует как бы некий общий салат, солянка, где намешано и то, и другое, и третье. В результате наевшиеся этого салата свиньи обрели право метать бисер перед теми, кого раньше называли аристократами духа. Свиньи стали сильными, а аристократы – слабыми. Свиньи надевают аристократические фраки, пытаются диктовать моду, вкус. И комментаторы всего этого оправдываются: мол, идет очередное накопление капитала, после которого дети и внуки свиней вновь обретут аристократические манеры. Мол, после разграбления Рима варварами так же было… Интересно, думали ли они когда-нибудь, что запас возрождаемых аристократов когда-нибудь закончится? Ведь дело не в том, что внуки свиней меняются к лучшему – просто аристократы, и их дети, и написанные ими книги – все еще существуют, они время от времени выползают из щелей, где прятались, вновь приобретают силу – и свиньи начинают брать с них пример. Но смешение крови, рас, религий, культур, национальностей дает о себе знать. А что, если тому, кто нас создал, однажды надоест управлять царством свиней? И единственное, что сможет всех спасти – это то, что и он, Бог, сам станет свиньей?»
«То есть из жалости и человеколюбия? – догадался я. – А не лучше ему спалить нас, как Соддом и Гоморру, и начать все заново?»
«А что, – кивнул Сид, – революция, в которой главный мятежник – Бог! Хотелось бы, однако, чтобы сделал он это в каком-нибудь дальнем поколении, а не в нашем. Пожить-то еще охота».
«Знаешь, – сказал я, – есть такая теория, что пока жив на Земле хоть один праведник, ничего с человечеством не случится».
«Слышал. А может, прямо сейчас этот праведник умирает в своей постели?» – кисло улыбнулся Сид.
«Не надо так много о вечном», – почувствовав холодок внизу живота, вдруг сказал я.
Ветер пустыни
Нас разбудил гид Альвар – египтянин с интеллигентным лицом в очках. Он встал возле водительской кабины и с улыбкой, мягким, с почти незаметным акцентом голосом стал рассказывать в микрофон о плане экскурсии к пирамидам. Вначале – остановка в кафе, где автобус присоединится к военному эскорту, который будет сопровождать нас в поездке через пустыню. Потом посещение Каирского национального музея. Поз же – поездка через город Гизу к великим пирамидам, обед в ресторане у подножия пирамид и затем возвращение в Хургаду.
– А от кого нас будут охранять военные? – весело спросил один из туристов, сидящий в кресле передо мной.
Альвар с улыбкой объяснил, что путь к пирамидам лежит через пустыню, ближайшее жилье далеко, и если что-то случится в пути, например сломается автобус, то военные помогут справиться с поломкой.
– Ну разумеется, он не говорит о том, что в Египте действуют скрытые террористические группировки, специализирующиеся на убийстве иностранцев, – прокомментировал его ответ турист своей соседке. – Вы слышали, как в девяносто седьмом году возле храма царицы Хатшепсут несколько арабских автоматчиков расстреляли пятьдесят семь европейцев?
– А-а… что-то смутно припоминаю… – сказал женский голос.
– Смутно, потому что наши турагентства молчали об этом, чтобы не потерять клиентов, – деловито объяснял мужчина. – А я тогда прилетел в Египет сразу после теракта, буквально через день. И сразу заказал экскурсию в долину Мертвых, к этому самому храму Хатшепсут. Туда еще не пускали, но мы, русские, дали кому надо денег и прошлись по дорожке, где положили англичашек и французиков. Еще следы крови под ногами были видны. Полтора года после того случая, кроме русских, никто в Египет не ездил. Хотите водку с кофе? У меня полный термос.
– Спасибо, с утра как-то не очень…
– Да там водки с ласточкину слезу, и не почувствуете. Зато взбодритесь!
По обе стороны шоссе расстилались желтые каменистые поля, переходящие ближе к горизонту в холмы. Деревьев не было. Живых существ тоже.
«Не надо так много о вечном, – поморщился я. – Ты, кажется, говорил о системе „Аll inclusive“?
«Да… „все включено“, – кивнул Сид. – Понимаешь, молодой человек моего, например, возраста, приходя в какое-нибудь заведение жизни – будь то тусовка, поездка куда-либо, передача по ТV, книга, офис, женитьба – все, что там ему предлагается, воспринимает с одинаковым среднеприподнятым настроением. Или, наоборот, с не очень приподнятым – ну, смотря у кого какая психика сложилась к тому моменту. А я, придя в армию, взял и перевоплотился по их образу и подобию: воспринял казарму как некий отель с системой „Аll inclusive“ и стал абсолютно все – зуботычины сержантов, кроссы, дурацкое заучивание уставов, тренировки на плацу – ну ты же был в армии, знаешь – воспринимать как услуги, за которые государством за меня уплачено и теперь я могу по праву их получать. Кстати, таким образом находишь в армии много полезного, я, например, медитировать впервые попробовал, не думать ни о чем, чтобы не страдать, когда выполняешь однообразную тупую работу… Правда, к одной бодяге в казарме было трудно привыкнуть: к отжиманиям от пола. Особенно по ночам, когда деды поднимали с кроватей и заставляли отжиматься. Знаешь, у меня руки почему-то ужасно слабые. Приседать могу много раз, а вот отжиматься было страшно мучительно».
Мы проговорили до вечера, и Сид выбрался из своего «Офиса», чтобы прогуляться со мной к метро.
– Слушай, Саш… – задумчиво, глядя себе под ноги, сказал Сид, идя рядом.
– Да?
– Помнишь, ты упрекнул сегодня меня… да и себя тоже, – в том, что мы слишком много болтаем о вечности?
– А… да, в шутку, наверное.
– Нет, ты испугался.
– Может быть.
– Я тоже, Саша. Но это не был неприятный страх. Он был, скорее, заслуженный. Я думаю, самое неожиданное в современной России – смерть. Да и на Западе тоже. Мы ведь все у них перенимаем. Сейчас модно жить так, словно смерти вообще не существует, а уж загробного мира и подавно. Знаешь, Саша, мы ведь с тобой сошлись еще и потому, что предпочитаем говорить о главном, а не о мелком, несущественном.
– Наверное, так, Сид.
– И нам обоим неинтересны люди, разговаривающие о ничтожном.
– Да, верно.
– Знаешь… Ты пиши в своем романе так, чтобы персонажи всегда говорили о главном. Всегда только о самом существенном. Пусть даже перебор у них будет от главного, пусть они блевать от этого будут – ничего! Это только на пользу.
– Конечно… – я посмотрел на него. У Сида было странное, непохожее на него жесткое лицо. – Ты тоже так пиши в своем реальном романе, Сид, – добавил я.
– Я это делаю, Саша. Я думаю, что только так можно создать что-то стоящее. Неважно, где: на бумаге, в действии, в мыслях. Везде.
– Да, везде… – глядя на встречных прохожих с кривой улыбкой, проговорил я.
И вдруг перестал понимать, хочу ли я жить. Умри я сейчас – сразу, мгновенно, без мучений – я бы, кажется, не удивился и не сильно расстроился. Хотелось опуститься на землю, лечь на арбатскую брусчатку спиной. Лежать и ждать, что будет дальше.
Странное дело – стыд, неудобство перед прохожими не позволили мне этого сделать. Жить не хочется, а стыд, оказывается, живуч?
– В Египте автобусы с туристами часто переворачиваются, падают в пропасть. Вот случай был год назад… – монотонно, как радио, бубнил голос впереди.
«Интересно, где он тут пропасть нашел?» – подумал я.
– Девчонок наших воруют, страсть! Завозят в пустыню, и того. Да и молодых мужиков похищают – на органы. Кстати, все бедуины, что водят через пустыню караваны, перевозят на верблюдах оружие, наркотики и девочек для израильских борделей. Это на внешний вид они такие несчастные, запыленные, в халатах. А на самом деле – богатенькие баи…
– Вы так любите экстремальные ощущения? – вкрадчиво спросил женский голос.
– Да нет, скучно как-то. Может, все-таки кофе с водочкой?
– Ну, уговорили…
Остановка – кафе. Пассажиры начинают вставать со своих мест.
– На завтрак отводится не больше получаса, – мягко говорит в микрофон Альвар. – Чай платный: пять фунтов. Имеется туалет: один фунт. Запомните, пожалуйста, как выглядит наш автобус, цвет и номер. Если кто-то опоздает, мы, к сожалению, не сможем его долго ждать. Напоминаю: дальше мы поедем колонной под охраной военных через широкую пустыню, и будем зависеть уже от коллективной воли, а не от одиночной. Поэтому не опаздывайте, господа.
Сонные люди выходили из автобуса. Снаружи оказалось неожиданно холодно: со стороны пустыни дул сильный ветер. Было странное ощущение: воздух теплый, но ветер до каждого сантиметра продувал человека, если он стоял некоторое время без движения.
Возле кафе скопилось большое количество автобусов. И толпа туристов – вероятно, со всех прибрежных отелей Египта – устремилась с коробками сухого завтрака в здание кафе. По этим коробкам в руках можно было определить статус людей: от элегантных фирменных упаковок с логотипом пятизвездочных отелей до мятой картонки из-под соуса «Хайнц» в моих руках. Люди двигались молча, похоже, что ветер мешал им говорить. Продвигаясь в толпе, я чувствовал себя внутри общего исхода – как недавно в аэропорту. Неужели я только три дня назад прилетел? А кажется, что прошло дней десять.
Мы влились в кафе. Внутри стояло множество столов, за которые рассаживались люди. Слева толпилась очередь за пятифунтовым чаем. Некоторые туристы, стоя прямо посреди зала, раскрывали свои коробки и ели.
Я вышел наружу. Во дворе за высокими столами без стульев завтракали те, кому не нашлось место в кафе. Отыскав свободное место, я поставил на стол свою коробку и стал ее распаковывать.
Передо мной, сразу за шоссейной дорогой, уходила к горизонту пустыня с похожими на карьерные разработки холмами. Двое египетских солдат стояли на краю шоссе лицом к нам. Их одежда шевелилась от ветра, надувалась пузырями и хлопала по ногам и рукам. У одного солдата «Калашников» был за плечами, второй опустил его стволом вниз. Оба лениво, устало смотрели перед собой.
Ветер дул мне в лицо. Он забирался под одежду, холодными пузырьками осыпал кожу. И при этом все вокруг было неподвижно: автобусы, жующие люди, солдаты. Земля тоже не шевелилась – казалось, она состоит из тяжелых глиняных комьев, приросших друг к другу.
Коричневая тишина и прозрачный ветер. Стоящая рядом со мной седая иностранка с морщинистой шеей пила чай из пластикового стаканчика, зажимая длинную юбку коленями между ног. Пять минут назад, полуобернувшись, я видел, как она подходит ко мне со своей коробкой под мышкой: ветер несколько раз взметал вверх ее юбку, открывая белые худые ноги, вместе с треугольником нижнего белья вверху, а иностранка улыбалась, открывая зубы, закатывала в ироничном изумлении глаза и словно произносила: «Хо-хо!»
«Мэрилин Монро…» – подумал я.
Мы поглощали каждый свой завтрак. Я очистил два вареных яйца, намазал пластмассовым ножиком джем на разрезанную булочку. Глотнул минеральной воды из пластиковой бутылки. Я чувствовал, как в моем солнечном сплетении съеживается и замирает душа – кажется, ветер пробирал холодом и ее. Мэрилин Монро, раскрывая рот и морща щеки, откусывала большими кусками многослойные сэндвичи. Ее душа молча смотрела сквозь плоский, тренированный в спортзале живот с дряблой кожей. Мы ели и вчетвером смотрели в пустыню, над которой вставал бледно-желтый рассвет.
Один из солдат, стоявших на краю шоссе, повернулся и отошел, исчез за автобусом. Второй бросил окурок и тоже ушел. Вероятно, сейчас где-то далеко впереди едут по коричневой потрескавшейся земле бедуины. В их сумках, болтающихся на верблюжьих боках, лежат гранаты, связанные девушки, пакеты со свежими человеческими органами и гашишем.
Я вспомнил песню Джима Моррисона «Испанский караван».
И вдруг подумал: а что, если прямо сейчас, доев яйцо и дожевав хлеб с джемом – неторопливо пойти прямо к этой пустыне? Обойти стоящий на пути автобус и быстро зашагать прямо в сердце коричневой пустоты, навстречу прозрачному ветру – такому холодному и свежему, словно там, в середине безжизненных песков, разлит океан. Никто и опомниться не успеет, как я буду уже далеко, перевалю за первый коричневый холм, потом за второй, третий… Кто побежит за мной – туда?
Мне почему-то показалось, что и жующая рядом пожилая европейка тоже что-то подобное чувствует. Зов пустыни? Или – смерти? Нет, не то… Это было другое: похожее на разлившиеся чернила желание исчезнуть, пропасть – вот, наверное, точнее. Казалось – если подчиниться ему, впереди ждет что-то невероятно привлекательное, но одновременно и страшное.
И еще я чувствовал: где-то должен быть еще один, такой же, похожий зов – но другой: чистый, чарующий. Как остров, на котором не существует понятий «направо» и «налево», где живут Рыбы-шары. По закону противоположностей такого второго зова просто не может не быть! Как две двери – для входа и выхода.
Пустыня смотрит на тебя глазами исполинской кобры.
Толпа наконец шевельнулась и хлынула вязким потоком к автобусам.
– Никто не потерялся? – с дежурной улыбкой спрашивал автобусный гид, считая нас всех про себя и указывая на каждое сиденье пальцем.
Спереди и сзади автобусную колонну замкнули два джипа с пулеметами на крышах.
Дальше мы ехали часа два. А может, и больше.
– Если террористы атакуют сразу с двух сторон, что эта охрана на джипиках сможет сделать? – сыто разглагольствовал впереди мужской голос.
Женщина ему поддакивала и соглашалась. Я едва их слышал, потому что вновь погрузился в сон.
Живые и мумии
Дальше все было желтым, песчаным. Каир встретил столпотворением людей на тротуарах и обгоняющими автомобильные пробки велосипедистами, держащими одной рукой на голове подносы со свежеиспеченными лепешками, а другой правившими рулем. Они были похожи на черных ящериц, эти велосипедисты. Странные дома цвета песка. Национальный музей – многоэтажный саркофаг. Всыпающихся в него туристов не хватало, чтобы заполнить его под завязку – стены саркофага, казалось, медленно расширялись. Внутри прохлада, в которой бродят люди и лежат мумии. Мумии большие, маленькие, микроскопические, средние, гигантские, лежащие и стоящие в гробах-ладьях, склепах, на полках под стеклом. А вокруг – разглядывающие их люди. Отстав от экскурсии, я бродил по гулким залам музея. Случайно наткнулся на вывеску: «Тутанхамон». У входа – дежурящие полицейские, внутри, возле выставленных за пуленепробиваемым стеклом золотых украшений не протолкнуться из-за туристов-японцев. Поверх их чернявых стриженых голов я бросил взгляд на маску Тутанхамона. Ожившая картинка с почтовой марки, которая когда-то давно, в моем ясном и солнечном детстве, хранилась в кляссере. Вспыхнуло в памяти мороженое за двадцать две копейки, магазин с надписью «Хлеб», новогодние игрушки в ящиках с ватой. Золото маски Тутанхамона за стеклом было тусклым и немного помятым, словно ее использовали как головной убор где-то в быту. И главное – оно было совершенно живым. Более живее этого мертвого предмета я в жизни никогда не видел.
Автобус ехал по серо-желтым окраинам Каира, опоясанным недостроенными домами, из верхних этажей которых торчали прутья металлической арматуры. На первых и вторых этажах на балконах сушилось белье. На земле высились конусообразные кучи цветного мусора, возле которых копошились дети.
– Многие наши граждане, переехавшие в Каир из провинции, купили здесь земельные участки и специально недостраивают свои дома, – интеллигентно объяснял в микрофон Альвар, – таким образом до конца жизни они могут не платить налог за построенное жилье.
На кривом горизонте показались три освещенные солнцем пирамиды. Саркофаги для мумий фараонов Хеопса, Хефрена и Микерена. Гигантские усыпальницы издали были похожи на угольные терриконы в шахтерском городке, где я жил в детстве – только светлые. Черные терриконы памяти и блестящие на солнце древние пирамиды. И еще цветные пирамиды мусора возле навсегда недостроенных домов здесь, наяву.
Автобус выехал на пыльную каменную равнину и остановился.
Мы вышли.
Пирамиды не оказались большими. Наверное, в моем мозговом экране отпечатались московские высотки, Останкинская и Эйфелева башни, фотографии небоскребов Америки. Нью-йоркцам, вероятно, эти пирамиды кажутся игрушечными.
Но они не были и маленькими. Ветра нет, тишина. Солнце светит размыто, глаза не слепит. Если вслушаться, можно уловить какой-то внутренний, едва слышимый глубокий звук. Шелест то ли песка, то ли волн. Словно где-то далеко под ногами, что-то движется, проворачивается. Может – Земля вертится?
Пирамиды были средними. Но это было то «среднее», что медленно плывет в сторону величия. Туристы с задранными головами, полицейские в белых одеждах, бедуины в цветных халатах и чалмах, ведущие верблюдов под уздцы – все они, как камешки, тихо перекатывались по сферической земле, на которой высились три белесо-желтые пирамиды.
Я подошел ближе. Дотронулся до нижнего камня саркофага Хеопса. Стал на выщерблину в каменном блоке, сделал еще шаг вверх.
– Эй! – раздался сзади окрик. Ко мне вразвалку подходил полицейский в белой форме.
– Ноу! – ослепительно улыбаясь, поднял руку он.
Я спрыгнул вниз. Краем глаза я заметил, как один из туристов – кажется, тот, что ехал впереди меня в автобусном кресле – сует полицейскому деньги, и тот, оглянувшись, машет рукой: давай, мол, быстро. Мужчина в белой майке и шортах вскарабкивается на два метра вверх по пирамиде, а его спутница – брюнетка в цветной юбке – снимает его на видео.
– Инаф! – машет полицейский рукой.
– А я? – растерянно улыбается спутница.
Мужчина лезет в карман.
Я оглянулся. Посмотрел вверх. И тут же почувствовал: в пирамидах теплится жизнь. Они, предназначенные для смерти, почему-то живут и дышат до сих пор. А я, со своим мозгом, с кожей, глазами, мыслями, ртом, пенисом, слюнями, родом, воображением – я со всем этим джентльменским набором живого человека не был сейчас живее этой тщательно сложенной груды бело-желтых камней.
В открытом ресторане с видом на Сфинкса и пирамиду Хеопса были накрыты столы. Официанты разносили холодную минеральную воду и кока-колу. Я взял с подноса бутылку ледяной колы. Налил в стакан, отпил, стал понемногу есть: салат, белая рыба на гриле. Жаль, нет холодного белого вина. Я вспомнил, что сегодня у меня день рождения. Откинувшись на стуле, смотрел на пирамиду. Кажется, на этом месте Наполеон выстраивал своих солдат, напутствуя их перед сражением. Зачем-то он покорял весь этот мир, как покоряли многие до него – но войны до сих пор не кончаются. И люди по-прежнему разные, чужие, никакие они друг другу не братья и никогда ими не были. Ошиблись пылкие французы, придумавшие во время своей классовой революции лозунг: «Свобода, равенство, братство».
«У нас, как ты помнишь, было три революции, – прищурившись, говорил мне в детстве старший брат, – а знаешь, сколько было у французов? Пять!»
Пять. Никто до сих пор не знает, как сделать жизнь лучше. Никто. Только в книгах ее делают лучше. Причем в самых плохих книгах, тех самых, которые наш продюсер милостиво обещал не запрещать. В хороших книгах хорошей жизни обычно не бывает. Просто, когда их читаешь, становится лучше на душе. Даже в Библии предвидят победу на земле зла. И жизнь в большинстве своем зла. Надоело делать вид, что это не так. Мне тридцать восемь. Какая свобода, равенство, братство? Люди не равны, не свободны, не братья. Равенство ремесленников, свобода конвейера. Мать говорила, что я родился в пять тридцать вечера. Значит, по египетскому времени я был сейчас еще тридцатисемилетним. А по российскому – рождался прямо сейчас. Тридцать восемь лет. Не знаю, к чему и зачем я существую. Для наслаждения? – так думал в юности, начитавшись Эпикура. Для радости – когда чувствовал, что вот-вот поверю в Бога. Для прорывов в трансцендентное – когда писал «Адаптацию». Для любви – когда любил. А может, чтобы просто дышать и наслаждаться всем этим, пока не прекратится естественным образом дыхание?
В глубине ресторана, там, где натянутый тент давал наиболее густую тень, сидела за столом и смотрела прямо перед собой женщина в солнцезащитных очках. Она была загорелая, с короткими темными волосами, примерно моих лет. Присмотревшись, я узнал ее: это была женщина-чайка – та самая, что лежала в Хургаде на пирсе и что-то долго писала в тетради. Я помахал ей рукой. Похоже, она заметила мой жест и улыбнулась. Но почти сразу же встала и стала уходить. Наверное, мне показалось, что она улыбнулась – ведь лицо ее было в тени. Вероятно, нужно было встать, подойти к ней, догнать, заговорить. Заговорить? Прохладное пекло бессмысленности давило сверху, уничтожало, высасывало все силы, словно работающий рядом на полных оборотах ядерный реактор. И вдруг мне показалось, что предо мной, как 25-й кадр, мелькнула и погасла картинка из детского сна ужаса: беззвучно крутящееся сверло, на которое накручивалась огромная глинистая масса действительности.
Мир, что был перед моими глазами, наклонился, как от удара, сдвинулся и стал стремительно падать. Он падал вместе с высившейся передо мной желтой пирамидой, полицейскими, туристами, рождением, матерью, отцом, школой, армией, институтом, женой, нерожденным ребенком, работой, говорящей рыбой, Анной, Сидом, «Адаптацией». Все было к черту – или к чему-то еще, что означало конец. Это было разрушение созданного когда-то света. Из хрустального шара с Красным морем и человеческими душами он, мой шар Земли, превращался в завихрение сухой коричневой пыли. Сотворение наоборот. Возвращение в грязь. Меня когда-нибудь спросят: «Зачем ты таскаешь с собой этот кусок засохшей пыли?» «Ну что вы? – весело и немного возмущенно отвечу я, – эта пыль раньше была самой прекрасной планетой на свете!» «Вы шутите? – насмешливо скажут мне. – Ну что ж, не хотите говорить, не надо…» Нет ничего. Нет даже желания умереть. Остановить дыхание здесь, среди мертвого песка и камней? Худшего места для смерти не найти. Здесь умирали лишь залитые коричневым солнцем фараоны, которым ставили памятники в виде собственных гробов. А остальные сгнивали, высыхали и превращались в песок. Я встал и, едва переставляя ноги, поплелся к своему автобусу.
Подарок на день рождения
– Как пирамиды, друг? – вальяжно спросил Муххамед, дымя сигаретой. – Был час ночи, я только что вернулся из Гизы. Бармен был трезв.
– Величественные, удивительные гробы, – кивнул я.
– Гробы? – не понял Муххамед.
– Гробы, – кивнул я. Бармен рассмеялся.
– Слушай, Муххамед, – сказал я, – мне хочется выпить. Желательно водки.
– Водки, конечно! – он снял с полки бутылку «Финляндии». – Сколько налить?
Я пояснил, что мне нужна вся бутылка. Муххамед заулыбался, вжал голову в плечи и назвал тройную цену. Я не стал торговаться.
Когда я пил у себя в номере эту водку, оказавшуюся дрянной подделкой, а не «Финляндией», то позвонил вниз и пригласил Муххамеда подняться ко мне. Мы выпили с ним граммов по сто пятьдесят, а может, и по двести. Курили, произносили обрывочные фразы о Египте, России, Европе, о женской любви и о трудностях заработка денег.
Он нежно рассказывал мне о своей шведской любовнице, с которой занимался сексом в немыслимых позах здесь, в этом номере, три месяца назад, и теперь шведка, кажется, вновь собирается в Египет. Ее зовут Ингрид. Прислала длинное сообщение на мобильный, – Муххамед мне его показал, бережно листая телефон, словно разматывая папирусный свиток.
«Мой дорогой, нежный, красивый фараон, я думаю только о тебе, ночами не могу спать, вспоминаю, что жила с тобой в сексуальной сказке. Как поживает твой каменный цветок? Не завял ли? Он так прекрасен, так нежно благоухает, что я, северная пчела, не в силах противиться этому запаху, лечу через тысячи километров к нему…» – писала Ингрид.
У западного человека от его иррациональности остался, кажется, только секс. Мечты о каменных цветках и хрустальных пещерах. Секс, который хуже всего поддается утилизации в виде брачных договоров, расписаний половых контактов, рекламной продукции, возбуждающей, но не предполагающей реального слияния двух тел. И поэтому все, что вспыхивает в воображении едущей в отпуск западной женщины – это мощный, как удар боксера-тяжеловеса, величественный, как рыцарская башня, эрегированный мужской член. В Египте (говорят, еще и в Турции) таких ждущих и изнывающих от желания членов полно. Иная ситуация в Таиланде, где мужчин, тоже мечтающих о необремененном либеральными предрассудками соитии, ждут юные покорные женские влагалища и рты. Но если европейки в Египте становятся в основном самками, низводя всю свою многослойную, добившуюся колоссальных прав в западном мире женскую суть просто до жаждущего ласки влагалища, – то западные мужчины, приехавшие в Таиланд, ищут не только оргазмический секс, а еще и утерянное у себя на родине внимание к себе как к главному полу, мужчине-главе, самцу-повелителю.
В общем-то, неплохо, что есть такие женские и мужские места, куда оба пола могут поехать и слить свою нереализованную половую суть. Может быть, как писал Уэльбек, стоит эту систему эротического слива официально легализовать и зарабатывать на ней деньги? Но тогда, пожалуй, потерялась бы важная составляющая человеческой жизни. То, о чем говорил Платон, в идеальном государстве которого поэты переставали писать стихи после того, как задумывались: «А почему цветок красив?». Секс, окончательно организованный, перестает быть каменным цветком и становится частью системы «Аll inclusive».
Хотя, собственно, что же здесь плохого? – с легким неискренним недоумением говорит адаптированная часть меня.
Пить едва прохладную водку здесь, в этом номере с неработающим кондиционером, было не очень приятно. «У меня сегодня день рождения», – сообщил я по-русски. Муххамед опрокинул в рот очередную рюмку и ответил по-английски: «Что мы так сидим? Включим телевизор?» Я включил. На экране шла раскрашенная в стиле индийских фильмов драма. «Мне тридцать восемь лет, – сказал я, – и это огромный отрезок жизни. Например, если представить, что сейчас 1900 год, начало нового века, а потом сразу возникает 1938 год. Огромная разница! Мировая война, потом Гражданская, потом…»
Муххамед с прищуренными улыбающимися глазами смотрел телевизор. «Это наша звезда, наша!» – восторженно говорил он, указывая на экран, где пела и танцевала беловолосая актриса с большой грудью. «Я пишу книгу», – сказал я по-английски. «У тебя есть журналы?» – интересуется он. «Журналы? Какие журналы?» – «С сексом, с девушками», – пояснил Муххамед. «А… нет…»
Мы курили, окутывая дымом несказанные слова. Он заметно опьянел, и я тоже. Нам обоим, в общем-то, было не о чем говорить и приходилось напрягаться, чтобы выдавить хоть слово.
Было душно. Я отдал остатки водки Муххамеду, объяснил, что это презент. Он бережно завернул бутылку в полотенце, нежно пожал мне руку, несколько раз произнеся с чувством: «Друг, друг…» Посетовал, что теперь ему нельзя выходить из отеля – пьяных граждан Египта на улице может остановить полиция и посадить в тюрьму – поэтому он заночует в подсобке. И ушел, как законспирированный подпольщик в начале прошлого века, с бомбой в полотенце под мышкой.
Мне хотелось выбить стекла в окне или в зеркале, чтобы порезаться.
Чтобы из меня начала течь кровь.
Я представил, как начну орать: «Я живой, суки, живой!» – и за мной явятся перепуганный пьяный Муххамед и насмешливый копт Эни. Они вызовут врачей, полицию. Я пишу живую книгу, буду кричать я. «Да? – скажут они, – о чем, о жизни?» – «О невозможности ее полюбить… жизнь». – «Ерунда, – ухмыльнется один из них, – так не бывает». «Книга живых?» – расхохочется второй. А другой, кто-то третий, поразмыслив, выдаст: «Так надо с ней спать, с жизнью, как с женщиной, много работать и содержать ее! Или заводить любовниц, другие маленькие жизни, чтоб не было скучно». – «Я так уже делал, – разведу я руками, – но ничего не получается. Дело в том, что я хочу жениться на одной-единственной жизни и прожить с ней много лет до конца жизни и умереть с ней в один день».
Вероятно, они решат, что я сумасшедший. Может быть, Муххамеда выгонят с работы за пьянство или привлекут к суду. В конце концов, мы все родились когда-то и когда-то умрем – в этом наше единственное равноправие.
Я вышел на ночную улицу. Тихо. Мимо прошлепала троица: тонкий худой араб вел под локти двух пышнотелых светловолосых европеек в шортах, выше его ростом. Парень, сверкая зубами, что-то весело им рассказывал, девушки клокочуще хохотали.
Я порылся в кармане, достал бумажку, на котором были записаны продиктованные мне Али адреса ночных клубов.
Рядом остановилась освещенная изнутри белым светом маршрутка. «Май френд, лэтс гоу?» – высунулась голова из окошка.
«Гоу…» – кивнул я. Забрался в маршрутку, объяснил, что мне нужно в центр. Мы приехали и остановились возле «Макдоналдса», водитель вместе с напарником стали говорить мне что-то о том, что проезд стоит намного дороже, чем те деньги, на которые мы договорились. Я сунул им банкноту в десять фунтов, они стали что-то бурно доказывать, но я вышел из такси и медленно пошел куда-то вперед. Затем перешел дорогу.
Я был на центральной улице Хургады, с обеих сторон окаймленной барами, ресторанами, магазинами, отелями. Звенели голоса зазывал, в кафе орала арабская и русская шлягерная музыка. Мне встретился высокий человек с длинным носом, накрашенными глазами и накладными грудями под рубашкой, который заглянул мне в глаза и поинтересовался на выдохе: «У тебя есть друг, друг?» От него пахло сладкими духами. Не останавливаясь, я сказал, что да. Тогда человек с грудями обогнал меня и вновь заглянул в глаза: «А он такой же красивый, как ты?» Я улыбнулся в ответ, точно так же скаля зубы, как и все вокруг, и двинулся дальше своей дорогой.
Слева, в темноте, я увидел вход в клуб. Горело пляшущее название: «Papa’s Beach». «Европейское место», – уважительно говорил мне о «Папас Бич» Али, когда я записывал на вырванный из блокнота листок названия ночных заведений. У входа стоял, округло разведя руки над крыльями мышц, охранник-качок. Вежливо посторонившись, он пропустил меня внутрь.
Я вошел. В клубе было полутемно, под ногами скользили цветные витражные блики. Пластиковые шахматные плиты танцпола. Играет музыка: старый хард-рок в современной электронной обработке. Несколько девушек и парней, стоя на плитах и глядя мимо друг друга, колышутся в медленном танце – словно приклеенные к полу и поддуваемые вентилятором снизу водоросли. По краям расставлены высокие круглые столы, за ними на табуретах сидят одиночки и парочки. В середине сдвинуты вместе низкие мягкие кресла, в них болтают и пьют разношерстные компании. В общем-то здесь тихо. Возле барной стойки я заказал двойной «Джим Бим», прошел через зал и вышел на песчаный берег моря. Похоже, здесь тоже была территория клуба.
Возле кромки едва плещущего моря я сел на песок. Слева от меня, положив руки на расставленные колени, сидела женщина. Я сразу узнал ее. Это была Чайка. Она наклонилась вперед, в темноту. В руках у нее была тлеющая сигарета, которую она не подносила ко рту. Рядом на песке стоял ее стакан.
«Добрый вечер», – сказал я по-английски. Она подняла голову, тряхнув волосами, всмотрелась в меня. «Добрый вечер», – ответила с акцентом. Глаз не видно. Похоже, что Чайка из Европы. «Как насчет танца?» – улыбаясь, спросил я ее и встал. «Танца?» – переспросила она, подняв брови, и снова кивнула: «Хорошо. Почему нет?»
Я протянул ей руку, она с удивлением, мгновенье подумав, обхватила ее своей – и поднялась с песка. Чуть ниже меня. На песке остались ее босоножки. «Ты помнишь меня?» «So, so», – с легкой улыбкой качнула она головой. И добавила: «Женщина, мужчина…» И вновь: «И да, и нет…» Улыбнувшись шире, Чайка пожала плечами.
Мы вернулись в зал – там звучала хриплая, без электронной примеси, композиция Тома Джонса. Мы начали медленно изгибаться в такт музыке, просвечивая друг друга взглядами. В ее глазах было пристальное любопытство. Почему-то казалось, что мы оба похожи на вставших на хвосты рыб. Я попробовал передать ей эту мысль на своем скверном английском – и кажется, она поняла. «Почему – рыбы?» – «Потому что мы должны плавать в море, а не танцевать на хвостах…» Сказав это, я уже пожалел, что смолол такую непонятную чушь. Но Чайка, чуть наклонившись ко мне, коснулась моей руки и проговорила: «Мне кажется, именно сейчас рыбы поняли, что всю жизнь заблуждались, плавая в море. А на самом деле их естественное состояние – танцевать на хвостах. Да и не рыбы они вовсе. Женщина и мужчина».
Потом мы танцевали уже в обнимку, медленно вращаясь слева направо и наоборот. Было странно приятно обнимать за талию женщину, которую я не знал еще полчаса назад. «Мне нравится эта музыка, – сказала она, – напоминает колыбельную для взрослых». «Мне тоже, – сказал я. – И еще мне нравишься ты». – «Ты из какой страны, из Польши?» – «Нет, из России». – «Так я и думала», – сказала она по-русски с заметным акцентом. У нее была шея, кожу на которой хотелось, едва касаясь губами, поцеловать.
Танец кончился. Я взял свою спутницу за руку, провел к бару, где купил ей мартини, а себе снова «Джим Бим». Мы сели за свободный высокий стол и как только она захотела что-то сказать, я взял ее правой рукой за затылок, притянул к себе и поцеловал в губы. Чайка едва ответила губами на поцелуй – в глазах ее стал медленно разгораться огонь.
– Ты из Швеции? – спросил я.
– Нет, я немка. Мое имя Аннет Кюсс, – она протянула мне через стол для пожатия руку. Я назвал себя, взял ее пальцы, потянул к себе и вновь поцеловал ее в губы – на этот раз более чувственно. Ее губы были не полные и не тонкие, но слишком сухие, и с каждым новым поцелуем, казалось мне, можно будет постепенно наполнить их влагой. Ей было явно под сорок, фигура не слишком идеальная, с присущей возрасту тяжестью, но все же привлекательная какой-то сильной красотой. В волосах поблескивают редкие нити седины. Интересно, красила ли она вообще когда-нибудь волосы?
– Где ты научилась говорить по-русски, Аннет?
– Мы должны выучить язык, чтобы лучше чувствовать вашу страну. А вам необязательно учить наш язык, чтобы чувствовать нас, – добавила она так, словно я ее об этом спросил. – В этом мы отличаемся.
– Только в этом?
– Как только вы выучиваете наш язык, вы становитесь западниками. Западные и русские люди очень разные.
– Как мужчина и женщина? – спросил я.
– Ну, где-то так.
– Значит, мы можем влюбляться друг в друга, – сказал я.
– О, это пока еще да! – она с улыбкой закивала.
– У тебя прозрачный взгляд, Аннет.
– Я верю в это, Саша, – сказала она, произнеся мое имя с ударением на последнем слоге.
Я положил ей руку на колени. Чуть приподняв брови, она смотрела мне в глаза с проблеском нежности и усталого удивления. Я чувствовал тепло ее ног. Погладил ее колени и заскользил по шершавой и бархатной коже выше, под юбку. Затем с улыбкой поманил ее пальцем, и она, снисходительно прикрыв веки, поднесла мне свою голову – я вновь поцеловал ее в губы. Мой колодец открылся, вода хлынула в нее. По тому, как целуешься с женщиной, можно понять, как она поведет себя в постели. Мы нежно оторвались друг от друга и отвели назад головы. Как два земных шара, только что целовавшиеся взасос и теперь приходящие в себя. Бывает время, когда два таких мира не могут друг без друга, иначе умрут, пересохнут. Время душевной жажды.
– Как хорошо, – сказала она, все еще не открывая глаз. И добавила: – Мой друг Пушкин.
– Почему Пушкин? – удивился я.
– Когда я была маленькая, отец часто оставлял меня с няней, а она была русская, из семьи эмигрантов. Она читала мне сказки Пушкина на русском языке. Родители не знали об этом, няня боялась, что им это не понравится. Хотя, я думаю, она была не права. Когда я выросла, начала учить русский язык.
– А я почему Пушкин?