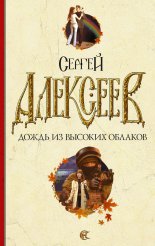Адаптация Былинский Валерий
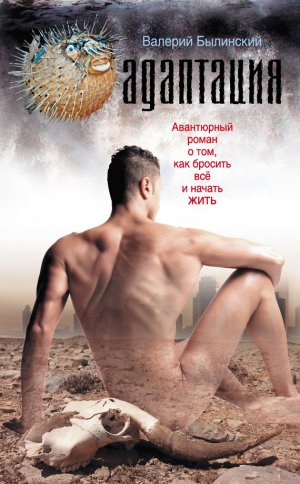
– Так. Россия на самом деле тяжелая. Но люди у нее бывают легкие. Пушкин легкий. От тебя тоже легкое впечатление. К тому же ты Александр.
– Знаешь, я как-то не очень люблю Пушкина. Больше Лермонтова.
– Лермонтов не очень русский писатель. Как и ты сейчас. Ты сейчас тяжелый, Саша. Но в тебе сидит маленький Пушкин. Как в каждом русском. И поэтому ты все-таки легкий слабый Пушик.
– Издеваешься? – с легкой улыбкой спросил я.
– Нет! – Аннет открыла глаза. – Я просто выпила, мне хорошо, и ты мне тоже нравишься. Мне сорок лет, кстати. Мы с тобой одного поколения. Так?
– В сущности, так. Мы родились, когда у вас начался рок-н-ролл, а у нас наши шестидесятники начали читать стихи.
– Почему тебе плохо? – спросила она.
– Как ты сказала?
– Так.
– Мне хорошо.
– Ты обманываешь. В сущности, можешь меня обманывать.
– Ну ладно. Мне не хорошо и не плохо. Мне никак. Мне сегодня исполнилось тридцать восемь, – сказал я.
– Вот как? В таком случае прошу прощения, что я явилась на твой день рождения без подарка.
Я поднял и притянул к себе ее ногу и положил к себе на колено, она уперлась пяткой мне между ног. Пошевелив пальцами, нога Аннет надавила мне на промежность.
– Ненавижу секс, – вдруг буднично сказал я.
Она промолчала.
– За то, что никогда не знаешь, есть в нем любовь или нет.
– Может, мы поищем любовь в нашем сексе… Может, найдем? – сказала она.
– Надоело искать. Лучше наоборот. Может, сначала лучше найти любовь и попробовать потом найти в ней секс?
– Так давно уже не бывает.
– А сразу? Одновременно – любовь и секс?
– Ты фантазер, – она взъерошила рукой мне волосы. – Если чего-то нет, то и нет. А если что-то есть, то оно есть сейчас…
– И надо этим пользоваться, – закончил я.
– В общем, так. Знаешь, мне тоже это не нравится. Мы ведь одного поколения романтиков, и я понимаю тебя.
– Романтиков? Да ну! – засмеялся я. – Романтиками были Леннон и Моррисон, те, кто делал вашу сексуальную революцию. А вы, европейцы моего поколения, – яппи.
– Леннон и Моррисон были язычниками, – сказала Аннет. – Вся культура тех лет – язычество. Но мы, кто родился в шестидесятые годы, – романтики. Люди не действия, а только воображения. Мы не состоялись в жизни, как и вы, русские, – сказала она с легкой улыбкой, глядя мне в глаза и тщательно выговаривая слова. Она походила на учительницу, терпеливо объясняющую урок.
Она продолжила:
– Мы, кто родился в шестидесятые годы, пристально смотрели на вашу страну и на вашу систему социализма. Мы не хотели становиться трудоголиками. Капитализм – это труд, который превращает человека в обезьяну. Мы оттягивали до последнего нашу капиталистическую взрослую жизнь. Когда ваша система рухнула, наша романтика тоже… провалилась в… тарта-ра-ры… Мир опять стал везде одинаковым. И мы пошли работать, чтобы просто жить, без идеи.
– А Бог? – спросил я.
– Бог на Западе рекламный продукт. Реклама Бога – на это у нас правительство тратит большие деньги.
Аннет достала из своего рюкзачка пачку «Житан», вытащила сигарету и закурила.
– Я не говорю, что ваш социализм был чудесным. Но это была попытка хоть что-то человечное сделать в человеке. Я смотрела много ваших фильмов. Фильмы о жизни среднего класса в СССР.
– Да, были такие, – кивнул я.
– Если ваши люди действительно жили так, как показано в этих фильмах, значит, вам удалось создать очень бескорыстных людей. Я думаю, тогда на Западе тоже была идея доброты, справедливости. И романтики. Сейчас нет.
– Потому что рухнул Советский Союз?
– Может, и не от этого. Но что-то исчезло. Точно исчезло. Сейчас живут ради семьи и денег. Но кажется, этого мало для смысла.
– Как в «Крестном отце», – сказал я.
– Что?
– Фильм такой был, «Крестный отец». Там бандиты тоже жили только ради семьи и денег.
– Эл Пачино? – сказала она. – Да… Но должно быть что-то еще. А этого нет. И не будет. По крайней мере, в нашей с тобой жизни.
Я помолчал. Такие разговоры-мысли выпивают много сил, но подчас радуют тем, что выход, кажется, вот-вот найдется. Но обычно он не находится.
– Знаешь, Саша, – Аннет прищурила глаза и приподняла подбородок, – я хочу сделать на твой сегодняшний день рождения подарок.
Она ткнула указательным пальцем себя в грудь.
В постели с Жанной д’Арк
Ее крик начал клокотать где-то внизу, будто сорвало бурным водным потоком невидимый клапан – и поток начал подниматься выше, затапливая все вокруг, трубя и ревя, как несущийся снизу вверх водопад. В этом звуке сначала тихо, а потом все громче закричали животные: носорог, тигр, слон, монстр, минотавр, – и лишь немного человек. Потом звук дернулся и выстрелил холодным фейерверком перед моим лицом, и тут же перешел в низкие хлюпающие стоны умирающего человека; наконец, несколько раз дернувшись в конвульсиях, Аннет затихла.
Она тихо лежала подо мной – приподнявшись на руках, я смотрел на ее запрокинутое лицо. Облитая потом и освещенная лунным светом, Аннет медленно с закрытыми глазами поворачивала голову то влево, то вправо, выдыхая сквозь приоткрытые губы уныло далекое, словно кит под водой: «У… у…у-у-у…» Изнеможенный, так и не добравшись до собственного финала – потому что все это время я бился над Аннет, сдерживая себя и пытаясь довести ее до оргазма – я нависал над ней и думал, что хотя бы вот так, по-животному – я все-таки жив.
Так повторялось несколько дней – по нарастающей, будто наши отношения подпитывались одним и тем же водопадом из глубины земли, бегущим снизу вверх, и должны были куда-нибудь выплеснуться; казалось, нас ждет впереди какой-то один ужасающий и главный оргазм. И всегда в эти дни – каждые три или четыре часа, ночью и днем – я вдавливал ее тело в прутья светло-коричневой кровати, вбивал в нее себя, будто лупил молотом из последних сил по стальному колу, изнемогал от усталости, одышки и боли в пояснице, а она хрипела, визжала, орала и, с невероятной для женщины силой обхватив мою спину руками, умудрялась еще и натягивать меня на себя.
Иногда она просила, чтобы я силой удерживал ей руки над головой. Она говорила: «Сделай это насильно, вот так, так, мне очень нравится, я сильнее закончу, Саша…» – и произносила мое имя все так же с ударением на последний слог. Я стискивал ее руки своей одной, но она вырывалась, тогда я вжимал ее запястья в матрас кровати обеими руками – но она все равно, яростно дергаясь, чаще всего выдергивала свои руки из-под моих. Часто мы боролись, сплетаясь на полу, на ковре. Мне казалось, что я встретил самую неудовлетворенную в мире женщину, богиню несостоявшихся оргазмов, носящую в себе кипящее море страстей – и я смог успокоить, утешить ее. Это не было подвигом, заслугой моей личности. Но это и не было следствием любви. Классическое первобытное чувство. Я помнил, что переживал подобные эмоции и раньше. А сейчас мне Аннет говорила: «Раньше мужчины приводили меня к финишу только пальцами руки. Ты первый, кто смог оживить меня настоящим оргазмом… Знаешь, я готова ради такого, как ты, пойти на эшафот, как Жанна д’Арк!» – и тут же смеялась, заразительно и счастливо хохотала.
Я понимал, что она не врет. И в то же время мне было жутко, невероятно мало пика этой физиологической высоты, этого восхождения на Джомолунгму сексуальной любви. Без секса мы рождаемся и без секса умрем. Значит, есть что-то более счастливое, главное в жизни. Если бы я прожил жизнь девственным ребенком в своем наполненном тысячами открытий Америк мире и умер лет в двенадцать, – я что, был бы менее счастлив? Я понимал, что опять, как всегда, лишь только временно жив. Но тем не менее, во время моих египетских дней и ночей с Аннет, я выплескивал, выпускал, выгонял из себя тоску, прорывался сквозь твердую скорлупу одиночества. «Пусть хоть так, хоть так», – думал я.
Я одновременно обожал и боялся Аннет. Во время наших соитий она сильно менялась – так в американских фильмах меняется жена героя, которую кусает вампир. Она всаживала меня в себя, словно я был кол, а сама становилась агонизирующей вампиршей. Казалось, Аннет совсем не помнит, кто я такой и кто она, и пребывала в каком-то помраченном среднем мире, между жизнью и смертью. И скорее всего, этот ее мир был ближе к смерти, чем мой. Часто, мучаясь неразрешенным бременем наслаждения, Аннет вдруг резко сжимала свои ноги подо мной, крепко охватывала меня руками и начинала, сжав зубы и закатив глаза, возить, елозить меня по себе. А я, схватившись руками за брусья кровати, отталкиваясь и подтягиваясь, помогал ей на этом пути. Если я останавливался, она начинала торопливо, без конца глотая концы слов, умолять: «Do stop, please! Do stop… Don…!» переходила на немецкий и еще на какой-то, совсем непонятный мне язык. И когда ее оргазм наконец рождался, он долго аукал, болтал, гудел, пел, не взрослея, потом затихал, старея, пульсировал, дрожал, стекал по мне хриплой влагой – пока не истончался и не заканчивался совсем.
Минут через пять Аннет возвращалась к реальности. Она вспоминала, кто я такой и кто она, поднимала смутно белевшую в темноте голову с рассыпанными по подушке волосами и спрашивала: «Are you finished?» Я насмешливо крутил головой и отвечал: «No…» Разве можно втиснуть мою ничтожно маленькую эякуляцию в ее огромный, эпический оргазм? И пусть она не переживает – мужчинам всегда лестно так бурно удовлетворить женщину, в этих случаях им даже нравится отводить себе роль второго плана. Тогда она говорила уже деловито, по-русски: «Ну, сейчас я тогда сотворю твою сверхновую планету, мой друг», – и обнимала горячими влажными пальцами мой превратившийся в съежившееся земноводное пенис, гладила его, сжимала, теребила, откидывала простыню, чтобы прохладный воздух мог нас освежить. Она массировала мой орган до тех пор, пока он не начинал выпрямляться. Тогда Аннет вставала на четвереньки рядом – моя правая рука оказывалась между ее ног – наклонялась, выгибала спину, ласкала пальцами обеих рук мои гениталии и начинала делать минет. Она делала его с пунктуальной немецкой четкостью, без особой примеси чувств. Правой рукой я в это время гладил и мял обе ее ягодицы – и от этого мое извержение иногда наступало быстрей. Во время пика соития меня подбрасывало, будто током, я складывался почти пополам и утыкался лицом в ее холодные ягодицы и иногда начинал в какой-то сверкающей темноте прикусывать ее кожу зубами. Я отчетливо помню, что мой рот открывался сам по себе, и меня самого, моей личности, в эти мгновения не существовало.
Иногда, уже позже, когда я все это вспоминал, мне представлялась картинка: врачи с помощью электрошока оживляют умирающего человека, а под потолком витает и смотрит на себя самого его вылетевшая душа.
В первые мгновения после моего оргазма Аннет спокойно, все с той же немецкой деловитостью проглатывала сперму, затем досуха облизывала мой орган и уже после оглядывалась, кося ироничным глазом – мол, ну как ты там, друг?
«Знаешь, мой дружочек, – сказала она однажды, – я ведь раньше жила на Марсе». – «Почему?» – спросил я. «Потому что я никогда не заглатывала мужские семена в рот, я несла это в ванную и выплевывала. А с тобой все происходит естественно…» – Аннет прижалась ко мне, стала обнимать и целовать. Но вскоре, почувствовав, что я холоден, она отстранилась и после вдумчивой паузы захотела узнать, что она сделала не так.
«Нет, все так…» – глядя перед собой в желтую темноту за окном, сказал я.
Мне не хотелось объяснять ей, что опять, как всегда, все выходит пошло и грязно, пусть даже в мыслях, пусть даже она отличная, умная и уже надолго удовлетворенная женщина – но ведь все-таки бывает странно тоскливо, что для нее сексуальное удовлетворение может быть полетом с Марса на Землю, а мне напоминает в лучшем случае картинку из «Мира животных», а в худшем – попытку оживить с помощью электрошока труп. Вероятно, нам не хватает любви, – хотел я сказать ей, но не сказал.
После того как мы оба удовлетворялись и распластывались, утомленные, на влажной постели, Аннет, полежав минуту, поднималась и уходила в душ, а потом открывала мини-бар и приносила на подносе открытые бутылочки виски, мартини и кубики льда. Мы пили – я «Джим Бим» или «Черный Уокер», а она свои вермуты или какой-нибудь спонтанный коктейль. Еще мы курили, смотрели в окно, за которым светилась желтая египетская ночь. «Родится ли между нами что-нибудь, кроме оргазма?» – думал я. Еще мы говорили. Было приятно после соития разговаривать с женщиной, которая тебя понимает. А она понимала.
Стыд и Аннет
– Лучшие из вас – несчастливые люди, – заговорила однажды Аннет обо мне и моей стране. – Вы через свои книги впитали в себя лучшее, что есть в прошлой европейской цивилизации, впитали настолько искренне, что стали по-человечески даже выше тех, кто эту культуру создал. Но лучшие из вас не умеют делать практически ничего реального, а могут только мыслить и говорить. Такое раньше было и у нас, в Европе. Передовыми технологиями и быстрым ритмом жизни мы репрессировали свою думающую и неспособную к практическим делам аристократию. И превратили нашу цивилизацию в один большой средний класс. Ввели в закон умение обладать навыками, а не знаниями. Мы стали забывать, что когда-то умение отвлеченно и абстрактно мыслить построило всю нашу культуру и определило наше влияние на другие страны…
Аннет Кюсс была выпускницей факультета восточно-европейской литературы Кельнского университета. Она работала на разных кафедрах университетов европейских городов, несколько лет прожила в России, в Польше и в Югославии. Позже из-за финансовой неудовлетворенности Аннет устроилась по протекции в известную немецкую авиакомпанию рядовым менеджером и за последние восемь лет сделала там значительную карьеру. Но три месяца назад она уволилась. Денег на банковском счету накопилось достаточно, от родителей осталась квартира. Почему бы не пожить для себя? – решила она. Теперь Аннет путешествует и просто живет. Иногда на досуге занимается переводами для знакомого директора цюрихского театра современной пьесы, он приносит ей тексты русских и польских драматургов и платит за переводы. На пирсе отеля «Саунд Бич» Аннет делала пометки в пьесе русского писателя Фарида Нагима, которая называлась «Крик слона». «Гибельное, какое-то карфагенское название», – сказал я и выразил желание ее почитать. «Автор имел в виду звуковой сигнал электрички, – сказала Аннет, – в России он похож на крик слона, да?» Но каждый раз, когда мы приходили к ней в номер, Аннет забывала дать мне эту пьесу, а я забывал ей об этом напомнить.
– На Западе, – говорила Аннет, – в конце шестидесятых еще было престижно поступать на географический или литературный факультеты – а сегодня, те, кто хочет туда поступить, сделать это не всегда могут, потому что деньги на обучение им дают родители, которые в начале двадцать первого века стали считать, что их детям лучше заканчивать финансовые и экономические факультеты, потому что тогда они будут успевать за растущим уровнем жизни. И они правы – что тут сделаешь! Западные люди сейчас только по инерции считают себя образованными наследниками великой западноевропейской культуры. А на самом деле их сила в том, что у них пока еще много денег. Но когда более сильные и менее образованные люди с Востока отберут у Запада деньги – он погибнет.
– А Россия? – спросил я.
– Вряд ли она сохранится в том виде, в котором существует сейчас.
– А какая Россия сейчас?
– Ваши женщины, например, до сих пор еще испытывают стыд. У вас сохранились бесстыдные мужчины – а у нас они беспрерывно стыдятся, жалеют и стесняются своих прошлых дел. Я думаю, это западные мужчины, а не женщины, придумали политкорректность, расовую терпимость, феминизм, права сексуальных меньшинств и животных. Это сделали мужчины – потому что они стыдились, как должны стыдиться женщины. Совсем скоро так будет и у вас.
– И что из этого следует?
– Что ты имеешь в виду?
– Это плохо или хорошо?
Аннет рассмеялась:
– Ты настоящий русский, Саша. Ты любишь мучить себя вопросами!
Это была книжная фраза. Я знал, что это не так. Я не был типичным русским, потому что многие типичные русские давно уже не любят занимать свои мысли серьезными вопросами (главными – как говорил Сид). К тому же я не мучил себя. Эти вопросы облегчают мне жизнь, расцвечивая ее смыслом.
Серьезными же современные русские становятся, только если разговор заходит о деньгах. Я при вопросе о деньгах нечасто становлюсь серьезным. А жаль. Я не люблю себя за это. Ведь деньги, как говорил мой новый знакомый Антон (он появится позже, в главе об абсолютно счастливом человеке), есть такое же достоинство человека, как жена, семья, дом, их надо воспитывать, оберегать, растить, защищать, и тогда они станут приносить добрую пользу.
– Знаешь еще что? – спросила через некоторое время Аннет.
– Да?
– В Берлине одна моя знакомая стала посещать курсы стыда.
– Стыда?
– Да. Там женщину учат умению стыдиться. Считается, что это чувство нужно возрождать. Пример берут с женщин Востока. Преподают на этих курсах марокканки и албанки. Интересно, да?
– У нас тоже есть такие курсы. Я видел по телевизору передачу «Школа стерв». Там инструктор обучает приемам стыдливости, чтобы понравиться мужчине. Рассказывают, например, через сколько дней после начала знакомства нужно соглашаться на секс, как стесняться в постели. Как и в каких случаях в разговоре с мужчиной нужно опускать глаза вниз. Как изображать эмоции смирения, покорности, как научиться краснеть…
– Краснеть? У вас учат краснеть? – Аннет весело рассмеялась.
Я не сказал ей, что несколько лет назад в одном из первых ток-шоу «Красная шапочка» мы подняли тему упадка женской стыдливости: это, мол, мешает в общении с мужчинами. Мы пригласили на передачу психолога, он вызывал желающих из зала и демонстрировал, с помощью каких приемов можно притвориться стыдливой. После этой передачи в Москве появился один из первых тренингов по обольщению мужчин, в который были включены и приемы искусственной стыдливости. Регина Павловна негодовала, что у нас сперли идею и грозила судебным разбирательством.
Три часа дня. Мы с Аннет загораем на каменном пирсе, на ее полиуретановом коврике у полуразрушенного парапета. Только что выпили по бутылке холодного пива. У Аннет светло-коричневый загар с оливковым оттенком. Я кладу ей пальцы в ложбинку – где ягодица переходит в ногу – и чувствую, что ее тело начало стареть. Когда трогаешь кожу молодых женщин, не возникает никаких мыслей о ее упругости – их кожа может быть мягкой, плотной, любой, но это просто молодая кожа, о которой не задумываешься, а только ее чувствуешь. Море еле плещется внизу. Интересно, когда женщины начинают чувствовать границу, за которой начинается их увядание? Мысли тихо шевелятся внутри нас, словно водоросли, между которыми плавают рыбы. Мужчины, например я, начинают чувствовать увядание к сорока, когда замечают несвежесть собственного дыхания. И утром, глядя в зеркало, ты видишь себя очень старым, измятым, похожим на бездомного человека. Раньше, когда ты вставал утром и смотрел в зеркало – то была молодая измятость, которая даже шла к лицу. Самое неприятное для мужчины после тридцати семи – заснуть где-нибудь, не раздеваясь, в одежде. Наутро он будет исковеркан возрастом, покрыт плесенью лет, пахнуть годами. Потом смываешь это в горячем душе. Дует прохладный ветер. Припекает солнце, выбеливая на наших телах кристаллы соли.
В Москве в это время шел дождь. Летний, стыдливый. Женщины с прозрачными юбками шлепали по улице, и на них смотрели, улыбаясь, мужчины. Автомобили разбрызгивали прозрачную грязь. Собака пряталась под аркой и повизгивала, глядя, как вальяжно чертыхающиеся подростки несут мимо нее пакеты из «Макдоналдса». Дождь поливал тонкими струями Москву, словно из лейки счастья. Бывает непогода, утепляющая душу, – таким был этот дождь. Даже невеселое лицо бандита, сидящего в темно-синем «БМВ», которому через час предстояло умереть от пистолетной пули, было легким и почти что прозрачным. Через дорогу, за стеклом магазина видно лицо девочки – она еще маленькая, ей девять лет. Она предчувствует свою жизнь. Сидит на корточках и смотрит через витрину на улицу. Ее взгляд медленно летит сквозь дома и дворы напротив, куда-то в собственную точку на горизонте. Глядя на дождь, она вспоминает говорящую пантеру, увиденную сегодня в мультфильме про Африку. Ее мама стоит позади с молодым человеком, которого девочка называет дядей, они о чем-то вполголоса говорят. Молодой человек моложе мамы на пять лет. Все трое заскочили в магазин, чтобы переждать дождь. На улице парень и девушка, сбросив обувь, танцуют босиком в дождевой луже. Прохожие, улыбаясь, смотрят на них и проходят мимо. Большинству людей на этой улице, сейчас хорошо. В белом от солнца иракском городе только что взорвалась бомба, в воздух подлетели куски разорванных тел. Нож в руке чеченского парня описывает дугу маятника и взрезает горло связанного русского солдата, его ровесника. Одним хорошо, другим очень плохо – но вряд ли кому-то из них стыдно. Моя мать, сев на мягкий пуфик в большой комнате, чувствует, что у нее отнимается рука. Ей больно. Четвертые сутки гниет умерший во сне от сердечного приступа бездомный мужчина, решивший провести ночь в подвале дома на 1-й Владимирской улице. Он был мой ровесник. Как ему там: хорошо, плохо, стыдно? Его найдут только завтра. Трудно быть Богом.
Беспрепятственная любовь
Однажды, когда мы с Аннет, наплававшись, вылезли из воды на полуразрушенный пирс, а потом пошли в расположенное рядом кафе, она сказала, отвечая на мой вопрос: «Знаешь, Саша, у меня просто выключен материнский инстинкт».
Когда мы купались, я завел разговор о детях, есть ли у нее они, и хотела бы она их иметь. Она сказала, что нет, не хочет. Теперь, сидя в пластмассовом кресле, Аннет пояснила, что материнский инстинкт у нее, к сожалению или к счастью, выключен, но она воспринимает это как нормальную, свыше посланную данность. «И что же, ты не хотела иметь детей никогда?» – не мог я скрыть удивления, хоть и пытался спрятать его за беспечностью тона.
Рядом с нами за соседним столиком сидел с родителями и громко капризничал маленький ребенок. Родители пытались его успокоить, но безуспешно; вскоре, завернув трясущегося от крика мальчишку в полотенце, они его унесли. Оба родителя были мрачные, раздраженные, и кажется, находились в ссоре друг с другом. Я заметил, что Аннет была странно спокойна все это время – будто намеренно когда-то приучила себя к такому спокойствию при виде орущих детей. Я заметил эту ее реакцию и опять проговорил улыбчиво: мол, как же дети бывают иногда противны, у них уже с младенчества проявляются характеры. А она сказала: «Знаешь, я вообще детей не переношу. Когда они подходят близко, меня начинает просто трясти внутри».
При этом она была завораживающе спокойна и мила, как мадонна, чей младенец спрыгнул с рук и где-то бегает неподалеку. Я спросил, опять не очень серьезным тоном, как же развился в ней такой антиинстинкт, не свойственный, в общем-то, женщинам? Она сказала, что, напротив, такое отношение к потомству характерно для многих женщин – они, правда, в меньшинстве по сравнению с обычными женщинами, инстинктивно желающими родить детей. «Женщменьшинства», – выразился я и засмеялся. – Как геи и лесби?» – «Наверное – кивнула она с легкой улыбкой. – Но что поделаешь, если это так? Есть женщины, которые вообще рождаются без материнского инстинкта или утрачивают его в течение молодости».
Мы ели парную арабскую шаверму с овощами и соусом «Хайнц», я пил пиво «Стелла», она минеральную воду без газа. Высоко в небе над нами летел самолет, в котором было полно людей, и многие из них наверняка испытывали к кому-либо в течение жизни чувство любви. Некоторые из них были семьями, с детьми, но в основном пассажиры путешествовали парами: любовными, партнерскими, дружескими, или просто один на один с собой.
Аннет сказала, что задумывалась над этой проблемой, которая, как она уточнила, таковой для нее не является, но была актуальна для некоторых ее партнеров. Если мужчины хотели детей и поднимали этот вопрос, и ей приходилось отвечать на него – они, как правило, расставались. Часто это были как раз те мужчины, что ей нравились больше других. Однажды она прожила два года в гражданском браке с итальянцем, у которого уже был ребенок в другой семье – и все же они расстались.
– Надеюсь, для наших отношений это не явится проблемой? – спросила Аннет с серьезной улыбкой.
– Нет, – сказал я.
– Похоже, что ты врешь, – заметила она.
– Не знаю… – ответил я. И добавил: – Все равно наш гражданский брак продлится еще неделю, до тех пор, пока мы оба не разлетимся по своим странам. Так какая же здесь проблема?
На этот раз немного загрустила она. И сказала, когда я вручал чаевые официанту:
– Знаешь, Саша… мне почему-то кажется, что я бы хотела продолжить с тобой наш брак.
– Но ведь мы очень разные, – с усмешкой напомнил я, – мужчина и женщина, Россия и Запад?
– Все равно, – неровно улыбаясь, ответила она, – я уже старая, и понимаю, что различия тоже стареют и умирают, как и люди. Мне кажется, несмотря на то, что ты русский и жутко неприспособленный к жизни человек, я могла бы с тобой жить.
– Почему? – спросил я, когда мы уже шли к ее номеру (ее отель имел отдельный вход по лестнице с пляжа, поэтому мы всегда поднимались в ее номер, а не ко мне).
– Потому что ты хороший человек, – сказала Аннет и добавила шутливо: – И я вроде тоже, да?..
– Знаешь, у нас в России есть такая поговорка: «Хороший человек не профессия».
Аннет засмеялась:
– Если ты не сможешь зарабатывать деньги на Западе, то я их буду зарабатывать – у нас это проще. И без детей у нас тоже неплохо.
Она ходила по номеру и распахивала окна. Потом включила DVD-плеер с музыкой Горана Бреговича и отправилась в душ. Я сидел в кресле возле журнального столика, листал лежащие на нем сшитые листы бумаги. Это была пьеса «Крик слона» Но думал я о другом.
– На Западе не бывает сильного одиночества в старости из-за того, что за человеком некому ухаживать, – сказала Аннет, подходя ко мне со стаканом приготовленного коктейля в руке. Стучали льдинки, я курил. Игги Поп рассказывал о машине смерти.
– Мне нужен мужчина и хороший человек, этого достаточно, – продолжал ее голос. – А остальное все сложно, и это сложное трудно найти. Хороший человек для меня важная профессия, Саша. Кстати, мы сможем с тобой заниматься любовью беспрепятственно, потому что я сделала себе операцию по перерезанию маточных труб. Так что твоя сперма не сможет проникнуть в меня…
Вот так она говорила.
Я не спросил Аннет, почему она решила, что мы обязательно будем жить на Западе, а не в России. Впрочем, я понимал ее логику и, в общем-то, немного разделял.
Я не спросил ее также, почему она решила, что отсутствие ребенка не окажется для меня проблемой. При этом я заметил в ее глазах тень совестливого сомнения. Или мне показалось?
– Что? – спросила Аннет, словно я говорил вслух.
В сущности, она была неплохая женщина. И я тоже бы хотел с ней жить.
Может быть, и умереть вместе с ней в один день.
Ну как? Частое упоминание о смерти кажется вам навязчивым?
– Иди сюда… – сказал я.
Когда мы занимались беспрепятственной любовью на ее широкой кровати, Аннет уже не вопила по-звериному, как в первые дни, а только мягко постанывала. Я трижды кончал в нее, инстинктивными оргазмами пытаясь зачать в ней жизнь. Я ощущал растущую потребность почувствовать хоть что-нибудь, что подтвердило бы нашу с ней близость в будущем. Но мои сперматозоиды, вторгаясь в ее похожее на ущелье темное лоно, тонули в бесконечной космической пустоте.
Текст, найденный в поисковой системе Yandex.
Тема: «Перерезанные трубы»
Название: «Лучшие способы стать бесплодным».
«Существует два вида стерилизации: мужская и женская. Из двоих супругов в силу многих причин стерилизацию лучше всего пройти мужчине. У мужчин эта проблема решается просто: под наркозом делаются два маленьких разреза в области корня мошонки, и семявыводящие протоки перерезаются. Затем на разрезы накладываются швы – и пациент уходит домой. Сексом ему можно заниматься уже на следующий день после операции.
Но еще в течение двух-трех недель вашей партнерше надо будет предохраняться от беременности, так как способные к оплодотворению сперматозоиды могут остаться в яичках пациента. Но зато потом беспокоиться не о чем. Надо заметить, что эта операция не только проста, но и не оказывает никакого влияния на потенцию мужчины.
Операция же по стерилизации женщины дает сразу стопроцентный эффект – правда, проходит несколько сложнее. Ее можно провести двумя способами: открытым, при котором разрезается брюшная полость и перерезаются маточные трубы (после такой операции женщине необходимо провести в больнице пять-семь дней), и эндоскопическим способом (через три прокола внутрь брюшной полости вводят эндоскоп и с его помощью перерезают трубы). В больнице в последнем случае придется остаться всего на один-два дня.
Сексуальную жизнь женщине, прошедшей стерилизацию, можно начинать не раньше чем через две недели.
Но тут следует учесть, что женская стерилизация необратима. У вашей партнерши, прошедшей эту операцию, нет никаких шансов когда-либо восстановить проводимость маточных труб. Если она и решит позже зачать ребенка, то это будет возможно только в пробирке.
А вот прооперированный мужчина при желании может вернуться к исходной ситуации. Проводимость его семявыводящих протоков можно восстановить – правда, такую операцию лучше делать не позже чем через 5 лет, а позже должно последовать специальное лечение.
Профессор массачусетского университета Вильям Ли заявил на пресс-конференции, что современная наука близка к тому, чтобы кардинально решить проблему контрацепции. По его словам, уже через два-три года молодые люди, желающие заниматься до запланированного рождения ребенка или брака беспроблемным сексом, смогут делать это, если обратятся к хирургам, которые за час-два сделают им необходимую операцию, и точно так же, если понадобится, сделают другую операцию, возвращающую способность производить потомство. По словам профессора, такие операции можно будет проводить несколько раз в жизни человека без всякого вреда для его здоровья…»
Это был наиболее эпичный отрывок на заданную тему.
На следующий день по настоянию Аннет мы поехали в Луксор.
Колоссы Луксора
Когда мы приехали в Долину Мертвых, там стояла пятидесятиградусная жара. Воздух был похож на горячее море. Странно, что Солнце может так раскалять Землю, а тень – остужать. А что, если Земля остановится в своем вращении на орбите, замрет в своем полете на месяц, год, два, навсегда? Что случится с нами, как мы будем жить в этом вечном разделении на свет и тьму, холод и пекло?
Вместе с туристами мы вышли из автобуса. Я обмотал голову футболкой, которая случайно оказалась в рюкзаке. Аннет была в кепке с полями, прикрывающими шею и плечи и в длинной тонкой юбке. Кажется, она чувствовала себя здесь вполне комфортно. Со всех сторон воздух прикасался ко мне, словно тело другого, очень жаркого и близко стоящего человека, и все время давил, старался оттеснить. Я прихватил с собой пластиковую фляжку, в которой был замороженный и теперь почти растаявший апельсиновый сок, смешанный с водкой, и прихлебывал коктейль из горлышка. «Не надо этого делать, – мягко сказала Аннет, – в таком климате от водки может прихватить сердце. Тебе сколько лет, мой друг?» И в самом деле, – а я об этом как-то не думал. Одной испанской старушке из нашей группы стало дурно – обмахивая шляпами и туристическими брошюрами, ее увели обратно в автобус, где работал кондиционер. Отсидевшись некоторое время, испанка все же выбралась из салона и отправилась вместе со всеми осматривать долину.
Через какое-то время, побродив по долине, напоминающей карьерные разработки коричневого вулканического пепла и спустившись наугад в одну из гробниц, где сырая старина в виде коптских крестиков на стенах и потертых плит склепов не вызвала у меня интереса, я уселся в тени под навесом у входа в кассы рядом с англоязычными молодыми людьми – их было четверо, с рюкзаками, запыленные блондины и блондинки. Я ждал Аннет, которая бодро исчезала в каждой из сырых нор-гробниц Египетского царства. Оказывается, в прошлый раз, когда она посещала Египет со своим итальянцем, их сюда не привозили – после теракта возле храма Хатшепсут Долина Мертвых не работала.
Потом мы прошлись по той самой дорожке, где террористы в конце девяностых расстреляли из автоматов несколько десятков европейцев. Я не стал подниматься в Храм царицы Хатшепсут, в этот вырубленный в коричневых скалах замок, – было лень, да и тяжело: невидимый насос потихоньку откачивал из меня силы. Я дожидался Аннет в тени под одним из отреставрированных каменных строений. Пил свой коктейль.
На обратном пути нас поджидали арабы, стоящие возле холодильников на колесах, они торговали колой, мороженым и самодельными сувенирами. Вокруг высились коричневые холмы без единого кустика, воздух от них струился вверх потоками прозрачного расплавленного стекла. По холму по тропинке медленно, словно часть воздуха, поднимался человек в длинной белой одежде, чалме и шлепанцах. Он остановился, подрагивая в потоках расплавленного воздушного стекла, обернулся и посмотрел на нас.
В автобусе я смачивал голову минеральной водой из бутылки и дремал у Аннет на плече. «Скоро ты оживишься», – сказала она мне.
И в самом деле – когда мы очутились в тихой заводи Луксорского храма, я ожил. Здесь не было жарко, женщины бродили по территории храма с каким-то мерцающим выражением вечности на лицах. Луксор был бесконечен. Огромные, словно гигантские слоновьи ноги, каменные колонны расчерчивали пространство тенями. Чем-то все это напоминало гигантский супермаркет, мегамолл фараонов, по которому бродили современные женщины, завороженно рассматривая выставленные товары. Мужчины лишь с любопытством крутили головами и явно не были готовы ничего покупать. В этом отличие Луксора от Пирамид в Гизе. Там, у подножия огромных саркофагов, приезжие туристки сразу становились блеклыми и уставшими, а мужчины интуитивно, и может быть, даже против воли, вбирали в себя каменную музыку желтых Пирамид.
А здесь мы шли от колонны к колонне, забыв о туристической группе, которая отправилась куда-то вглубь искать провидческую статую жука-скарабея, чтобы загадать возле нее сокровенные желания. Когда-то здесь бродили жрецы, они молились Осирису, поднимая головы вверх. Воздух становился нежнее, прохладней. Испещренные иероглифами колонны храма с редкими плитами, лежащими сверху, все не кончались; казалось, они бесконечно множились, как в компьютерном фильме.
– Теперь ты понимаешь? – спрашивала меня Аннет.
Теперь я понимал. Эти каменные исполины больше всего напоминали фаллосы – окаменевшие и вставшие из земли, накрытые кое-где треснувшими плитами. Солнце просеивалось в этот мир, как сквозь дырявую каменную марлю. Мы дошли до одной из колонн, в изнеможении опустились на ее основание. Я смотрел вверх и видел плывущее над собой серо-золотое небо. Оно было мирным и успокаивающим, это небо. Я понимал. Вероятно, женщины всего мира в этом месте, среди молчаливых колонн, чувствуют слияние души и тела. Я ощутил, как пальцы Аннет проникли ко мне в шорты. «Не надо…» – хотел я ей сказать, но не сказал. Странная сила, идущая от этих камней, входила в меня и заставила застыть не только тело, но и мысли. Аннет наклонилась, обхватила мой пенис губами, подвигала головой, потом отняла губы, прислушалась: в глубине колонного леса неподалеку от нас кто-то прошел. Мой орган был как колонна – холодный, каменный, я ему не принадлежал. Аннет, откинувшись спиной на колонну, запустила левую руку в ширинку моих шортов и, прикрыв глаза, с нарастающей энергией, почти исступленно, стала двигать рукой. Мне не хотелось кончать. Она же хотела этого космически. Из уважения к ней я пробовал представить незнакомую женщину в бикини, занимающуюся со мной сексом. Но не смог. Среди колонн опять кто-то ходил. Может быть – жрецы?
Мимо нас, немного приседая в коленках, прошли двое японских туристов, он и она, оба маленького роста, в оливковых шортах и шляпах с полями, с рюкзачками и с цифровыми мыльницами в руках. Улыбаясь и выкатывая глаза, они что-то пробормотали и пошли дальше.
Аннет все же добилась своего – или колонна помогла ей? Из меня почти ничего не вытекло, жара Луксора вобрала в себя всю влагу. Но несколько капель спермы все же упали в луксорскую пыль. Из них мог бы получиться красивый человек с талантом Байрона или со способностями менеджера оптовых продаж, юноша или девушка, старик, мачо, ловелас, бездельник, трудоголик, романтик, душка, отличник или троечник. Просто хороший человек. Он мог бы смеяться, интересоваться политикой, любить бокс и футбол, жалеть нищих, плакать, сочинять слоганы, бегать, мечтать, отлично водить машину, нежно целоваться и купаться, поднимая брызги, в волнах соленого моря. Но его нет и не будет никогда. Жизнь не состоялась. Миллионы человеческих капель в эти мгновения проливались во всех точках мира на ковры, на простыни, на землю – и высыхали. У меня кружилась голова, влага покрыла испариной все тело, футболка и шорты липли к коже. Покачиваясь, я встал. Аннет поддерживала меня под руку. Мы отправились искать свою группу. Колоссы Луксора с молчаливым сочувствием смотрели нам вслед.
Однажды мы с Сидом ездили к его приятелю за анашой в Переделкино. Мимо нас, когда мы уже находились на перроне, пронеслась электричка – и загудела так, что Сид заткнул руками уши и, кривясь всем лицом, выхлестнул: «Ревет как слон!» А потом, когда мы шли обратно, и на подъезде к пешеходному переходу вновь зазвучал дальний электропоезд, я добавил: «Как раненый слон». И сказал, что слышал в Египте о пьесе с похожим названием «Крик слона». Сид сообщил, что знает ее автора: это его приятель, к которому мы только что заходили. Я вспомнил: сидит в темноте, ровный, прямой, темно одетый человек, вежливо и без улыбки смотрит вперед и одновременно в себя; курит косяк. Он выглядел как колонна – только тонкая. За ним на стене висел застекленный портрет Рудольфа Нуриева. Да и сам он на него похож, этот… как его? Фарид, как его, Нагим.
Когда на следующий день мы валялись на пляже, Аннет поднялась, накрыла меня тенью и поинтересовалась:
– Не хочешь окунуться?
Я жестом показал, что нет. Она искупалась, вернулась и, капая на меня теплой водой, наклонилась, щуря глаза: «О чем ты думаешь, а?» – «Трудно сразу сказать, о чем, – пожал я плечами, наполовину приоткрывая глаза. – А почему ты спрашиваешь, Аннет?» – «Ты не такой как всегда, вот почему». Тогда я сел, обхватил руками колени и пояснил, что похоже, наши отношения стали напоминать растущий сверху вниз цветок в горшке. «Как это – сверху вниз?» Я сказал: «Он не распускается, а превращается в опутанные землей корни и скоро увянет, погибнет. Понимаешь?» Она помолчала. «Это потому, что я сказала, что, у меня выключен материнский инстинкт?»
Я помолчал немного, щурясь от солнца, и ответил: «Да».
Едва войдя в номер, я прижался к ней сзади и резко задрал ее короткую теннисную юбку. Собственно, настроения для секса у нас не было. И вдруг накатило. Она вздрогнула, почти выскользнула, и вдруг по-кошачьи проговорила: «Можешь взять меня силой? Пожалуйста, так, да?..» Стала сопротивляться, перевернулась на спину, боролась со мной, упираясь руками, поджимая колени, пытаясь сбросить меня с себя, все время сипло выкрикивая: «Так, сильно, сильно, да!» А я долбил ее своей бесчувственной горячей колонной так, словно хотел разорвать ей ее трубы и пустить ей кровь. Она начала кричать что-то по-немецки. Я услышал «найн, битте…» и что-то еще. Я отпустил ее. Мы сидели, тяжело дыша, на ковре посреди номера. У меня была разбита губа.
– Спасибо. Подарок был что надо… – сказал я, наклонился к самому ее лицу и облизнул языком ее кончик носа. Я сделал это с нарастающей пустотой в груди. На носу Аннет осталось пятнышко крови.
Завтра мы оба улетели. В один день и даже час. Только в разные города. Наши отношения скончались в одно время – как в сказке о счастливой жизни влюбленных. Перед вылетом Аннет, которая молчала все время в такси по дороге в аэропорт, обхватила меня рукой за затылок и прижала мое лицо к своему; я почувствовал, что оно мокрое. «Прости меня», – сказала она мне в ухо по-немецки. Ее голос звучал как шелест травы. «И ты меня», – сказал я ей так же тихо. «Мне кажется, что-то еще случится между нами, – продолжала она по-русски. – Что-то хорошее». И она заплакала по-настоящему, не сдерживаясь. «Прощай, хороший мой человек», – она повернулась и отправилась в свой зал вылета, волоча за собой чемодан.
Когда я смотрел ей вслед, казалось, что Аннет ссутулилась, постарела. Но при этом в ней появилось что-то новое – стройное, близкое и настоящее – оно, это совсем другое, будто бы тоже одновременно шло в ней вместе с ней к ее самолету. Не поворачивая головы, Аннет на ходу вытянула вверх левую руку и помахала мне растопыренной пятерней, сжимая и разжимая пальцы. Я ответил ей тем же жестом, с улыбкой – наверное, она тоже улыбалась в этот момент. Мои глаза стали большими и прозрачными от почти выкатившихся и застывших в них слез. Как глаза Рыбы-шар.
Но слезы не выплакались. Я повернулся и, давясь от спазмов в горле, принялся смотреть во все стороны, на мелькающие щитки самолетных объявлений, на цветную толпу вновь прибывающих людей, на торчащую из толпы руку с табличкой туристической фирмы, на мчащихся куда-то сотрудников аэропорта, на солдат с «Калашниковыми» за спиной за стеклами зала. Если насильно долго смотреть на что-то, кроме предмета своей боли, то слезы, как и неродившаяся любовь, войдут обратно в человека и растворятся в нем; пройдут спазмы в горле, и все вновь выровняется, успокоится, как нарушенная случайным ветром гладь озера, моря или песчаной пустыни.
Последнее воспоминание о Египте: когда я зашел в туалет, чтобы отлить, увидел над писсуарами прикрепленный к стене клочок бумаги с надписью по-русски: «Денег уборщикам не давайте!». Когда я тупо смотрел на эту надпись и лил из себя мочу, справа от меня возникла коричневая ладонь, и рядом лицо бородатого человека в спецовке со шваброй. «Долляр надо, – говорил он, глядя на меня боком, с суетливой улыбкой, – долляр сюда, долляр туда, папир надо? – протягивал он мне рулон туалетной бумаги, – долляр надо, долляр туда, долляр сюда, ха-ха, туда-сюда…»
Я сполоснул руки под краном и вышел.
В небе пил из горлышка купленный в «Дьюти фри» за одиннадцать долларов «Тeachers» и вскоре, пьяный, заснул, примостив голову между прохладным стеклом окна и креслом.
Москва. Как много в этом звуке
О Москве почти нет хорошей литературы. О Петербурге, Париже есть, а о Москве – нет. Кроме, может быть, «Романа с кокаином». Москва – важный элемент справочников, рейтингов и мыслей людей, сюда приезжающих. Город скрытых неудачников и успешных одиночек. Нерастраченных несбыточных надежд. Я шел по Москве. Где-то в районе Садового кольца, вдоль безлюдного тротуара. Было полпятого утра – автобус из Шереметьево высадил меня возле Речного вокзала. На нанятой машине я подъехал к центру и решил дальше просто идти. Шел, как все. Но был как я. Как и все, впрочем.
Земля – какое странное образование в черном безвоздушном пространстве, где нет жизни на триллионы километров вокруг! А на земном шаре – есть. Запахи, листья, вода, любовь, сны, мечты. В каком возрасте мы, земляне? Раннем, зрелом, в старости? Сколько нам еще жить, а? Я-то вроде как жив сейчас. Но мертвое во мне шевельнулось, дышит, смотрит, оглядывается.
Было светло и прохладно. Город полит то ли поливочными машинами, то ли дождем. В одной из луж сидел пьяный бомж в ватнике с оторванным воротом и в бейсболке с надписью «Босс». Он пробовал, шевеля руками и ногами, танцевать в луже. Какой танец он вспоминал? Камаринского, вальс, рок-н-ролл? Бомжу было тяжело и лень, и он хмуро, опустив грязную волосатую голову, что-то бормочуще сам себе запел. Знает ли он, этот танцующий человек, зачем дышит здесь, на этом земном шаре? Зачем течет в нем кровь и бьется, впрыскивая кислород в мозг, сердце? Спилась ли его живущая в солнечном сплетении душа или, молодая и невредимая, танцует сейчас вместе с ним?
Я тоже был пьян. Прихлебывал, останавливаясь, из горлышка «Тeachers». Курил. Мне было неплохо. Хотя знал, что умру. И не знал, будут ли у меня дети. Жаль, что только не люблю никого. Интересное дело: ты можешь сказать, например, что ненавидишь жизнь – и тебе поверят. Но если ты сообщишь, что не любишь вообще никого, никогда – все решат, что ты последняя сволочь. Или врешь. Любовь, выходит, главнее жизни. Да. Да? Но с жизнью почему-то расставаться тяжелее, чем с ней. Почему-то. Если бы приговоренному к смерти вдруг объявили, что его милуют – но с одним условием: он никогда не будет любить мать, отца, страну, Бога, женщину, сына, кошку, закат – он бы все равно ухватился руками за жизнь. Вы бы ухватились?
Что бы ты выбрал: жизнь или любовь?
А?
Ну да… правильно. Но я знаю – точно знаю – при каких условиях ты все-таки выбрал бы смерть вместо смерти любви. При одном условии.
Вот при каком: если бы в тот список смертей любви включили бы и слово «себя».
Напоминаю. И привожу весь список снова:
Если бы приговоренному к смерти вдруг объявили, что его милуют – но с одним условием: он никогда не будет любить мать, отца, страну, Бога, женщину, сына, кошку, закат, СЕБЯ – он бы не ухватился руками за жизнь. Только придурок или сумасшедший мог бы ухватиться. Или тот, кто бы решил, что его обманывают.
Но тот, кто знает, что обман абсолютно точно невозможен – не ухватился бы.
Да.
Да?
А вы?
Пришла пора перестать быть нейтральным. Или сдыхать, или жить. Серьезные мысли, не так ли? Но и они вызывают усмешку. Чтобы жить, нужно хотеть жить. Подыхать – это тоже нужно хотеть. А я бреду в середине.
Крик
Из пьесы Фарида Нагима «Крик слона»
СЦЕНА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. ДАЧА.
Кухня на даче в Переделкино. Полумрак. На столе лежит пачка «Беломора». Анвар включает радио на магнитофоне. Достает из кармана пакетик с анашей, вытряхивает табак из папиросы и набирает травки. Закуривает. Сидит напряженный, распираемый изнутри воздухом. Выпускает дым из ноздрей, потом изо рта. Все это он проделывает под музыку, пританцовывая. Даже дым выпускает ритмично. Докурив до половины, аккуратно, не сминая, тушит папиросу. Берет два стула и ставит их рядом. Садится на один из них лицом в зал, по-детски положив ладони на колени.
АНВАР. Всегда, когда мне плохо, я пишу тебе письма. (Смотрит на пустой стул.) Здравствуй, моя самая любимая девушка на земле! Нет, не так. Здравствуй, моя самая любимая девушка на земле, которой еще нет у меня! У меня все хорошо. Однажды… Там, на юге Советского Союза, в разбомбленном доме я увидел паучка на паутинке. Он спокойно ткал свою паутинку, будто мог склеить ею разваливающиеся глыбы дома, в котором он живет. (Смотрит на пустой стул.) Какие у тебя длинные, золотистые волосы, пушистые, как борода у Бога… (Смотрит на стул.) Хорошо, что у тебя такие темные и короткие волосы, ты похожа на мальчика… Теперь я знаю, каким мне нужно быть. Я теперь не буду во время этого шептать тебе на ухо. Знаешь, как это раздражает или смешит?! И невозможно сосредоточиться! И потом, в этом шептании есть что-то лицемерное. Если бы ты иногда открывала глаза – ты бы заметила, как много масок у мужского лица. Он обещает тебе золотые горы, будто это его обязанность – осыпать тебя золотом, но сразу после этого он кончается и частенько жалеет о сказанном. А ты же чувствуешь себя использованной, хотя ты тоже пользовалась. Ты чувствуешь, что с тобой сделали что-то нехорошее, хотя ты сама в этом участвовала, и даже если тебе было хорошо, и ты обнимаешь своего мужчину, любя и жалея его – маленького, уставшего, беззащитно всхлипывающего, наговорившего тебе кучу чепухи. Все равно… Представляешь, я чувствовал иногда, что на мне маска, гримаса женщины – жалеющей самое себя, слегка презирающей мужчин и восхищенной своим великим терпением… Неплохая маска, правда? (Вспоминает что-то.) Мы с тобой будем гулять по Москве. (Сглатывает слюну, оглядывается.) Знаешь, как я люблю гулять по Москве и пить вино на жестяных крышах. Ты не боишься высоты? (Оглядывается.) Пить хочу. Не обращай внимания, это сушняк. (Встает, берет чайник и долго пьет из горлышка. Когда перестает пить – он трезвеет и с холодной насмешкой смотрит на стул.) Весной, после Пасхи, мы с женой любили бродить по Москве. Садились на развалистые скамьи, пили вино, смотрели на людей и шли дальше, смотрели на дома и их крыши, освещенные красными лучами. Я ее целовал. Шутил, был такой остроумный, она восхищалась мною. Мы сели на скамью в парке. В этом парке вырубили все деревья, торчали одни пеньки. Вдруг она что-то сказала, я посмотрел на ее лицо сбоку, и мне стало странно, что я с нею. Будто со мною рядом незнакомая женщина. Она меня знает, а я ее нет, и я ей что-то должен. Мне захотелось встать и уйти. Странно, думал я, это лицо – лицо какой-то женщины – лицо моей жены. Я испугался пройти с чужой женщиной мимо себя настоящего – бредущего куда-то или одиноко стоящего на углу и наблюдающего за человеком с женщиной. Я часто не узнавал так свою жену. Она, наверное, что-то читала в моих глазах. Потом я сидел на этой самой скамье с другими женщинами и видел, что место рядом со мною все-таки пусто. И мучился потом: где-то бродит в этом огромном мире та душа, с которой моей душе не было бы так… Да и есть ли она?!
Встает, отходит к окну и смотрит на небо.
Небо пустое. Уже которую неделю нет солнца. Солнца нет. Пустое небо и вечные снега.
Подходит к стульям. Смотрит на тот, с которым разговаривал. Отклоняет и роняет его на пол.
Анвар? (Оглядывается.) Где ты? (Оглядывается.) Нет его.
Роняет стул, на котором сидел.
Нет меня.
Тихо звучит музыка. Стук в дверь.
Зачем я есть? Признак определения жизни – любовь. Без веры в то, что кто-то тебя любит, любил или хотя бы полюбит позже, жизни не бывает. Сначала ты ребенком ощущаешь любовь родителей, а потом уже начинаешь отвечать. Любить первым обычно начинает тот, кого раньше кто-то любил или любит сейчас. И ты, впустив в себя его чувство, будешь рано или поздно отдавать его другим.
Но без первичной любви к тебе ничего не будет! Не может человек, вообще никогда не испытав к себе любви, вдруг начать ее отдавать. Откуда ей вообще тогда взяться в нем? Нет. Ему надо показывать дорогу. Поэтому мы не можем быть созданы без первоначальной любви. Без чьей-то бескорыстной любви. Поэтому Бог, если он нас сотворил, должен был любить нас. Хотя бы тогда, перед тем как создать и в момент создания – любить. Он был первым, кто влил в нас это чувство.
А если это – исчезнет? Если Бог – исчезнет? Даже мертвых любят, что же говорить о живых, которым любовь необходима, как воздух и солнечный свет, как трава для оленей, как кости для собак?
Мальчиком восьми лет, – в это время я ходил во второй класс, – я помню, как однажды мягко вздрогнул, лежа вечером в своей комнате в постели в бабушкиной квартире, от проникновения в меня дикого факела смысла, который осветил казематы моих мыслей – и вот, этот трепещущий свет (будто поочередно зажигались лампы на темном потолке) осветил меня чередой вопросов, от которых стало ярко и страшно, восторженно и серьезно. Я вскочил с постели, подошел к большому трюмо и заглянул в темное, выше меня ростом зеркало. И принялся беззвучно, словно в полутьме сознания, пыльное зеркало спрашивать: «Кто это? Что это? Это – я?! Зачем я здесь? Почему именно я получился вот такой, с такими глазами, с такими волосами, с таким характером? И что же это такое – я?» Смотрел на свое тело, глаза, ноздри, губы и все время гулко, почти что плача, не в силах ответить на свой вопрос, спрашивал того, кто был в пыльной темноте, передо мной: это – я?! Я? Я? Я?
Я тогда чувствовал, как невидимая волна поднимает меня куда-то вверх, и ощущал нечто страшноватое, но волнующее и значительное – да… в те мгновения я как-то точно, до дрожи верно ощущал присутствие в себе собственного тела и… и… может быть, тогда впервые колыхнулась и дала о себе знать моя спрятанная где-то внутри душа. Я остро ощущал свою жизнь тогда, в восьмилетнем возрасте – это я помню отчетливо, словно находился в толще воды тропического моря и видел рифы и плавающие рыбы вокруг. Я был невероятно живым, и тут же, рядом с этим своим ощущением жизни, я боялся себя мертвого…
Когда же это впервые возникло?
Однажды в нашем уютном городке, где я родился, хоронили умершего человека. Звучала за окном музыка: трагический, медленный и часто по-пьяному покачивающийся марш. Находясь в этот час дома – движимый, вероятно, силой толкающего в спину ветра ужаса, – я вдруг оказывался у подоконника, всего в сантиметре от прозрачных кружевных гардин и оконного стекла; стоял, не шевелясь и не смея смотреть вниз на улицу – то есть на смерть. Но все же не выдержал и быстро взглянул, отодвинув гардину, вниз – и тут же наткнулся на выносимый из подъезда гроб, в котором лежал одетый в темный костюм мертвый человек. Странно и совсем не страшно – лишь немного жутковато – было представить, что и я когда-нибудь буду так же лежать в гробу. Так далека от меня была в те годы смерть.
Почему-то мне кажется, что в эти мгновения детства, когда я стоял в полутьме перед пыльным зеркалом и спрашивал, кто такой этот находящийся там, внутри, «я», я не думал и не помнил вообще о любви.
Господи! Сделай так, чтобы любовь была все-таки главным смыслом жизни, и за ней не таилось что-то ЕЩЕ, неведомое, чтобы не было это ВТОРОЕ бездушное, и страшное, страшное!!!
Если случается что-то с твоими родными и в тебя влетает благая или страшная весть во сне или в реальности – значит, ты помнишь и знаешь о том, что между вами все еще есть человеческая связь. Это – как телефонная линия, как электронные кабели Интернета, по которым ежесекундно движутся, толкаясь и сталкиваясь, разбиваясь в катастрофах и проскальзывая мимо друг друга, миллиарды человеческих слов, мыслей и признаний, напоминающих бегущую по капиллярам живого человека кровь. И так может случиться, что ты вдруг забудешь, что есть телефон, Интернет, СМС-сообщения, что вообще существует в мире всякая связь – ты просто бессвязно передвигаешься по мыслям и улицам, не зная, что тебе могут позвонить. И когда вдруг раздается этот звонок, – ты останавливаешься, вздрагиваешь и тут же оглядываешься, и становишься на какое-то время зрячим: твоя слепота вмиг исчезает. Становится виден почти весь пройденный тобой путь. А если потом опять повернуться и посмотреть вперед, то можно ясно увидеть пугающе близкий горизонт.
Удобная жизнь
В день прилета из Хургады, едва добравшись домой, я сразу завалился спать. Проснулся вечером, в шесть часов. Квартира та же. Стол, стулья, кресла, часы, окно и за ним на подоконнике медленно ходит голубь. Тикают часы.
Я вымылся под душем, затолкал вещи в корзину для стирки, заварил кофе, собрался закурить, но смял сигарету в чайном блюдце. Мигал автоответчик. Пролистав сообщения, нашел поздравление Анны: «С днем рождения! Звонила тебе на мобильный, но ты не отвечал. Я уже на Кипре. А ты как?» Голос отца: «Саша, ты дома? С днем рождения, сынок! Не болеешь? Ты куда-то пропал, передаю трубку маме, она немного приболела…» Сид: «Я тут недавно наткнулся на одну мысленцию, и она подцепила меня вот каким соображением…» Звонки с работы: «Ты где?» А позже несколько пустых сообщений, в которых были слышны лишь гудки и молчал неслышный вопрос.
Все-таки мир помнил меня, пока я путешествовал по благоустроенной пустыне на берегу Красного моря. Помнил, хотя я и плевал на него. Он зачем-то помнил меня – и я ощутил к нему благодарность. Несколько людей, звонивших мне – ведь это тоже мир. Как трое – уже церковь. Любая поездка вводит человека в состояние легкой эйфории, прилива сил. И еще успокоения. Как это уже не раз бывало, я почувствовал, что именно сейчас смогу наконец адаптироваться к этой не очень талантливой жизни. Ну что ж, мир не гениален. Но он не отвратителен до конца. Что-то еще осталось.
Я пересчитал свои деньги. Даже если не сильно экономить, можно прожить месяц-полтора. При этом заводить романы с женщинами и ходить в хорошие кафе и клубы. А можно на эти деньги слетать на пару недель в другое полушарие. Что ж, придумаем, как распорядиться купюрами. Пора заканчивать писать «Адаптацию». Герой адаптируется – и точка. У него будет дом, работа, семья. И дети. Дети, говорят, меняют сознание человека и примиряют его с действительностью. Ты начинаешь взращивать человека, которому рано или поздно тоже предстоит войти в конфликт с миром. Потом он тоже родит своего ребенка – и так без конца… Лучше жить ради денег и семьи, как бандиты, чем жить мертвым.
Со старой работой все ясно. За месяц надо найти новую. Надо позвонить Тищику – он единственный, кто хоть и с насмешкой, но смотрел на мир как я. При мыслях о работе нахлынул легкий туман, и я отошел от них, плюхнулся на диван. Включил телевизор. Красивая ведущая вещала что-то о мировой политике. Когда-то она была маленькой, сидела девочкой на горшке, росла из него цветком, как растение. Не знала, что дорастет до этих грудей и бедер, что с ней будут спать мужчины, что она заработает много денег, на которые купит квартиру, в которой потом умрет. Боже, я все-таки болен! Я стал быстро переключать каналы, и везде чудился рокот моторов взлетающих самолетов, которые скоро полетят куда-то бомбить. На одном из фильмов я остановился – «Сны Аризоны», я его когда-то очень любил. Теперь я не мог его смотреть – было невыносимо видеть то, чего никогда в жизни не будет. В сериалах больше правды, не так ли?
Выключил телевизор, включил музыкальный центр. Вспышка раздражения к прежде любимым мелодиям прошлась по мне так, словно дом тряхнуло легкое землетрясение. Я поднялся, стал ходить взад-вперед по квартире. Попытался выйти на улицу – куда-нибудь, в магазин, например, за продуктами. Накупил чего-то. Машины на дороге урчали, словно я попал в обширный сумасшедший заповедник, где механические звуки специально включают на полную мощность, чтобы свести с ума все другие, немеханические устройства. Светофоры мигали зелеными и красными глазами. Звучно, с тихим лязгом моргали. Я вдруг ощутил, что все люди вокруг моргают, моргают. И я моргал. Сокращались сосуды, вены, струилась кровь. По пути из магазина я на ходу откусывал от килограммовой пачки мороженое – словно хотел утихомирить, задобрить кого-то внутри себя. Так дети откусывают по дороге из школы домой от свежей хрустящей булки…
Вошел домой, бросил пакеты на стол.
Увидел, что мигает автоответчик.
Мне кто-то звонил?!