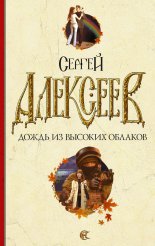Адаптация Былинский Валерий
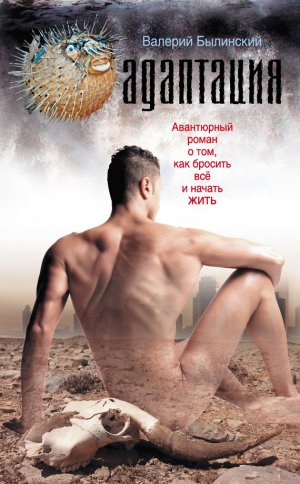
Бросился к телефону, как к источнику, бьющему из горячего песка. Сел рядом на корточки, нажал кнопку. Послышались звуки улицы, шаги… кто-то идет. Вроде бы каблуки. Женщина? Да хоть бы андроид. Кто же? Молчит. Наконец положили трубку. Гудки. Не стала говорить. Какая к черту любовь. Был бы просто человек, человек. Дышал бы рядом и был. Я отправился на кухню, стал разбирать пакеты с едой. Почему я не купил алкоголь? К черту. Выйти второй раз из дома на улицу меня заставит только война. Может, снова заснуть? Но я выспался так, что тошнит мозги. Вода… Вода иногда смывает дерьмо, в том числе и с мыслей. Слышно было, как в кухне, шурша, распрямляется пакет. Вошел, посмотрел на него. Распрямляющийся полиэтиленовый пакет был похож на распускающийся цветок. Разделся догола, пошел в ванную. По пути услышал телефонный звонок. Не спеша вернулся.
– Я звонила тебе на мобильник, ты не отвечал, – это была Инна.
Она шла по улице, цокала каблуками и говорила со мной по мобильному телефону. Я и не думал, что это могла быть Инна, я совсем забыл о ней.
– Извини, забыла поздравить тебя с днем рождения…
– Да ничего. Я потерял мобильник в Египте, так что меня никто не поздравил.
– Да? Купи… (она назвала какую-то модель, но я не расслышал) как у меня. Только у меня женский вариант, а есть еще такой же модели, но только мужской, понимаешь? Я видела. Мой похож на белую птицу, а твой, мужской – на черную. Моя подруга подарила такой на день рождения своему другу. Слушай…
Что за чушь она говорит?
– Да…
– Я подумала тут…
– Ага…
– Я понимаю, что мы расстались и все такое прочее… Но… У тебя ничего не изменилось?
– В смысле?
– Ну, ты никого не нашел, там, возле Пирамид? – голос Инны стал знакомо кокетливым, и в то же время она тяжело дышала – видно, что шла в толпе, спешила.
– Нет.
– Ну, тогда… – сказала она, – у меня тоже никого. А пока у нас нет никого, почему бы нам не встречаться? Так, иногда, как думаешь?
– Иногда?
– Саш, ты там не злишься, эй?
– Да нет, просто переспрашиваю.
– Ну да, по обоюдному согласию, когда захотим. Зачем же нам оставаться одними в тот период, когда мы ищем кого-то?
– Что ж, да, логично…
– Это негуманно. Ты меня слышишь?
– Негуманно, согласен.
– Тем более что будет удобно: не надо снова привыкать друг к другу, ухаживать, искать близости…
– Да, да, конечно, очень удобно.
– Раз мы уж есть такие, то надо это использовать, Саша. Ты слушаешь?
– Да.
– И что?
– Удобоваримо.
– Что? Ты согласен? Ну тогда… приезжай ко мне. Знаешь, прямо сейчас. Знаешь, я тут была в салоне, машину выбирала. Оу, ты знаешь, я ведь машину себе покупаю! Ты водить умеешь?
– Вроде. Правда, не водил уже несколько лет.
– Ну ничего, меня поучишь. Правда, они сказали, что модель, которую я хочу купить, будет только через две недели. Тут очередь, и машины привозят из Кореи. Ты слышишь?
– Да.
– Ну так вот… Права-то у тебя сохранились?
– Конечно.
– Слушай, Саш, ты приедешь?
– А ты точно так думаешь? – сказал я.
– О чем?
– О том, что нам нужно снова вместе.
– Ну конечно точно! – она засмеялась. – Если при взаимном желании, то почему нет? Да и к тому же, пойми, это временно. И к тому же при взаимном желании. Ты слышишь?
– Слышу, – сказал я. – Почему нет. Конечно, приеду.
По пути я купил новый мобильный телефон. Сказал в магазине, что вот, мол, слышал, будто у какой-то новой модели существует женский вариант и мужской, – и мне тут же с улыбкой его вынесли. Сообщили, что эта модель подходит к новой марке автомобиля, но я забыл, какой. Телефон был с фотоаппаратом, с кучей разных технических приспособлений, смысл которых я не запомнил.
С Инной мы поцеловались в коридоре ее новой однокомнатной квартиры, купленной в кредит.
Ежемесячно Инна выплачивает банку за квартиру $800. Пластиковые окна фирмы «Kaleva». Два телевизора: большой с плазменным экраном в гостиной и второй, маленький, прилепленный кронштейном к стене кухни. На столе стоит открытый ноутбук за 35 тысяч рублей. Сервировочный столик и раскладной диван, купленный в кредит. В шкафу тефлоновая посуда, коричневый тростниковый сахар, в холодильнике морепродукты, нежирные биойогурты, свежевыжатые соки. Скоро под ее подъездом появится серебристый «Hyundai Getz», который Инна тоже купит в кредит. Квартира перейдет в ее собственность лет через десять – Инна полагает, что будет зарабатывать больше, чем сейчас, и сможет выплатить кредит банку досрочно. Картина в стиле корреспондента «Gardian» Ника Уолша, который, защищая Россию от нападок коллег (они, мол, слишком часто критикуют русских за их азиатскую медлительность и любовь к тоталитаризму), написал в размноженной в Интернете статье: «Жители России безвозвратно впали в любовь к тому, что здесь называют некрасивым словом „denghi“. Они навсегда полюбили мобильность и блага, которые дает людям глобальный мир».
Инна говорила мне что-то о своих новостях, о том, что долго не высыпалась по утрам, вставая на работу, потому что «сова» и поэтому она записалась на вечерний фитнес, чтобы приходить домой усталой и засыпать мгновенно. Расспрашивала о Египте. Я что-то отвечал. Интересовалась, привез ли я фотографии, я ответил, что нет. Вскоре она принялась жарить рыбное филе.
– Видишь, специально для тебя купила палтус, – говорила Инна с улыбкой. Она была в коротком махровом белом халате. Наблюдала, как я ем рыбу и запиваю ее болгарским белым вином. Сообщила, что пообедала на работе и не хочет есть. Но все-таки выпила со мной бокал вина и откусила раза три яблоко.
– Ну как, вкусно?
– Оргазм желудка, – кивал я с улыбкой. – Знаешь, у болгар есть такая поговорка: оргазм желудка.
Во мне медленно плыли мысли о том, не зря ли я приехал и не ведет ли это все к знакомой пустоте. Я знал, конечно, что у нас будет сегодня хороший, крепкий и обоим знакомый секс. Ее уютное, спортивное тело, как и раньше, возбудит меня.
Я доел рыбу.
– Будешь чай?
Когда Инна проходила мимо, мои руки медленно остановили ее – щупальца подводного батискафа на глубине, – обняли за бедра и посадили к себе на колени. Затем мои пальцы погладили гладкие мышцы ее ног. Ее ноги сжали мою ладонь. Еще один поцелуй, еще.
– Подожди… – сказала она, поднялась и вышла из кухни. По шелестящим звукам из комнаты я понял, что Инна достала упаковку «Фарматекс» и вводит в себя предохраняющий от беременности крем. Она всегда делала это раньше, когда мы жили вместе.
Ее завернутая в халат фигура появилась на пороге кухни.
– Скажи, а у тебя точно ничего не было? – прищурив глаза, спросила она.
Я знал, что Инна тщательно следит за собой. И если она решилась на секс со мной – значит, она тщательно предохранялась с другими мужчинами или прошла недавно медицинский осмотр. Аннет рассказывала мне, что у нее полтора года не было мужчины – и я ей верил. Верил и Анне, что являюсь ее единственным любовником. И пожалуй, сейчас я верил, что у меня ничего не было. Но если бы я стал это говорить Инне, она бы не поверила в мою веру.
В тот вечер я остался у нее ночевать.
Инна сказала, что завтра возьмет на работе отгул, которых у нее накопилось целых два, потому что в прошлом месяце она много трудилась сверхурочно. У нас был здоровый, крепкий и обоим хорошо знакомый секс. Красивая сильная нога Инны лежала на мне, когда я засыпал.
Ад
«Если взять щепотку коричневой земли с безжизненного плато на берегу, – говорит Рыба-шар, – или если зачерпнуть тонну, километр этой земли – и подбросить ее вверх, подуть на нее, смешать, перемешать, заорать на нее, топнуть ногой, – ничего не случится. Прекрасные линии коралловых рифов не возникнут. Хоть миллиард лет подбрасывай землю. Хочешь знать, что бывает в аду для тех, кто считает, что наша Земля возникла из случайного завихрения пыли? Души этих людей сидят на корточках шевелящимися точками в безжизненной пустыне и пытаются – подбрасывая руками над собой щепотки сухой земли, перетирая ее, переминая, смачивая ее слюной – создать Красное море. „Ну, что? – кричат им сверху. – Вы говорили, что все возникло случайно, из какой-то космической вспышки? Ну так давайте, докажите свою теорию, докажите! Сидите и подбрасывайте эти комки пыли, пока не докажете свою правоту. Зачерпывайте ладонями серую коричневую землю, комкайте ее, мните, швыряйте вверх, колдуйте над ней. Если у вас получится хоть что-то микроскопически прекрасное, мы вас отпустим. А пока сидите в аду. Сидите и подбрасывайте“.
«Но это еще не настоящий ад», – сказала рыба.
«Что? А какой настоящий?»
«Настоящий? Понимаешь, подбрасывая землю в пустыне, ты все-таки живешь надеждой. Понимаешь? Глупой, несбыточной – но надеждой. Но самое страшное, когда надежда исчезает. Совсем. Абсолютно. Навсегда».
– О чем ты думаешь? – спросила Инна, когда я долго молчал, сидя вместе с ней за кухонным столом. Мы завтракали, она приготовила омлет с сыром и зеленью: было вкусно.
– Так, сон странный приснился.
– О чем?
– Об аде.
– О ком?
– Ну, об аду… не знаю, как правильно сказать.
Она некоторое время молчала, сжав губы.
– Знаешь, у моей подруги друг работает психотерапевтом. Она и познакомилась с ним, когда ходила на прием. Он хорошо знает свое дело. Его зовут Василий, кажется. Хочешь, я договорюсь и он тебя примет?
– Можно. Только мне кажется, Василий не поможет.
– Нужно использовать все возможности.
– Знаешь, я лучше почитаю какую-нибудь книгу. Хорошая книга, знаешь, иногда может заменить психотерапевта.
– Видимо, в последнее время ты перестал читать.
– Ты думаешь, я действительно болен?
– У тебя депрессия. Так бывает у многих людей, живущих в больших городах. У меня тоже была депрессия. Но я ее вылечила.
– Да? Интересно, как?
– Ну, во-первых, я ходила на прием к врачу. Нет, не к Василию, к другому… Прошла курс психоразгрузочной терапии. Таблетки кое-какие пила, там много есть всяких: прозак, паксил. В конце концов я просто выключила свою депрессию.
Я подумал, что Василий, вероятно, был ее последним половым партнером, с которым она, конечно, соблюдала тщательную половую гигиену и правила обоюдного невмешательства в личную жизнь. Меня это не расстраивало и не удивляло. Я знал, что Инна, как она часто заявляла, не может быть долго одна. Я догадывался, что, скорее всего, я был для нее из всех мужчин в некотором роде больше, чем просто один. Сейчас мне это немного льстило. Позже, я знал, мне станет все равно.
– …дело в том, что я представила свою болезнь в виде лампочки, – продолжала Инна. – Обычной электрической лампочки.
– Вот как? Интересно…
Я настолько улетел сейчас от нее в своих мыслях, что мысль о лампочке вспыхнула в моей голове, словно словосочетание «лампочка Ильича». Но я вернулся в себя:
– Твоя депрессия была похожа на светящую лампочку?
– Голую такую, некрасивую, она светила неприятно и прямо в глаза. Знаешь, бывают такие в плацкартных вагонах.
– Здорово ты описала. Я так и вижу твою болезнь. И свою тоже.
– Так вот, после курса лечения я просто подошла к лампочке поближе, – а она светила, светила так, что мутилось в глазах. Я смогла протянуть руку и на ощупь прикрутила ее. Лампочка погасла – и сразу стало… не то чтобы темно, а неярко. Я успокоилась.
– Понимаю. Отлично понимаю. Неярко – хорошо сказано.
«Хороший способ, – подумал я. – Только зачем ходить на прием к психотерапевту, лучше сразу прикрутить эту лампочку. Легко и просто».
– Знать бы, как выключить свою лампочку, – сказал я.
– Для этого существует психотерапевтическое лечение, – с видом взрослого, объясняющем правила устройства мира ребенку, ответила Инна.
– Эй, – сказал я ей через некоторое время.
Она внимательно посмотрела на меня на фоне бесшумно работающего телевизора.
– Я ведь не изменился, Инна. И вряд ли изменюсь в последнее время. Нас, как горбатых, могила исправит.
– Смешно, – она усмехнулась и наклонила голову, отвернувшись. – Ты стал говорить штампами.
– Да? Я и не заметил. Видно, все-таки меняюсь.
– Знаешь, ты всегда был мне интересен тем, что непохож на меня и моих знакомых, – сказала она. И добавила: – Не меняйся.
– Я помню, как ты говорила, что ставила на меня как на лошадь на скачках и проиграла.
– Я такое говорила? – Инна искренне удивилась.
– И о том, что ты рассталась из-за меня с каким-то англичанином, с которым переписывалась по Интернету.
– Ну, это вообще прошлодавняя история.
– И еще я не думаю, что я есть твое потерянное и найденное теперь чудо.
Инна наклонила голову, выжидая, что я скажу дальше.
– А я – твое, – закончил я.
– Это я уж точно не говорила, – усмехнулась Инна.
– Конечно, это говорила не ты.
– Знаешь, для жизни в браке ты, Саша, невозможен, – сказала она, глядя мне в глаза. – А для временного романа с таким, как ты – вполне ничего. Слушай, пойдем куда-нибудь вместе сегодня вечером?
– Я хочу остаться с собой.
– И что ты будешь вечером делать с собой?
– Лежать, пялиться в телевизор.
– Ну хорошо, Сашка. Тебе никто не мешает лежать и пялиться в телевизор у себя дома. А со мной ты будешь встречаться тогда, когда захочешь, как мы договорились. О’кей? Кстати, как твоя работа на ТВ?
– Послал ее на хрен.
– Ох, как грозно… И что собираешься делать?
– Ничего.
– А жить на что?
– Пока есть на что.
– А потом?
– Ты собираешься за меня замуж?
– Почему ты спрашиваешь?
– Тогда какая тебе разница, на что я буду жить?
– Ладно… От тебя никто ничего и не требует. Не хочешь вечером пойти со мной на «Матрицу», не надо. Схожу с подругой…
– Сходи с Василием.
– Боже, как ты меня достал, – незлобно, но крайне устало сказала Инна, встала, взяла одной рукой себя – будто простудилась – за горло, и отправилась, не убирая руку, в ванную.
– Если бы мужчины меньше говорили, а только делали… – услышал я ее голос из-за двери ванной. – Делали… Господи, зачем ты дал им языки?
– Знаешь, чем мертвые отличаются от живых? – спросит меня через быстро скакнувшее время мужчина моих лет по имени Петр. Был солнечный вечер, мы сидели на лавочке во дворе, в сентябре, рядом прохаживались голуби, мы тепло разговаривали.
– Нет, – сказал я.
– Только одним. У живых есть право на покаяние. А у мертвых его нет. В остальном они не особенно отличаются друг от друга.
– Только этим?
– Да.
– Но тогда выходит, что я вовсе не мертвый?
Петр задумчиво кивнул, разглядывая землю.
– «Матрица» одновременно выходит в нескольких городах: в Токио, Нью-Йорке, Париже и у нас в Москве, – тараторила через пять минут Инна, выходя из ванной. – Я читала, это революционный фильм, может, посмотрим? Ты же знаешь, Сашуль, я не могу ходить в кино и театры с кем попало и тем более одна. В конце концов, ты же писатель, может, тебе интересно будет?
Русский Бог
Вы никогда не задумывались, каков портрет нашего Бога? Все люди, как писал философский аферист Ошо (взявший тоже у кого-то эту мысль), стоят вокруг любого явления мира, словно вокруг слона – и каждый видит какую-то особенную его часть: его хобот, уши, ноги, яйца, хвост. И каждый думает, что перед ним находится весь слон. Так и наш Бог – какая-то часть общего, большого Бога. Как он выглядит? Стояние и ожидание. Мучительное ощущение незнания и дискомфорт. Полумрак, отсвет свечей. Теплый серебряный блеск баков со святой водой. Ощущение величия и значимости церковнославянских текстов, которые не понимаешь так же, как не понимал в юности английских текстов рок-групп – но все-таки нырял вглубь или взмывал по лестнице в небо, когда слышал эти песни. Смиренный и седоватый, молчаливый, хмурый. Ему лет под пятьдесят. Одет неказисто, но опрятно, в темное. Он и в алкоголиках, лежащих в блевотине, и в выходящих из черных немецких машин плотных мужчинах с глазами очеловечившихся свиней. Он в легких снежных обвалах и селях совести, заставляющих молча, хмуро опустив голову, что-то вдруг не сделать, хотя до этого собирался.
«Это тоже у русских исчезнет», – говорила Аннет.
Исчезало не раз, но каким-то чудом возвращалось, словно и не исчезало никогда. Как пружина, распрямляющаяся и сжимающаяся вновь и вновь. Как сверкающий под дождем на солнце, но при этом гниющий на свалке матрас, на котором спят бомжи. Русский Бог – он у нас такой. Проститутки в него тоже верят. Кресты на цепях величиной с чешуйчатую кобру, и крестики, болтающиеся на черной сдвоенной нитке. Красновато-коричневого цвета – как запекшаяся кровь или глина. Как ошметки женских менструаций. Всегда грязноватый и ржавый, неновый и неотреставрированный – наш Бог. Церкви, где он прописан, блестят либо девственной чистотой, либо отвратительной азиатской роскошью. Внутри все начищено, вымыто, понатыкано со смиренной тщательностью – а неподалеку за воротами сквернословят прохожие, плюют и сморкаются в ноги. Он как желтоватые страницы книги, выпущенной лет сорок назад, содержание которой кажется наивным, но которую ты все-таки читаешь, потому что чувствуешь в ней трудную доброту. Был модный, сегодня выходит из моды. Занимает свою уважаемую нишу, как сказали бы в организациях защиты прав Бога. Стыдный. Сильный. Умеет драться, может одним ударом прибить. А может пьяно заплакать, махнуть на все рукой, подставить для ударов висок и ребра. Если бы его вдруг поймали, поставили к стенке и забили бы бейсбольными битами до смерти, он бы все равно выжил, как придавленная оса. Нашлись бы люди, которые бы к нему отнеслись как мать, которой сделали лоботомию и убедили, что ей нельзя любить своего ребенка для его же благополучия – но она темными ночами при свете ночника молилась бы все-таки в пустую стену шепотом, чтобы ее никто не услышал, и говорила бы слова любви к своему ребенку, а потом бы засыпала счастливая и, проснувшись наутро, шла бы в мир, не вспоминая о ночном бдении – и так до следующего раза, до следующей ночи, когда инстинкт любви снова не возьмет верх. И так до тех пор, пока будут эти ночи, пока они не кончатся. А когда кончатся – тогда кончится все.
В следующее воскресенье в квартире Инны я смотрел на свое небритое лицо в зеркале ванной. Полчаса назад мне позвонил Гена Тищенко и сказал, что есть вакансия на новом канале, на котором работает его знакомый продюсер. Планируется создание передачи про социальное перевоплощение жителей России за последние десять – пятнадцать лет. Берется какой-то персонаж от студента до пенсионера – и рассказывает, как он изменился, как адаптировался к жизни, что ему нравится, а что нет. Будут обязательные рассказы и о звездах эстрады, кино, шоу-бизнеса, политики – как адаптировались к реальности VIP-персоны. Вполне в духе моего романа. Меня туда предполагают взять автором пилотных выпусков.
«Сейчас продюсер в отпуске, – сообщил Тищик, – поэтому собеседование состоится через неделю».
Ну что ж.
Еще Тищик добавил, что все это херня и ему лично вообще надоело работать. Мол, как-то все движется в пустоту. Нельзя работать за деньги, нужно, чтобы тебе их платили за что-то другое, главное, – пояснял он. А что это за главное – хрен его знает. Видимо, Гена входил в запой. Он был единственным из нашего коллектива, кто почти полностью разделял мои взгляды насчет «Красной шапочки». Он мне, кстати, сказал, что программа без меня вполне процветает, но руководство до сих пор избегает разговоров о ее бывшем авторе. Больше всех злилась Регина. Красная Шапочка несколько раз вспоминала, куря длинную сигарету: «А где это наш Саша Греков? Он так хорошо стэнд-апы для меня сочинял…»
«Жалко, что ты не успел ее отодрать, Сашка, – сказал Тищик, – по-моему, она этого хотела».
Он уже к чему-то прикладывался, разговаривая со мной, я это чувствовал. Но все же молодец, позаботился обо мне. Я поблагодарил его. Если честно, я тоже не хочу никуда идти работать – так я ему сказал. Но что делать, деньги ведь все равно кончаются.
Инна очень обрадовалась моему предполагаемому трудоустройству. Пожалуй, даже больше меня. Женщины всегда радуются в таких вопросах больше мужчин. Ну да. Все-таки хоть и временно, но я же жил с ней. Поэтому она и радовалась.
Жил?
Я разглядывал свое изображение в зеркале и думал: странно, что на фотографиях и на видеокадрах мы получаемся как-то цветней, чем в жизни. Урывками, тихими каплями памяти я вспоминал тот случай из детства, когда встал ночью с бабушкиной постели и смотрел в пыльное трюмо, пытаясь понять себя. Сейчас я ничего не ощущал: ни страшного, ни прекрасного, просто вяло рассматривал свое мятое лицо, в котором узнавал лишь глаза и думал: «И вот такой я стал? Вот это – ты?»
Инна постучала в дверь.
– Твой, – сказала она, протягивая мне вибрирующий мобильник.
Я взял телефон, нажал кнопку.
– Саша, – послышался негромкий сосредоточенный голос, в сдерживаемых интонациях которого я узнал брата.
– Борис? – удивился я. Брат мне редко звонил. – Привет. Что-то случилось?
– Да… Мама в больнице, ты знаешь?
– Нет… я не знал…
– Там плохо, в общем. Ты сможешь приехать?
– А что с ней?
– Да… Сначала был инсульт. Теперь инфаркт. Дела, в общем, неважные. Она плохо говорит, почти никого не узнает.
– Да ты что… А… Конечно, я приеду. Сейчас только позвоню отцу.
– Он дома?
– Должен быть. Ну, приезжай.
– Конечно.
– До свидания.
– Конечно, Боря, пока…
– От тебя можно позвонить? – повернулся я к Инне.
– Что-то случилось?
– Да.
– Да ладно, сынок, не езжай, – бодро говорил мне отец по телефону. – Я был у мамы в больнице, врач сказал, что ее скоро выпишут, в общем, на поправку пошла, у тебя ведь работа, сынок…
– Ничего, я ненадолго. Сейчас у меня есть время.
– Перерыв между съемками?
– Да…
– Ну ладно, тогда давай, буду очень рад. Родной ты мой, хороший. Ты точно можешь приехать?
– Да, да, папуля…
Я вернулся в ванную, закрылся, включил воду, сел на край ванны. «Черт возьми! – говорил я, утирая слезы рукой. – Черт возьми, суки, боже…» Влага лезла у меня из носа и из горла, словно я простудился. Я бормотал какое-то бессвязное месиво из восклицаний. Казалось, из меня, как из мясорубки, лезут перекрученные спазмами внутренности. «Вот и дождался», – говорил я себе. Потом заметил, что стою в ванной, и футболка на мне теплая и мокрая. Говорят, кровь тоже теплая. Я снял футболку. Затем вылез из ванной, дождался, пока все из меня вытечет, вытерся полотенцем насухо. Голова была влажная, будто я искупался в море. Глаза красные – но немного, только чуть-чуть. На губах соль. «Вот и дождался… – горячо говорилось во мне. А ты как хотел? Вечности?»
Выйдя из ванной, я сказал, что поеду сегодня к родителям. Видимо, с матерью совсем плохо. Инна с тревожной серьезностью смотрела на меня, ходила вокруг, когда я одевался, и говорила, что да, конечно же, нужно ехать. Спрашивала, не нужны ли мне деньги. Я сказал, что у меня достаточно. Спросила, полечу ли я на самолете или поеду на поезде. Может, брат или отец звонили мне в Египет, после того как я зарыл в песок свой телефон? Впрочем, голос отца, поздравивший меня на автоответчике, сообщил, что мама приболела – сейчас-то я вспомнил. Был час дня, поезд уходит с Курского в четыре с чем-то. Думаю, она не умрет за это время. Так?
Я предчувствовал почти все, что произойдет со мной позже. Знаешь, я не очень рациональный человек, мама. Но ты знала и чувствовала это, хотя сама в жизни совсем другая. Что-то есть в тебе такое, отчего ты очень чувствуешь меня.
Письмо к матери
Эти главы тоже не вошли в мой роман, а улетели наверх. Может, там, наверху, когда придет время, прочитают все прилетающие романы. Может быть. Я пишу эти письма к матери, которую мало знал, но которую как-то всегда очень чувствовал. Вероятно, чувствовать человека все-таки лучше, чем знать.
Я ехал в поезде, лежал на верхней купейной полке, смотрел, заложив руки за голову, в пластиковый вагонный потолок и писал это письмо. Я писал его так, как смотрят, усевшись в кресло в кинотеатре, незнакомый фильм. В купе кроме меня ехали пожилая чета и девочка, учившаяся в Москве и жившая в Харькове. Они пили чай, что-то ели. Муж и жена обсуждали современную политику, посмеиваясь. Девчонка иногда им улыбчиво поддакивала, но вскоре надела наушники и стала слушать музыку.
Ты, мама, никогда не была в моей памяти худой. А я был так страшно истощен в детстве, что стеснялся ходить на пляж до десятого класса. Ты шутливо смеялась надо мной: «Кощей Бессмертный… узник Бухенвальда… Давай, ешь иди…» У нас в доме всегда было полно вкусной еды – но я почему-то не любил есть. Было странно смотреть на фотографии из твоей юности, мамка, где ты была еще довольно стройной, хотя, как говорят мужчины, уже «в теле». Ты никогда не была худой с тех пор, как я стал помнить тебя. Ум в твоей голове был соткан из противоречий. Ты любила жизнь в ее прямом, солнечном проявлении, когда легко и празднично становится всем вокруг. Потом, когда твоя сестра и моя тетя Нина рассказала мне о вашем детстве, мама, я представил, какой ты была до моего рождения. Вы обе учились в первом классе трехэтажной школы, в поселке Игрень, и ваш класс располагался в подвальном этаже здания. Эта школа каким-то чудом сохранилась до наших дней, в ней и сейчас учатся нынешние, не советские, а уже украинские дети. Только бывший подвальный класс, где вы учились, забит каким-то строительным мусором. В майские вечера ты с сестрой бегала смотреть на курсантов из военного лагеря, что был разбит рядом с вашей школой, в парке. На этой траве, между этими деревьями, что растут здесь до сих пор. Сейчас мимо этих деревьев проходят люди в джинсах и в юбках, проезжают автомобили. А тогда на этой траве каждые субботу и воскресенье бил литаврами и звенел трубами военный оркестр, и рядом танцевали молодые парни и девушки, и ты, моя будущая мать, Алка, как звали тебя всю жизнь друзья и родные. Ты стояла рядом со своей сестрой Ниной, пучила полные губы, хмурилась с ухмылкой и вздергивала курносый нос. А потом вы, будто дурачась, тоже начинали танцевать друг с другом, кружились по траве и задыхались от юной радости с легкой примесью нестрашного детского стыда.
Позже, когда вы выросли, близкие и друзья разделили вас с сестрой по темпераменту и внешности. Нина с ее склонностью к худобе, диетам и практицизму стала «европейкой», а ты, любившая веселые компании, вкусно поесть, потанцевать и гульнуть, у которой холодильник дома закрывался только ногой, стала щедрой украинкой, умеющей любого знакомого и незнакомого человека приласкать, обругать, захохотать над ним и сочувственно для него заплакать. За год до начала войны ты, Алла, моя мать, мечтала, что подрастешь и влюбишься в такого же вот светловолосого красавца с кубиками на петлицах, в галифе и в фуражке, что танцует сейчас с улетающей от влюбленности в космос десятиклассницей. И тогда в твоей земной жизни, думала ты, наступит настоящая вселенная с вечными парадами, любовью, рыцарскими замками и постоянными путешествиями.
Ты любила бегать босиком по теплой южной земле и почти перелетала вместе с сестрой через забор летнего кинотеатра, чтобы без билета посмотреть кинофильм, что шел там каждый субботний вечер. Развалины этого кинотеатра до сих пор выступают из поросшей кустарниками земли. Если стать спиной к исчезнувшей танцплощадке и посмотреть вперед, можно за серебристыми тополями увидеть выбеленную солнцем реку Днепр, через которую летом 1941-го переправлялись, наступая на Киев, германские войска.
Вы с сестрой слышали в те дни, как летели через Днепр немецкие самолеты, как они бомбили Днепропетровск на левом берегу. А когда вы по приказу своей мамы забирались в погреб возле дома и из-под земли слушали гул самолетов и дальние разрывы бомб, мой одиннадцатилетний отец, твой будущий муж, сын ушедшего на фронт командира Красной армии, ехал по лесной дороге вместе с детьми других командиров в кузове полуторки, – их вывозили из пионерского лагеря под Одессой. Над лесом появился самолет. Он стал снижаться, летел все ниже и ниже, а потом стал стрелять короткими очередями из пулемета по машине. «Прыгайте, бегите в лес!» – крикнул сопровождающий детей лейтенант. Он и солдат-водитель стали помогать детям соскакивать с грузовика. Мой папа упал в кусты и стал, как притаившийся индейский разведчик, следить за самолетом и за стреляющим по нему из винтовки солдатом. В какой-то момент самолет снизился так низко, что папа вдруг встретился глазами с сидящим в кабине немецким летчиком. У немца было худое, обрамленное кожаным шлемом лицо, маленький нос и светлые глаза. «Он не улыбался, – рассказывал позже отец, – просто пристально смотрел на меня, словно заметил в траве какую-то бабочку и ее разглядывал». Покружив над оставленным на дороге грузовиком, продырявив несколькими пулеметными очередями кабину и кузов, самолет наконец улетел. «Топливо бережет…» – мрачно сплюнул лейтенант. Он и водитель-солдат с винтовкой пошли осматривать полуторку. На удивление машина завелась, все влезли в кузов и поехали дальше.
Позже мой брат, коллекционирующий оружие и знаки различия вермахта, надел перед отцом кожаный немецкий летный шлем образца 1939 года, взял в руки тяжелый черный пулемет с дырочками на дульном тормозе – «машиненгевер» – и сказал, позируя: «Ну как, па, похож я на того летчика, про которого ты нам с Сашкой рассказывал?» Отец удивленно засмеялся, как обычно, брызгая в смехе слюной, покачал насмешливо головой и хлопнул сына по плечу: «Ну дурак, большой ты взрослый дурак, где же ты взял-то все это?»
Вскоре после бомбежек немецкие войска, вооруженные «машиненгеверами», «машиненпистолями» и карабинами, войдут в город Днепропетровск, а моя мама вместе с сестрой первыми их увидят. Рано утром, повинуясь разливающейся в воздухе тяжелой, как ртуть, тревоге, обе девчонки, несмотря на приказ матери сидеть дома, выскочат на улицу и побегут по траве и пыли мимо пустого парка и танцевальной площадки на большую дорогу, ведущую между домами к Днепру. Они выбегут на обочину дороги, как раз когда покажутся первые грузовики с сидящими в них немецкими солдатами. Тут же на улицу стали выходить редкие люди: все молча, с зачарованным любопытством смотрели на въезжающую в город армию вермахта. Солдаты, сидящие в грузовиках, были в черной форме – это были войска СС. Самое удивительное, – то, что поразило тогда тебя, мама, – никто из эсэсовцев не повернул головы на глазеющих на них русских, они смотрели только перед собой, как бы в сторону воображаемой точки на горизонте, которая был видна им одним.
А потом, когда вы побежали обратно к дому с криком: «Немцы, немцы пришли!» – увидели жуткую картину, споткнулись в теплой пыли и замерли. На небольшой площади за дворами сгрудились в кучу десятка три раненых солдат Красной армии. Они были в грязных лохмотьях, окровавлены, кто-то из них опирался на винтовку, словно на палку. В одном из красноармейцев ты, мама, узнала танцующего год назад под деревьями курсанта, за которого хотела выйти замуж. Солдаты выглядели так, словно сбежали из ада, но обессилели и не могли идти дальше. Грязные, дряхлые, похожие на нищих, красноармейцы полуползли по земле, словно шли куда-то, но при этом только лишь копошились, ерзали, дрожали и оставались на месте. В их глазах колыхались – как отблески пламени у сидящих возле костра – безумие и потерянность, почти все они молчали и только двое или трое негромко постанывали. Жители поселка, пришедшие с дороги, где все еще бесконечно ехали и ехали на тот берег одетые в черную форму и пронизывающие взглядом горизонт солдаты СС, молча, с ужасом смотрели на советских солдат. И вдруг будто тихий выкрик или стон пролетел над их головами…
Суетясь и шикая друг на друга, люди стали хватать под мышки этих калек и оборванцев, затаскивать себе в дома, стирать тряпками, вениками и граблями с земли кровь, подбирать лохмотья одежды, а оставшиеся после красноармейцев три или четыре винтовки бросили в выгребную яму.
Напрасно жители опасались, что кто-то из оккупантов будет этих раненых солдат искать – шел второй месяц войны, Германия была уверена в победе. Некоторые из бойцов умерли от ран, но многие дожили, спрятанные в погребах, до возвращения советских войск, и, может быть, не все из них исчезли после Победы в послевоенных лагерях.
А потом была оккупация, во время которой менялось сознание и поведение немецких солдат. Офицеры пехотных частей, стоящие на постое в доме Аллы и Нины, все чаще разговаривали о конце Гитлера и войны, а когда в 43-м году к Днепропетровску приблизилась фронтовая канонада, немецкий лейтенант, сдружившийся с моей бабушкой, доверительно пожаловался ей: «Матка, что же нам с тобой делать, красные близко!» А она ему: «Герман, так то же мои красные!» – и засмеялась, а немец, обхватив руками голову, шарахнулся от нее: «Ох, матка, забыл…»
Когда вернулись советские войска, мама и сестра снова встречали их первыми. Влажной ночью обе они вместе с жителями поселка сидели в церкви, потому что немцы перед отступлением выгнали жителей из домов и подожгли пустые хаты из огнеметов. Алка с Нинкой выбежали ранним утром пописать, забрались в кусты – и вдруг увидели силуэты двоих советских солдат в касках и плащ-палатках, с автоматами с круглыми дисками в руках. Эти двое, прижав пальцы к губам, стали тихо спрашивать девчонок, далеко ли немцы. «Нет никого, никого!» – запрыгала Алка и чуть ли не заплясала на месте. «Тихо, никому не говорите, что мы здесь…» – улыбчиво попросили девочек сильные и высокие солдаты в касках, за одного из которых моя мать тут же снова захотела выйти замуж. Но вышла она замуж гораздо позже, за встреченного на улице послевоенного Днепропетровска высокого студента горного института, в темно-синей институтской форме с серебряными погонами. А тогда, в 43-м, Алка с Нинкой, едва вбежав в сонную и заполненную спящими людьми церковь, звонко закричали, словно ударили в колокол: «Наши пришли, наши, наши, наши!»
Те, кто приходит за нами
А после смерти – кто приходит за нами? Наши или чужие? И какие они, как выглядят? Мне часто вспоминается человек, что говорил со мной по телефону ночью, когда мне было одиноко и мучил кафельный холод самоубийства. Встретить бы этого пожилого собеседника сейчас, в накуренном кафе где-нибудь возле вокзального зала ожидания, подойти к нему и неожиданно – не видя до этого ни разу в жизни! – узнать именно его в согбенной фигуре, склонившейся над чашкой чая. Он внушил мне тогда своим хриплым покашливанием и уверенностью веру в то, что спасительное чудо обязательно найдется. Поговорить бы с ним об этом снова – теперь уже сидя за одним столом, глядя ему в лицо, спрашивая и отвечая.
Знаешь, в жизни, начиная с детства, к нам все время кто-то приходит, – наверняка скажет мне этот старик, выслушав мой рассказ про мать. – Это обычно свои, родные люди, они голубят нас, обнимают, лечат, защищают, а если приходят чужие, то мы стремимся побыстрее убежать от них к родным. Потом, во взрослой жизни, мы сами начинаем к кому-то приходить. Мы ищем своих и избегаем чужих, мучительно пытаемся разделять всех на приходящих и уходящих, мы верим или не верим им. Потом наконец мы рождаем, если повезет, сына или дочку, и тогда хоть как-то, хоть наполовину успокаиваемся, потому что можем вновь приходить к своим близким и забирать их из садика, школы, защищать и лелеять, любить. Позже они, взрослые, начнут приходить к нам в старости – так нам кажется…
Но так не всегда выходит, – скажет мне, покашливая и запивая кашель дымящимся чаем, мой собеседник. Что-то меняется и перепутывается в нашей жизни, которая в конце концов вдруг оказывается разбросанной, будто высыпанные из коробка на стол спички. Только смерть пока еще не отменяет прихода близких людей и родственников, только смерть и рождение не отменяет, и еще промежуточное состояние между ними – болезнь, которую мы часто принимаем за жизнь.
Днепропетровск был покрыт пластиковыми магазинами, сверкал рекламными щитами, блестел новенькими азиатскими автомобилями, которыми правили, как и в Москве в начале девяностых, красивые молодые женщины. Но почему-то казалось, что никакого прогресса, ведущего к восхитительным изменениям, здесь нет. Как не было его в Москве, в других городах бывшей советской империи.
Мать лежала в больнице. Отец, встретивший меня на вокзале на дребезжащем «Москвиче» 1986 года выпуска, бодро тараторил по дороге, что мать выписывают, проговариваясь при этом, что у нее из-за болезни ухудшилась память, она с трудом ходит, но он внимательно поговорил с врачом и врач сказал, что все можно вернуть: бывает, и не после таких инсультов пациенты поднимаются.
– Через день будем забирать маму, – весело говорил он, поворачивая ко мне голову, – так что все нормально, сынок. Понял?
Я решил повидаться с тетей Ниной. Последний раз я видел ее, когда приезжал в Днепропетровск с женой – через год после этого я с ней развелся. Тетя улыбчиво вздыхала, глядя на меня, поставила на стол жареные, залитые холодной сметаной и посыпанные морковью кабачки. Пока я ел, она спрашивала:
– Как у вас в России? Не хочешь вернуться на родину?
– Родину? Тетя Нина, разве я живу не на родине?
– Ну ты даешь, – вздохнула она, – вот, вырастила вас мамка… Она же украинка, помнишь? И родина твоя здесь, на Украине.
– Но я не украинец, тетя… – искренне и в то же время устало удивился я. – Я всегда был русским, потому что вырос на русской культуре, говорил по-русски и живу в России. Да и отец у меня русский. Странно, что я должен об этом задумываться.
– Ты живешь в огромной России и не замечаешь свою маленькую родину.
– Для меня наша страна была всегда одной, тетя Нина. А разве для тебя не так?