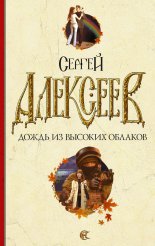Адаптация Былинский Валерий
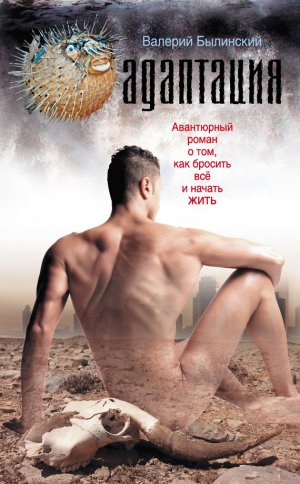
– Спасибо, да… – сказал на это отец. Его лицо стало прозрачным и седым. Он даже говорил, как мне казалось, седые слова.
Я подумал, что брат был прав, предложив отцу рюмку разбавленной валерьянки – она ему помогла.
Но все же я не мог сообразить, почему отцу стало так плохо? Я словно попал в какой-то другой мир, сделавший меня глупее и жестче. Ведь все в последние дни шло к тому, что она может умереть. А отец был ошеломлен так, словно мать умерла вдруг, будучи совершенно здоровой.
– Как же так? – повторял отец плачущим голосом, но не плакал – только качал головой. – Я ведь накричал на нее, на мамочку, накричал и уехал. А она умерла. Как же так. А?
Он в последние годы часто называл ее мамой, когда говорил с нами.
Мы с братом сидели рядом с ним на диване. Мои друзья негромко разговаривали на кухне. Там стояла открытая бутылка водки. Андрей не пил, он был за рулем.
– Игорь Олегович, – услышал я голос Андрея, – помочь?
Отец попросил съездить за город – там у нас была дача. В поле возле дачи на берегу реки находилось небольшое деревенское кладбище.
– Алла хотела там лежать, – говорил отец, – ей нравилось это место, река… простор, там простор…
Он ходил по квартире, блеклый и прозрачный, и я вдруг вспомнил, что отец еще не видел мать мертвой.
В этот момент он, словно прочитав мои мысли, виновато сказал:
– Ну, я пойду…
И пошел в спальню.
Я зачем-то тоже пошел за ним.
Отец смотрел на задумчивое мертвое лицо матери и покачивал головой, как бы поясняя: «Ну вот так все, видишь…»
Когда мы с Егором и Андреем въезжали в поселок, совсем стемнело. Остановились возле темного покосившегося дома – его хорошо описал отец. Я постучал. Вышла пожилая женщина. Следом за ней ее муж. Они выслушали меня молча. У них были землистые и светлые в электрическом свете лица. «Аллочка умерла, она так болела, – качала женщина головой. – Да, все сделаем. Позовем людей и выроем. Завтра приезжайте к двум, все будет готово».
Мы поехали дальше – машина раскачивалась и кренилась на неровной земле. Остановились возле оград более богатых домов. Я нажал на кнопку звонка. Ворота открылись, вышел небритый полный мужчина в пиджаке, надетом на майку. Нахмурив черные брови, он смотрел на меня внимательно и вместе с тем так, словно думал о чем-то своем. Это был председатель местного сельсовета, чье разрешение нужно было получить, чтобы похоронить человека на кладбище. «Она почти двадцать лет прожила здесь, это был ее второй дом», – говорил я, хотя меня никто ничего не просил объяснять. Мужчина кивнул и негромко, несколько смущенно и хрипло сказал: да, конечно, хороните, потом подъедете, решим бумажные формальности. Я вспомнил, что забыл дать ему бутылку коньяка, как просил отец, – она осталась в машине. Было неловко специально возвращаться за этой бутылкой, да еще и предупреждать об этом. «Потом…» – думал я.
«Опель» выехал на дорогу, ведущую к нашему дачному дому. Фары осветили шедших нам навстречу людей с маленькими детьми, мужчин и женщин, впереди них медленно шла большая собака – дог. Я помнил этого дога еще щенком, кажется, его звали Лорд.
Я стал легко, словно мне помогали голосовые пружины, говорить, что вот, мать умерла сегодня, и завтра здесь будем ее хоронить. «Алла умерла…» – стало передаваться от глаз к глазам, от рта к рту. Как легкое эхо. Люди смотрели на меня и в себя. Бывает так, что человек смотрит как бы в двух противоположных направлениях. Я тоже смотрел в себя и в них. У этих людей, что стоят сейчас передо мной, умерли или умрут когда-нибудь – может быть, даже завтра – их матери, отцы, родственники. Даже их дети. Но они обращают почему-то именно ко мне свое тихое внимание, будто смерть моей матери важнее других смертей. Стоят и выдыхают в меня свое человеческое тепло.
Я почувствовал далекое шевеление стыда. Смогу ли я сочувствовать им так же, как они мне? Хотелось спрятаться и исчезнуть, пока у них не начали умирать родственники. Господи, о чем я думаю?
Большая собака с хмурыми глазами потерлась о мои ноги и хотела положить большую седую голову мне на колени, хотя я стоял.
– Он чувствует, Лорд чувствует, – негромко сказала седая женщина, глядя на меня и в себя одновременно.
Я гладил собаку в свете фар «Опеля» по мраморной голове.
– Привозите завтра Аллочку, мы выроем, конечно, выроем… – слышал я чьи-то слова.
На обратной дороге мы с Егором сидели вместе на заднем сиденье, пили, наливая в маленькие стопки холодную водку, заедали ее хрустящими огурцами, мягким хлебом и колбасой.
Когда мы вернулись, в большой комнате возле серванта стоял на трех стульях привезенный Борисом гроб. Мать, одетая в длинное темно-синее платье, в чулках и в туфлях, накрашенная и причесанная, лежала в кровати. Все детство я боялся гробов. А теперь мне не было страшно. Он был деревянный, обитый красной материей. Я вспомнил какой-то американский фильм. Там дочка после похорон матери со слезами спрашивала отца: почему ты купил матери такой дешевый гроб? Чушь.
Мы выпили еще, поговорили о чем-то. Потом отец попросил, покашливая: «Ребята надо бы Аллочку перенести…» Мы подошли к ней. Взяли вчетвером за простыню, на которой она лежала – я со стороны головы – подняли, понесли в гостиную и положили вместе с простыней в гроб. Выступающие концы ткани аккуратно подоткнули. Я впервые зримо ощутил, что мать умерла, когда мы ее несли, и ее голова и руки безвольно колыхались. Так спящий не колышется.
Брат зашел в ванную, снял с сушильной трубы полотенце, промокнул его в спиртовом растворе, пошел в большую комнату и положил пропитанное спиртом полотенце матери на лицо. Еще он принес раствор марганцовки. Сказал, что ее нужно размешать в тазике с водой и поставить на ночь под гроб. Потом мы еще выпили и брат уехал, довольно пьяный – через дворы, где не стоят посты ГАИ.
Ночью мы спали с отцом в моей комнате. Я лег на полу, отец на нашей с братом детской кровати. Я лежал на тонком матрасе, снятом с этой кровати, натягивая на себя снятую с кресел в гостиной искусственную меховую накидку. Почему-то казалось, что ночью будет холодно, хотя за окнами стоял жаркий август.
Ночью мне снился медленно вливающийся в мое сознание сон: словно я, взрослый мужчина лет тридцати, стою на коленях в развороченной детской постели и заламываю, забрасываю за спину и за голову руки – и глажу себя этими руками так, будто почесываю все свое тело.
Я гладил себя так, как это делают люди, если искренне кого-то ласкают. К концу сна я догадался, что таким способом я поливаю себя лучами человеческой теплоты. И испугался, и хотел соскочить с кровати, но изображение вспыхнуло и растаяло. И наконец я крепко уснул.
Прозрачная темнота
Утром мы с отцом встали как-то легко. На каких-то пружинах силы, что появились у нас внутри. Было семь часов утра. Отец побрился, поставил на плиту греться чайник.
– Я у мамы свет выключил, – с виноватой улыбкой сообщил он.
Ну да, в гостиной, где стоял гроб, всю ночь горел свет, и надо было кому-то его выключить.
Перед приходом людей на похороны отец немного посидел со мной на диване:
– Видишь, сынок. Мы с Аллой сорок пять лет вместе прожили, видишь.
Словно я и не знал об этом. А ведь действительно – знал, не зная.
Просто забываешь об очевидном, о том, что отец с матерью были когда-то молоды, искренне и сильно любили друг друга. Вот он и ответил на мой вопрос, почему был так страшно поражен ее смертью.
Я позже уже подумал: а что, если я женюсь завтра, – проживу ли я со своей женой столько, сколько прожил мой отец с матерью? И дети у меня такие, как я или брат, будут ли? Родив меня, мать совершила чудо. Верующие верят, что чудо жизни продолжается после смерти. Вечное чудо – как этого хочется. А не вечного его нет.
Когда мы стали сносить ее вниз, я все время забегал вперед, подставляя под гроб два стула, потому что ребята, несущие мать, сильно уставали. По пути нам встретился поднимающийся по ступенькам прохожий – худой, в светлом заношенном костюме мужчина. Он посторонился, словно встретил рабочих, с трудом тащащих вниз тяжелый шкаф. Когда мои одноклассники в очередной раз поставили на площадке между этажами на стулья гроб – я положил ладонь матери на лоб. Он не был сильно холодный. Он был прохладный, обычной комнатной температуры. У Егора мать умерла два года назад, я знал ее с первых школьных классов, но не хоронил.
Дальше мать повезли в автобусе, который прислал с бывшей работы отца его начальник. Я сидел рядом с матерью, она лежала слева у моих ног. Почти все время я смотрел в окно, но однажды все-таки опустил ладонь на сложенные руки матери. Потом опять накрыл ладонью ее лоб. Видимо, мне хотелось натрогаться перед тем, как ее опустят в землю.
В поселке нас опять встречало много людей. Не было только Лорда и маленьких детей. Несколько мужчин докапывали могилу. Вместе с ними быстро работал лопатой низкорослый парень лет двадцати, сын тех людей, что жили в покосившемся доме на краю села. Он копал с видимым усилием, но не отставал от других. Казалось, парень был с тяжелого похмелья – по лицу его стекал слишком обильный пот, под глазом багровел свежий синяк. Но на его лице светилось выражение глубины – словно он что-то копал в себе. Глядя на него, я чувствовал, как сильно болит у него голова, как пересохло его горло. Но он рыл, резко и мощно выбрасывая лопатой комья земли. Рубашка порвана под обеими подмышками. Дышало, горело, пекло и резало слух души что-то русское. Или украинское? Ну да ладно…
Лежащую в гробу мать поставили на привезенные из кухни стулья. Стали прощаться. Я подошел к ней, плохо видя ее лицо из-за остановившихся в глазах слез. Нагнулся и поцеловал в лоб – слезы не выпали. Положил вновь свои руки на ее, сложенные на животе вместе. Ее кожа по-прежнему была прохладной, обычной комнатной температуры.
Гроб забили гвоздями, стали медленно опускать на двух полотенцах в могилу. И снова я видел, как тяжело было удерживать на плече свое полотенце двадцатилетнему сыну тех, кто жил в доме на краю деревни.
Столы для поминок поставили в саду. Сверху свисали гроздья винограда; солнце, проходя сквозь них, пахло виноградным соком.
– Алла любила, чтобы всем было весело, – встала с места и подняла рюмку с водкой тетя Нина, – она любила посмеяться, потанцевать, помните? Так что давайте не будем плакать. Может, Аллочка сейчас смотрит на нас. Ну, пусть видит, что нам хорошо… – тетя Нина выпила свою рюмку.
Мы тоже выпили. Ученые назвали точную дату, – вспомнил я, – когда все люди на Земле умрут. Только я забыл, в каком это случится году?
К вечеру все разъехались. Остался только Сергей, у которого не было жены и ему не надо было спешить домой. Я постелил нам с ним на матрасах на втором этаже нашей дачи.
– А пошли к маме на могилу, – сказал Сергей. – Пошли?
Я кивнул. Мы спустились по лестнице со второго этажа, тихо прошли мимо спящего отца и вышли на улицу. Хотя не горел ни один фонарь, было почему-то светло, словно темнота светилась изнутри.
На могиле матери Сергей мне что-то долго рассказывал. А я уткнулся лбом в землю – ужасно хотелось чувствовать кожей землю. Она была прохладная и тихая.
Потом мы долго сидели, пили из маленьких стопок водку, чем-то закусывали. Перед нами горел, уходя бесшумными искрами в небо, воздушный костер – такой необычно прозрачной казалась окружающая нас темнота. Неподалеку текла река, мы чувствовали ее сырое дыхание.
– Когда мы умираем, за нами приходят, – говорил мне Сергей.
Часть третья
Адаптация как галлюцинация
А что ты беспокоишься, что я уезжаю? У нас с тобой еще Бог знает сколько времени до отъезда. Целая вечность времени, бессмертие!
Ф. Достоевский, «Братья Карамазовы»
Шедевры в пролете
Я завис между двумя мирами – из одного места уехал, в другое не приехал. Мир, откуда я родом, состарился и пропах нафталином. Новый, куда я прибыл, оказался ничем. Жизни не было ни там, ни здесь. Той жизни, которой хочется.
Поэтому я знал, что вернусь в Москву по инерции.
А потом… потом, может быть, я наконец пойму, откуда я, а не где мне жить.
А позже догадаюсь – куда жить…
Я чувствовал, что скоро должно совершиться нечто, к чему я шел все эти годы вместе с миллионами «раз, и-и». Бывает так. Идешь по дороге и понимаешь – скоро конец.
В Днепропетровске я прожил месяц. В сентябре здесь жарко, как в московском июле.
Однажды мы с Егором и Сергеем сидели в летнем кафе возле Драматического театра имени Шевченко. Нас обслуживала довольно симпатичная девушка. Коротко стриженная, русоволосая, с голубыми глазами. Мои друзья пытались с ней познакомиться, но она не обращала на нас внимания, пока не услышала, что я из Москвы.
В ее глазах зажегся интерес.
До этого было вежливое равнодушие.
«Так вы москвич?» – спросила девушка, когда мы вышли вечером из кафе; у нее как раз закончилась смена. Мои друзья шли, чуть отстав, чему-то смеялись, что-то обсуждали между собой.
– Нет, я родился здесь. Москву не люблю.
– Зачем же вы тогда там живете?
– Живут же жены с нелюбимыми мужьями, иногда вполне неплохо, – сказал я.
– Я никогда не буду жить с нелюбимым мужем, – объявила она.
Мы с друзьями были довольно пьяными, потому что встретились и начали бродить по городу сразу после полудня; сегодня было воскресенье.
Кристине – так звали девушку – хотелось поговорить со мной, но что-то, похоже, ее настораживало. Она сообщила, что доучивается на отделении перевода и обязательно хочет поездить по миру.
– Ты похожа на Джин Сиберг, – сказал я ей.
– Да? Кто это?
– Была такая актриса.
– Почему была?
– Ну, она покончила с собой когда-то.
– Плохо, – покачала головой Кристина. – Не люблю негатив.
– Только позитив? – со смехом спросил я.
– Да. Всегда.
Мы шли мимо ЦУМа, мимо «Макдоналдса», мимо ряда летних кафе, у которых было припарковано множество дорогих автомобилей.
– А в каких фильмах снималась эта актриса? – спросила Кристина, посматривая по сторонам и трогая языком свою нижнюю губу.
– Самая классная ее роль, – ответил я, – с Бельмондо в фильме «На последнем дыхании».
– «На последнем дыхании!» – воскликнула Кристина, удивленно переводя на меня взгляд, – так я видела этот фильм! Там Ричард Гир играет.
– Нет, это другой, – сказал я. – Американский, ремейк французского. А тот был еще черно-белый.
– А… – протянула Кристина и снова отвернулась. – Фильм твоей молодости? – добавила она, не глядя на меня.
– Нет, – усмехнулся я, – скорее, это фильм молодости моих родителей. Его сняли в конце пятидесятых.
– И он тебе нравится… – сказала она почти что утвердительно.
– Да. Потому что он хороший, – кивнул я.
– А, ну понятно…
Кристина засмотрелась на перегородивший тротуар «БМВ».
– Ух ты ж… Помнишь, у Вдовиченко такой был?
– У кого?
– Ну, «Бумер». Смотрел?
– А… Там именно такая машина была?
– Нет, там черная… Это темный шоколад с молоком. Женский цвет.
Я промолчал. Мы шли дальше.
– А у тебя есть машина? – спросила она.
– Нет, – сказал я.
– Почему?
Я не сразу нашелся, что ответить. Потом сказал:
– Черт его знает, почему. Ты вот почему не куришь?
– Бросила.
– Ну вот и я бросил.
– Значит, у тебя была машина? – Она довольно улыбалась, словно добилась от меня чего-то для себя важного.
– Выходит, что так, – сказал я.
– А какая у тебя была машина? – с некоторым торжествующим упрямством спросила она.
– Слушай, – весело и пьяно наклонил я к ней голову, – ты случайно не собираешься за меня замуж, Кристина?
Кристина, не прекращая улыбаться, немного подумала, прежде чем ответить. Потом сказала:
– Нет. Хотя я могла бы в перспективе пожить с тобой. Дело в том, что мне предложили одну неплохую работу в Москве. Я пока что думаю. Вот поэтому я и спросила. Но это в перспективе…
Я предложил ей выпить что-нибудь. Она сказала: «Хорошо. Но только давай выберем хорошее кафе».
– Давай…
– Знаешь, – через какое-то время отстраненно сказала она, – я не воспринимаю мужчину без машины.
– Да? Почему?..
– По-моему, мужчине в наше время быть без машины стыдно. Это говорит о том, что он или неудачник, или живет в прошлом веке.
«В самом деле», – подумал я.
Наконец мы сели в каком-то кафе под тентом. Егор через каждые две минуты звал «Кристиночку» в художественную мастерскую Сергея, чтобы посмотреть там «шедевры живописи», и рвался поцеловать ей руку.
«Спасибо, – сверкающе щуря глаза, улыбалась ему Кристина, – мне что-то не хочется шедевров»
Когда она вежливо попрощалась с нами и неторопливо пошла к остановке маршрутного такси в свете красноватого заходящего солнца, я подивился тому, как же она была гармонично сложена – как идеально переставляла свои стройные ноги, перекатывала ягодицы, гордо и высоко несла голову на тонкой и нежной шее; и как же мне было противно внутри. Словно напился какой-то тошнотной мути, и все не мог, да и не хотел выблевать из себя эту муть, надеясь почему-то, что тошнота ложная и вот-вот пройдет.
По поводу фильма «Рай»
– У тебя презервативы есть? – перегнулся через стол ко мне Егор.
– Нет. А что?
– Надо в ночнике купить. В баню сходим. Там типа сауны, душ, бассейн, стол, где посидеть. Апартаменты отдельные с альковом. Девочек снимем, по сто гривен за час всего. У меня там Катюша знакомая, юная мадам с во-от с такой грудью, – показал Егор руками. – Я один раз ее уже заказывал, правда, кончить не смог, выпил лишнее. Но зато пообщались.
Покачиваясь посреди проспекта, Егор позвонил по мобильному, заказал два часа в бане. В круглосуточном магазине мы купили все необходимое для культурной программы. Потом пошли пешком по проспекту – баня была рядом. Егор позвонил в ворота, сообщил ответившему через переговорное устройство голосу, что нас ждут. Мы спустились по лестнице в отделанное деревом помещение.
«Садитесь, ребята, сейчас подвезут девочек, – сказала встретившая нас женщина с выражением лица, о котором нельзя было сказать, приветливое оно или равнодушное. Единственное, что точно было в этом лице – работающая на средних оборотах энергия.
Сев за стол, мы распечатали водку и стали ее пить, смешивая с апельсиновым соком. Егор говорил о том, что хочет бросить заниматься пиаром молочных компаний и снять фильм. Художественный большой фильм, не сериал, – говорил он. – Такой, где все люди прекрасны.
– Там все будет прекрасно, и пейзажи, и люди, и отношения. Без конфликтов, – объяснял мне Егор.
– Так не бывает, – возразил я, – жизни не бывает без конфликтов…
– Бывает! – запивал Егор апельсиновым соком водку. – Просто все конфликты от гордыни… Ты подумай, если убрать гордыню из всех нас, – он махнул рукой, словно отрубил мечом невидимую голову – и все, наступит идеал!
– Тогда назови свой фильм «Рай», – сказал я. – Только будет ли он интересен?
– В смысле?
– Ну, будет ли нескучно досмотреть его до конца?
– А жизнь до конца интересна? – захохотал он.
– Так у тебя же фильм, – поправил его я.
– Нет, у меня рай, – напомнил он. – Там будет тотально все хорошо.
Вошли девочки. Их было пять или шесть, среди них была Катя, которую Егор нахваливал. Грудь у нее была действительно большая. В ее глазах не было проблеска сомнения или неуверенности, она напоминала мягкую, отключенную от электричества игрушку – поэтому, наверное, я не захотел выбирать ее. С некоторых пор я стал принимать сомнение за искренность.
Я выбрал другую девушку – постарше, – ее глаза смотрели на меня, как два увядших, но живых цветка. Такие цветы я видел однажды в лесу, неподалеку от Ялты, когда мы с моей женой и с друзьями – с бородатым и хиппующим тогда еще Егором – ходили в поход по крымским горам. Тогда я сказал Лене: «Слушай, видишь какие цветы? Как два глаза в сухих волосах травы». Я спустился с тропинки в овраг, чтобы сорвать для жены эти цветы. Она просила: «Не надо». Но я все равно сорвал цветы, и глаза сразу увяли, до Ялты мы их не донесли.
– Как тебя зовут?
– Света.
– Что будешь пить?
– Вот это. Немного… – она указала на мартини.
Света тоже напоминала Джин Сиберг, только ростом повыше. Мы вовлекли ее в разговор о фильме «Рай». Спросили, интересно ли будет ей смотреть такое кино.
– Разве мы живем для интереса? – спросила она. У нее были короткие, сухие, похожие на желтую траву волосы, из которых синели два глаза-цветка. На щеке, ближе к губе, большая родинка. Когда она подошла ко мне и я взял ее за кисть, у меня задрожала рука. Было в ней что-то настоящее и в то же время болезненное – словно медленный выплеск тоски. Неужели только в надломе, в неудаче женщины могут быть мне близки? Но как же тогда фильм по имени «Рай», где не существует проблем?
Я стал наливать ей мартини, себе водку. И быстро два раза выпил. Мне быстрее хотелось забыть то, что будет потом, еще до того, как это случится. Я снова себе налил.
– Так быстро? – спросила она то ли смущенно, то ли задумчиво. И, словно боясь отстать от меня, со смиренной быстротой опустошила свой стакан с мартини.
За шторой стояла огромная кровать, дальше – проход в бассейн и сауну. Я вошел в холодную воду бассейна, Света, дрожа плечами, ступила в воду за мной. Опустив голову, она двигалась следом за мной, словно домашнее животное. Так же по очереди мы приняли душ. Света дрожала, хотя вода была горячая.
«Хочешь, иди в сауну», – сказал я. Она покачала головой. Я взял ее за жесткие светлые волосы и поцеловал в шею. Она взглянула на меня виноватыми глазами, опустилась на корточки и, приткнувшись губами, одела мне презерватив. Я кончил глубоко и тепло – словно вышли слезы. Затем вошел под душ, и там немного настоящих слез тоже вышло из меня.
Мы сняли покрывало с огромной кровати. Этот сделанный под фальшивый альков будуар напомнил мне виденную в детстве на почтовой марке картину Рембрандта «Даная». Там лежала на простынях обнаженная женщина, а в воздухе над ней застыл ангел. Возможно, на меня сейчас смотрела моя мать. Мне не было ни страшно, ни стыдно. Это было погружение в реку, смывающее все. Не хотелось сливаться телами. Я поцеловал ее в шею, в затылок. Она дрожала, покрывала быстрыми поцелуями мне лицо. В губы мы не целовались. Туман. Я понимал, что она проститутка, но ведет себя так, словно мы вдвоем в какой-то одинокой квартире.
– Сколько тебе лет? – спросил я.
– Много… – она потупилась. – Двадцать восемь. У меня и ребенок есть.
– А ты как живешь? – внезапно спросила она меня. Там, за шторой, лилось, как кровь из раны, застолье с разговорами про Ларса Фон Триера и Тарковского. Мы лежали голые на широченной кровати за красной шторой. Кто-то смотрел на нас сейчас сверху. Мы плавали в озере мерзкого и в то же время убаюкивающего чуда.
– А почему ты спрашиваешь?
– Мне кажется, ты сильно страдаешь, – сказала она.
– Почему ты так решила?
– Потому что у тебя такие глаза.
Я погладил ее по жестким сухим волосам. Она смотрела на меня внимательно, словно собака. Не породистая, но красивая. Я не ответил ей. Потому что не испытывал сильной душевной боли – на меня, словно на пистолет, поставили глушитель. Может, я и стрелял, и убивал сейчас кого-то – но ничего не слышал. Но глаза нас соединяли. У нее тоже были «такие» глаза.
– Давно занимаешься этим?
– Вторую неделю.
– Ты слишком трепетна для этого.
– Женщины делятся на два типа – шлюхи и папины дочки. Иногда переходят из одной категории в другую.
– Откуда ты это знаешь?
– Папа говорил. Шлюхи готовы черту переступить, а папиных дочек сдерживает авторитет отца.
– Твой папа жив?
– Нет. Его убили на улице, когда я школу заканчивала. Деньги хотели отнять, или что-то такое, он пил много. Он у нас в селе был единственным интеллигентом, учитель истории. Мать уехала. Я жила с шестнадцати лет одна. Потом приехала в Днепропетровск, поступила в институт. В девятнадцать родила. Не доучилась. Сейчас учительница в младших классах. Нужны деньги, чтобы сын в школу пошел. Мне же никто не помогал. А сама я как-то вдруг устала. Просто устала – и все. На квалифицированную работу у нас не устроишься, ехать покорять какие-то большие города типа Киева просто нет сил. Официанткой или полы мыть – тоже нет. У меня специальность библиотекарь.
Мы говорили и казалось, что время разговора все время увеличивается.
Хотя мы проговорили всего минут пять.
– Катя учится здесь на заочке, ей деньги платить за учебу надо. Она и предложила: а давай в Днепр по выходным ездить. Показала объявление в газете. Приехали – тут без рэкетиров, все как на обычной работе. Мы ведь больше всего боялись, что бандиты будут. Но ничего. Так и начали свои проблемы решать. Так что плохо ты женщин знаешь. Мы ради ребенка через любую черту переступить можем. Да и не черта это. Если любим – тогда да, черта. А так – обычная жизнь.
Когда мы вышли из-за ширмы, Катя сидела одна за столом, пила сок с мартини и смотрела в экран телевизора. Егор с Сергеем были в сауне.
Вошла женщина с невнятным выражением лица.
– Будете продлевать, ребята?
– Нет.
Вернулись Егор и Сергей.
– Опять не кончил, – улыбнулся Егор, махая рукой. В глазах Кати и Светы стал зажигаться рассвет. Обе они с опущенными головами и невеселыми улыбками попрощались с нами и быстро вышли.
За день до моего отъезда мне позвонил Егор.
– Слушай, мне тут девчонки позвонили.
– Какие?
– Из бани, помнишь?
– А…
– Они хотят встретиться.
– Знаешь, что-то не хочется.
– Да мне тоже, – устало сказал Егор. – У меня жена завтра из Киева приезжает. Просто девчонки хорошие. Говорят, решили больше в Днепр не ездить. Типа как из-за нас, мы подвигли… Видишь как… Давай с ними просто посидим, и все.
– Просто посидим?
– Ну да. Я договорился, мы их на автовокзале встретим.
Мы с Егором прохаживаемся возле автовокзала.
Уже прошло полчаса, как девушки должны были приехать. Но их не было. Я позвонил Свете по мобильному. Оказалось, что они еще и не выезжали.
– У нас нет денег, – помявшись, сказала Света.
– Доезжайте просто, а мы вас встретим.
Она помолчала.
– Понимаешь, я форму сыну школьную купила.
– Но на маршрутку же деньги есть? Приезжай… – уже понимая, что это не те слова, которые нужны, сказал я. Но что нужно ей говорить – я не знал. Хотя понимал – что.
– Приезжайте лучше вы к нам, – сказала она.
Все было ясно. Мы увидели друг в друге тех, кем не являемся. Может быть, они и в самом деле решили прекратить заниматься проституцией – при условии, что мы с Егором будем вытягивать их дальше. Но у Егора жена, у меня поезд в Москву. Похоже, мы хотели романтично посидеть с ними в ресторане, напутствуя в новую жизнь, и все.
Мы занимаемся не тем, к чему склонны, а тем, что нам удобно.
Удобство. Какая же тут романтика?
Мы помолчали еще немного. Я сказал ей: «До свидания». Посмотрел сквозь клавиши телефона на ее увядшие синие глаза среди сухой травы и нажал на одну из клавиш.
Обычная жизнь без рая.
Мы с Егором прошлись немного по набережной, очутились в прибрежном кафе, съели по шашлыку, выпили по пиву. Говорили, глядя на противоположный берег Днепра, о чем-то таком, что весело, хорошо, но что плохо запоминается.
Похоже – по крайней мере, мне так кажется, – что в этом месте вам немного наскучило читать этот текст. Чересчур уныло, скажете вы. Да и сюжет, который и так едва брезжил, совсем закатился за горизонт. Вы, вероятно, правы в этом своем ощущении. Честное слово, я не рисуюсь, вы правы. Но ничего не могу поделать. Бывает так, что не человек пишет текст, а текст пишет себя человеком. И такой текст бывает не увлекателен.