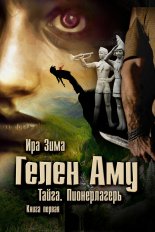Владимир Скляренко Семен

Многое что хотелось ему увезти из Херсонеса: и чудесную мозаику из забытых храмов, привезенную еще из городов Эллады, и мраморные статуи тех же времен, что лежали сваленные за стенами на берегу моря, и дивные иконы старого письма, на которых боги изображались, как живые люди, — в столице Климатов можно было найти немало диковинок для того времени.
Но на лодию, да и на десяток лодий не возьмешь всего, что манит взор и тешит душу князя Владимира, пройдет много лет, прежде чем богатства, созданные лучшими мастерами мира, широкой рекой потекут на Русь, а еще через десятилетия мир удивится и обомлеет перед богатством души русского человека…
Тем временем на одну из лодий с громкими криками воины тащили вылитых из бронзы диких коней, которых укрощали смелые наездники, на другую грузили мраморные статуи — далекие воспоминания об Элладе. Трудились и священники, бережно укладывая в лодии иконы и церковную утварь.
Епископ Анастас настаивал на том, чтобы взять с собой в Киев мощи святого, которые покоились в Херсонесском соборе.
— Но святой — папа римский?! — диву давался князь Владимир.
— Святой Климент воистину был римским папой, но его выгнали из Рима, и всю жизнь свою он провел в Херсонесе, тут и умер.
Мощи папы Климента положили на одну из лодий. Долго беседовал князь Владимир и с зодчими Херсонеса, у которых давно уже не было работы в родном городе, — одни из них соглашались ехать в Киев сразу, чтобы строить храмы и дворцы, другие обещали прибыть на Русь позже.
— Нам сопутствует удача, — поглядывая на небо, облака и море, говорил своей старшей дружине Владимир. — Подул восточный ветер, а тутошние люди сказывают, коли он уж поднялся, то будет дуть и быстро погонит наши лодии к устью Днепра. Завтра на рассвете выйдем в море. Комонное войско может выступить нынче к вечеру, чтобы поскорее миновать Хазарскую переправу и выехать в поле. Там, — князь Владимир протянул руку на север, — у острова Григория, пусть комонники ждут, чтобы помочь нам, лодии наши днесь, — указал на воинов, которые втаскивали бронзовых коней, — тяжелы суть… Выше порогов будем рядить, как рушати[285] к Киеву-городу.
Глава шестая
1
Покинув Херсонес, лодийное воинство князя Владимира, туго натянув паруса, подгоняемое восточным ветром, миновало Климаты, Керкентиду, собралось на белых берегах лукоморья и медленно стало подниматься вверх по Днепру.
Среди лодий плыл и княжеский насад с двенадцатью гребцами. На корме поверх настила был выстроен настоящий теремок о двух покоях; гребцы же и слуги жили под настилом и спали вповалку прямо на днище.
Покуда лодийное воинство шло по морю и Днепру, комонники, быстро миновав Хазарскую переправу, вихрем промчались по Дикому полю и, остановившись на левом берегу Днепра напротив острова Григория, стали поджидать князя.
Почти неделю, работая с утра до поздней ночи, волокли, они лодии вдоль порогов, подкладывая под днища катки, толкали руками, плечами, грудью, обливаясь потом, преодолевая с величайшим трудом каждую пядь.
Наконец пороги остались позади — теперь до самого Киева стелилась торная дорога через поле для комонного войска и спокойная гладь Днепра — для лодий, на которых плыло воинство и князь Владимир с женой Анной.
Князь Владимир рассказал царице Анне, какова будет дальнейшая дорога.
— Мы миновали пороги и теперь направляемся прямо в Киев — часть воинства на конях, другая — в лодиях.
— Надеюсь, мы с тобой в лодии? — спросила Анна.
— Ты поедешь, как и до сих пор, в лодии, — ответил ей князь, — а я отправлюсь с комонным войском.
— Ты оставляешь меня одну?
— О нет, теперь я тебя не оставлю, — улыбнувшись, сказал Владимир, — но я должен быть в Киеве раньше, чем прибудут туда лодии.
— Зачем трястись тебе на коне, если гораздо удобней плыть в лодии?
— Я привык на коне, — ответил Владимир, — и в Киеве должен быть раньше, чтобы приготовиться и достойно встретить тебя.
— Тогда поезжай — готовься, встречай… И помни, мысли мои с тобой, день и ночь молюсь за тебя!
Она обняла его, поцеловала. За то короткое время, что они прожили, Анна уже раскусила суровый и решительный нрав Владимира и знала, что лучше ни в чем ему не перечить.
Ей не приходилось насиловать себя: воспитываясь среди знати в Армении, потом в Константинополе и имея перед собой такой пример, как мать — Феофано, Анна неизменно была приветлива, ласкова, мила даже с людьми, которых в душе ненавидела.
Так поступала она и тут, на Руси, путешествуя из Херсонеса в Киев: обнимала Владимира, целовала, шептала нежные слова, а в то же время присматривалась к нему и размышляла, как ей быть.
Тем более что князь Владимир делал правильно, собираясь достойно встретить ее в Киеве. Здесь, на лодии, Анна не останется одинокой — с ней едут ее придворные женщины, послы, священники, слуги…
Было утро. Лодии отчаливали одна за другой от берега и выстраивались на широком полноводном плесе Днепра в ключи.[286] Князь Владимир, сидя на коне перед старшей дружиной, долго смотрел, как они плывут по голубой, точно бирюза, глади и медленно исчезают вдали, потом ударил коня и помчался во главе войска в поле.
Князь покинул лодийное воинство и царицу Анну не случайно. После всего, что произошло, ему хотелось на какое-то время остаться одному среди тишины Дикого поля с дружиной, которая ни о чем не спрашивает.
Это напоминало давно минувшие годы, когда он — мятежный, трепетный, смятенный, — покинув Киев, отправлялся с дружиной за Днепр, в поле, ехал под размеренный глухой конский топот многочисленного воинства и слушал возникавшую внезапно где-нибудь далеко позади песню, которая катилась и катилась по полю:
Гей, во поле, во поле гостинец темнеет, Гостинец темнеет, могила чернеет, Могила чернеет, а кости белеют… Гей, да гей, да гей!
И его душу охватывал дивный покой, дышалось легко, свободно, он видел перед собой ясную цель, хозяйским оком оглядывал землю, знал и верил, что если встретит вражескую орду, то победит ее и со славой вернется назад, — о, какие чудесные, порой трудные, но исполненные спокойной суровостью были те дни.
И сейчас все было так же, как и раньше, — высоко, точно бездонная чаша, простерлось теплое голубое небо; вокруг, сколько ни смотри, стелется покрытое серым ковылем поле, всюду по нему, точно крепости славы, высятся рядами, кое-где и порознь, курганы, а на них стоят вытесанные из дикого серого камня русские богатыри — они опустили руки и смотрят мертвыми, но вечно живыми глазами на восток, на запад, на юг — во все стороны, откуда шли и идут вражеские орды…
И все-таки князю Владимиру грустно, — всю жизнь душа его была мятежной, неуемной, всю жизнь ее тревожили сомнения и колебания, но сейчас и сомнений этих стало больше, и жизнь стала трудней — еще трудней.
Конечно, победа в Херсонесе — честь и слава для Руси, вечно унижаемая и попираемая отчизна стала равной империям, люди русские, жившие по древнему закону и обычаю, присоединят к своим богатствам сокровища и достояния всего мира.
Примет ли все это Русь сразу, как насущную потребность, как суровую необходимость, будут ли единодушны в новом законе земли и города, низвергнут ли люди старых богов, с которыми жечь далее уже нельзя?!
Нет, князь Владимир понимал, что победа на брани с ромеями — только начало великой усобицы на Руси; как и некогда, душа его предчувствовала впереди страшные грозы, единственное, что поддерживало его в этот час, была уверенность, что он, стоя на распутье, правильно рассудил и глубоко уверовал в будущее.
Великой ценой далась эта первая победа! Сколько горя, мук испытают еще русские люди, сколько прольют они слез, как тяжко, невыразимо тяжко сейчас и самому князю Владимиру.
Глухо бьют и бьют копытами кони, высоко в небе висят и звенят-звенят жаворонки, перед глазами стелется безграничное поле, поросшее серым ковылем, мелькают курганы, стоят на них каменные богатыри.
А где-то по левую руку широким Днепром от берега к берегу, от излучины к излучине плывет лодийное воинство и насад с теремом, а из его оконца поглядывает на Днепр и голубой плес царица Анна.
Она чудесная, удивительно красивая. Может быть, как говорят греки, она и в самом деле одна из красивейших женщин мира, но князю Владимиру не нужна ее красота, не о ней он грезил, не ему, с любящей, верной женой Рогнедой и многочисленной семьей, не ему, который, обольстившись невесткой Юлией, до сих пор раскаивается в любовном грехе, добиваться любви греческой царевны.
Однако все это произошло, ничего уже изменить нельзя. Сегодня, когда князь Владимир едет в поле далеко от царицы Анны, ему легче, потому что он не любил, не любит и никогда ее не полюбит, но Киев все ближе и ближе, там жена Рогнеда, боги, люди. О, какой дорогой ценой заплатил он за победу! Неизлечимая рана зияет в его сердце!..
Ехали день за днем, миновали Гадяцкое на Пеле, Переволоку над Сулою, а вскоре после Переяслава перед их взорами открылся и город Киев.
2
В первый же вечер по прибытии в Киев князь Владимир пошел к Рогнеде — не в силах больше мучиться и страдать, он хотел поговорить с ней откровенно, как им теперь быть.
Рогнеда знала, что произошло в Херсонесе. Она ни о чем не допытывалась, но жены бояр, воевод и даже слуги говорили, что князь заключил с ромеями в Херсонесе мир, взял себе в жены царевну и стал василевсом.
И вот князь приехал с комонным воинством в Киев, а царица Анна следует на лодии.
Рогнеда поняла, едва лишь Владимир переступил порог светлицы, зачем он пришел в этот вечерний час, она знала, что рано или поздно между ними состоится разговор, не думала только, что все произойдет так быстро.
Беспокоило княгиню и то, что о событиях в Херсонесе стало известно детям, несколько дней они избегали ее, и не потому, что не хотели с ней говорить. Нет, не знали, что сказать матери, как помочь ей в большом семейном горе.
Особенно волновался Ярослав, раз и другой заходил он к ней, но так ничего и не сказал. Как-то мать заметила у него на глазах слезы; три дня тому назад Ярослав поехал от отчаяния на ловы за Днепр и там повредил ногу и теперь лежал тут же, в тереме, в соседней светлице.
Однако думать о том сейчас не приходилось — князь Владимир стоял на пороге в темном платне, в котором обычно ходил на брань, с мечом у пояса, с непокрытой головой — только усталый, худой.
— Добрый вечер тебе, Рогнеда!
— Добрый вечер и тебе, Владимир…
Он не подошел, не обнял ее, не поцеловал, как бывало, а, медленно пройдя вперед, тяжело опустился на скамью, даже меч загремел по полу, и склонил голову на руки.
— Я пришел к тебе поговорить…
— Что ж, говори, Владимир, я давно этого ждала.
— Буду откровенен, Рогнеда… Случилось то, чего не хотел, о чем не думал…
— Дивлюсь, что так говоришь, — ответила Рогнеда. — Ты, помнится, хотел победить Византию — и вот победил. Ты хотел стать наравне с императорами — и ныне ты называешься василевсом. Ты задумал окрестить Русь — и окрестил ее…
— Тебе, вижу, — промолвил Владимир, пытаясь улыбнуться, — точно известно, что произошло в Херсонесе, лишь одного ты не знаешь…
— Нет, Владимир, — сказала Рогнеда, — и то единое я знаю. Ты — василевс, поелику стал мужем царевны Анны… Спасибо тебе, Владимир, что не привез ее сюда сразу, а приехал один — велика Гора, но тебе с двумя женами тут было бы тесно… Боже мой! — воскликнула Рогнеда, и в ее голосе звучала великая боль. — Когда-то тоже ты приехал на Гору один, меня же позвал позднее, ныне царица Анна плывет где-то в лодии, ты же решаешь здесь мою судьбу.
— Ты смеешься надо мной, Рогнеда?…
— Нет, никогда, верь мне, не смеялась я над тобой, просто говорю о суетном мире — какой он безжалостный и жестокий.
— Неужто ты думаешь, что мне было легко жить в этом мире?
— Нет, василевс Владимир, не думаю, чтобы тебе было легко жить, если когда-нибудь люди узнают твою жизнь, они содрогнутся…
— И проклянут? — спросил Владимир.
— Нет, не проклянут, ведь ты любишь Русь более себя, а за это можно все простить, все забыть… И я, Владимир, понимаю, знаю, ты долго мучился и страдал. Ты должен был идти против ромеев, положить новый ряд, принять христианство…
Она умолкла.
— Должен был ты, Владимир, и стать василевсом, надеть корону, ты достоин этого, иначе не был бы и русским князем… Помнишь, когда ты шел на брань с ромеями, мы говорили с тобой об этом…
— Помню, — тихо промолвил Владимир.
— Одного не разумею, — закончила Рогнеда, — как мог ты, имея жену, думать о другой и, ничего мне не сказав, обвенчаться с нею?
— Рогнеда! — приложив руку к сердцу, сказал Владимир. — Когда я шел на брань, ни о какой царевне не думал, полагая с императорами ряд, о том и не помышлял, но греческие императоры суть лживы и хитры, не верил им и не верю, вот и потребовал у них руки царевны Анны…
— Видать, очень боятся тебя императоры, коли согласились выдать за тебя свою сестру… Но Анне ты веришь?
Нахмуренный и суровый, Владимир коротко отрезал:
— Назвав ее своей женой, не могу и не хочу о ней говорить…
Рогнеда поняла боль Владимира, который не изменял своему слову.
— Прости, Владимир, — промолвила она. — Я словно и позабыла, что все уже свершилось. Добро, не будем о ней говорить… Но про себя самого скажешь?
— Про себя? Скажу…
— Только всю правду, не бойся, какой бы она ни была для меня горькой: ты любишь царевну Анну?
Владимир закрыл глаза и, стиснув губы, долго молчал, потом посмотрел на Рогнеду и промолвил:
— Видишь, я долго думал, прежде чем ответить тебе, ведь… о таких вещах обычно не спрашивают… Но нет, ты, Рогнеда, имеешь право и должна была спросить…
Он снова умолк, ему трудно было сказать правду так, чтобы она поняла его и не так сурово осудила, ей эти слова были необходимы, они облегчали страдания раненого сердца.
— Добро, — промолвил Владимир, продумав все до конца, — тревожила меня не ее красота, до той поры я никогда и не видел Анны, но, увидав, был поражен. Однако, верь мне, не любил и сейчас не люблю ее. Ужасаюся тому, что сталось, будь моя воля — повернул бы все вспять… Вот и поведал тебе всю правду.
— Нет! — решительно ответила Рогнеда. — Как не повернуть вспять Днепра, так не повернуть нам жизни и счастья. Ты создал империю Русь, сам стал василевсом, женился на греческой царевне, но… — она помолчала, — мне жаль тебя.
— Рогнеда! — крикнул он. — Ты можешь днесь поведать все, в твоих речах одна правда… Но не говори, что жалеешь меня, я не токмо василевс, но и человек.
— Больше и не скажу, я все сказала…
— Как все? Что же мне делать?
— Почто меня спрашиваешь? Ты сам выбрал свой путь в жизни, не стану поперек, уйду с Горы.
— Так, — Владимир вздохнул, — теперь понимаю, что произошло — отныне я один должен здесь мучиться и страдать, ты покидаешь меня…
— Не я это сделала, а ты, Владимир.
— И это понимаю…
Воцарилось молчание — тяжелое, томительное. Двум совсем еще недавно родным, близким людям хотелось многое сказать, поделиться, их души в последнем порыве тянулись одна к другой, как, наверное, еще никогда не бывало. Но сказать они уже ничего не могли — суровая жизнь воздвигла между ними стену и разъединила навеки…
Князь Владимир первый нарушил нестерпимое молчание.
— Рогнеда! — промолвил он в отчаянии от всего наболевшего сердца. — Прости, я виноват, один отвечаю за все. Но позволь мне одно — позаботиться, чтобы ты не мучилась, не страдала…
— Чем же теперь можешь мне помочь?
— Поезжай, Рогнеда, в город отца своего, в Полоцк, я дарую тебе всю эту землю.
— Ты очень щедр, Владимир, — промолвила Рогнеда и с горечью посмотрела на мужа. — Как пойду я в город отца своего, что скажут тамошние люди?… Когда-то в Полоцке мне было так хорошо, так спокойно, а ныне будет тяжко, как нигде.
— Тогда, молю, возьми себе один из городов, выбери из бояр моих кого хочешь, дам тебе золота, серебра…
— Нет, — решительно ответила Рогнеда, — взять у тебя город, быть твоей рабой, рабой земного василевса, не могу. Видеть перед глазами твоих бояр такожде не в силах, будут убо[287] они рабами мне. Золота и серебра — не надо, ими не купишь душевного покоя. Коли ты, Владимир, хочешь царство земное и небесное восприяти, то я на земле царства не ищу, но стать Христовой невестой жажду, — может, хоть после смерти душа моя обретет покой, успокоение, любовь…
— Что ты задумала?
— Неужто не понимаешь, Владимир? Хочу постричься, принять монашеский чин.
— Монашеский чин? — вырвалось у Владимира. — Нет, ты не можешь, не смеешь так делать…
Рогнеда вдруг изменилась в лице, глаза стали суровыми, даже грозными, лицо очень бледным, просто белым.
— Почему ты этого не хочешь?
— Моя жена — черница в городе Киеве, где я сижу князем?! Нет, это выше моих сил, Рогнеда!
— Напрасно ты боишься, Владимир! Я ведь больше тебе не жена, стать же черницей хочу не для людей, а ради своей души; все делаю лишь для того, чтобы легче тебе было, жажду покоя и тишины, а ты не хочешь мне их дать? Жестокий ты, несправедливый василевс! Тогда… тогда убей мое тело, как убил душу…
Это была последняя капля, переполнившая чашу горькой обиды, Рогнеда упала на колени, схватилась за голову и простонала:
— Вынь из ножен меч и убей меня, убей!
В это мгновение внезапно распахнулась дверь соседней светлицы, и на пороге появился княжич Ярослав.
Необычайно бледный, в одной длинной белой сорочке, он опирался на меч.
— Мати! — крикнул Ярослав. — Кто хочет убить тебя, почему ты на коленях?
Несдержанный и решительный, он выхватил меч из ножен.
— Ярослав! Сын! — взмолилась Рогнеда, поднимаясь с колен. — Как ты встал с поломанной ногой?… Дай руку, я отведу тебя на ложе.
— Я слышал крик, вижу тебя поверженной на коленях, отец хочет тебя убить…
— Нет, нет, сын, — ответила она. — Он не хотел, не хочет убить… Мы только говорили с ним, слышишь, говорили. Иди, сын, молю тебя… — Она схватила его под руки и силой оттащила к двери.
Владимир стоял все это время у окна, смотрел на Днепр, его косы, но ничего не видел. Когда он обернулся, Ярослава в светлице уже не было, а Рогнеда, склонив голову на руки, сидела на скамье у стола.
Владимир подошел к ней. Он знал Рогнедин нрав, — решив что-либо, она никогда не меняла решения. А разве он мог что-либо изменить?! Значит, наступила минута прощания, уже вовек им не встретиться, не свидеться…
— Прощай, Рогнеда! — тихо промолвил Владимир. — Прости и делай как знаешь.
С ее уст сорвалось одно лишь слово:
— Прощай!
Когда Владимир вышел, Рогнеда еще долго-долго в глубокой задумчивости сидела у стола. Она не плакала, нет, слезы иссякли, уста не шевелились, им нечего уже сказать, все тело стало неподвижным, бесчувственным.
Потом она встала и направилась в соседнюю светлицу. Там, на ложе в углу, лежал, уткнувшись головой в подушку, Ярослав.
— Сын мой! — спросила она» сев возле него. — Что с тобой? На нее смотрели грустные, подернутые тоской, совсем не детские, суровые глаза.
— Что с тобой? Зачем ты встал? Нога болит?
Он потряс головой, словно хотел отогнать не дающие ему покоя мысли.
— Нет, нога у меня не болит. Что нога, болит сердце, душа… Я все слышал, знаю, как он тебя обидел, и не токмо тебя — всех нас, детей, меня…
— Храни тебя Боже думать об этом! — воскликнула Рогнеда. — Он меня не обижал, сынок. Он ничего со мной не сделал и не сделает, Ярослав… И не мне он причинил зло, а себе…
Она задумалась, приложила руку ко лбу, стараясь собраться с мыслями.
— Он не такой, как ты думаешь, — продолжала она. — Он добрый, хочет блага всем людям. Но где оно — это благо? Аще нет любови в сердце, нет и добра, нет жизни…
— Ты не все говоришь мне, мати, — но я понимаю, — сказал Ярослав. — Слушай! Ты поступила достойно, что отказалась от отца-василевса, ты воистину царица царицам и госпожа госпожам, аще славу жизни смениша во славу грядущего, но я…
— Ты не кончил, Ярослав…
— Но я все сказал о тебе… А о себе только добавлю: я никогда не прощу это своему отцу…
3
В эту ночь княгиня Рогнеда не ложилась. На Горе погасли огни, из-за Днепра, отражаясь желтым кругом на плесе, выплыла луна. Киев, предградье, Подол охватила глубокая тишина, время от времени прерываемая голосами стражей на городницах да криками вспугнутых птиц у песчаных днепровских кос и мелей; все, казалось, спало — земля, вода, небо.
Не спала лишь княгиня Рогнеда: сидя у раскрытого окна опочивальни, она смотрела на городские стены, днепровские кручи, далекие леса и луга — и ничего не видела; слушала приглушенные шумы и голоса ночи — и ничего не слышала; бесконечные думы наплывали одна за другой — нерадостные, тоскливые, безнадежные.
Рогнеда вспоминала, как в далекие дни молодости искренне полюбила князя Владимира и, словно драгоценный дар, пронесла эту любовь в своем сердце через всю жизнь.
Разная на свете бывает любовь — одни отдаются ей целиком, но очень скоро убеждаются, что все лишь ложь и обман; другие любят так бурно, с таким сердечным жаром, что сгорают в этом огне; счастливы те, кому судьба даровала внешне спокойную, но неугасимую любовь — она, точно солнечный луч, согревает сердца живущих…
Рогнеда полюбила князя Владимира внезапно, после страшной бури, которая смела все дорогое, что у нее было на свете, когда, как ей казалось, лучше уж не жить, — и вдруг перед ней явился тот, кого она еще накануне ненавидела и проклинала, кто убил ее отца и братьев, но кто оказался намного лучше, справедливее, сильнее, чем все люди.
Она отдала ему девичью честь, красоту, сердце — полюбила так, что позабыла горечь утраты отца, братьев, покинула отчий дом, пошла за любимым и готова была идти с ним рука об руку, кем бы он ни был — князем или рабом, куда бы он ни повел ее — на жизнь или смерть, и это не было безумием, нет, это была настоящая любовь.
Недоставало в их любви лишь одного, что позднее всегда болезненно задевало сердце Рогнеды. Она не сказала тогда о своей безмерной страстной любви, а Владимир — суровый воин и князь — не сумел сказать о своей. Но разве люди должны неизменно об этом говорить? Любовь освящает жизнь, жизнь утверждает любовь!
И разве жизнь не утвердила их любовь? Двадцать пять лет — о, как это много, и все эти годы они прожили в заботах, в неустанном труде, князь Владимир ходил без конца в походы, она была ему верной женой, княгиней, хозяйкой большого, богатого дома, матерью живых и умерших детей…
Этого, казалось, было довольно, чтобы доживать жизнь, князь Владимир достиг всего, чего хотел. Рогнеда была ему достойной помощницей. Они вместе выпестовали крепкую семью, в недалеком времени их ждала тихая, спокойная старость…
Что же случилось? Поздняя ночь, княгиня Рогнеда сидит у раскрытого окна, видит в небе месяц, днепровский плес, на нем рябит, отливая серебром, дорожка… Все, как прежде, все совсем не так, ибо не спит она, а рядом в тереме не спит, наверно, и князь Владимир, но они не могут пойти друг к другу, Рогнеда не смеет больше склонить усталую голову на его сильное плечо, они мучаются и страдают, а где-то далеко-далеко, там, где кончается лунная дорожка, плывет лодия, она доставит в Киев царицу Анну.
Что же это — любовь?! Нет, Рогнеда верит Владимиру, не любил и не любит он царицу Анну… Измена? Нет, Рогнеда боится даже вымолвить это слово, ибо изменяют, только если до этого любят по-настоящему… Тогда — неправда, ложь, обман?!
Но что обида, легкомысленная измена и даже неправда для любящего сердца? В эту позднюю ночную пору, несмотря на все, что случилось, невзирая на боль, горечь, отчаяние, Рогнеда чувствовала, что любит Владимира так же точно, как любила когда-то, на заре своей молодости, а может быть, даже больше, ибо все проходит, все кончается, только настоящая любовь не умирает, подобно дивному камню измарагду, что вечно излучает свет. Она — звезда, которая тем ярче светит, чем ночь вокруг темнее.
Впрочем, что значит ее, Рогнедина, любовь, горько то, что он — князь Владимир — не любил и уже не полюбит и никогда-никогда не узнает цену ее любви.
А ночь шла… Среди тишины Рогнеда услышала, как на Горе застучали копыта и затихли у терема… Очнувшись от раздумья, княгиня вспомнила, что она сама велела ровно в полночь запрячь в возок пару лошадей. Велела! — это звучало теперь странно, но последний наказ княгини Рогнеды выполнен — лошади стоят у терема.
Что ж — так тому и быть! Сейчас Рогнеда навеки оставит терем, светлицы, все вещи, к которым так привыкла, и эту опочивальню, в углу которой стоят два ложа… Два ложа, окно, из которого виден Днепр, ветви, к которым можно дотянуться рукой, цветы, — о, сколько хорошего, нежного, ласкового пережито за долгие годы в этой опочивальне. Прощай, прощайте!
На миг мелькнула мысль — переходами отправиться к князю Владимиру и попрощаться с ним? Нет, они уже попрощались. Ни она ему, ни он ей ничего уже не смогут сказать…
«А может, — подумала Рогнеда, — он устал с далекой дороги и спит? Нет, я не смею и не стану его беспокоить…»
Однако она покидала не только мужа — оставались дети, с ними она хочет и должна попрощаться.
Рогнеда зажгла свечу и направилась в переходы, где было безлюдно и очень тихо, зашла в опочивальню Предславы и в соседнюю опочивальню сыновей.
Все они спали: при свете месяца и желтоватого сияния свечи Рогнеда смотрела на их спокойные лица…
«Прощайте! — не смея сказать громко, чтобы не разбудить детей, подумала мать. — Прощайте, мои дети, не поминайте лихом свою мать, не осуждайте ее, может, когда-нибудь вы поймете и будете мне благодарны…»
И все-таки Рогнеда не удержалась — если нельзя уже всех, то она поцелует хоть одного ребенка. Тихо склонившись к дочери Предславе, поцеловала…
Предслава проснулась, раскрыла глаза, увидела перед собой лицо матери, щеки, по которым катились слезы.
— Мати! — прозвучало в опочивальне.
Рогнеда погасила свечу — ложе, дочь, обстановку освещал теперь лишь лунный свет…
— Ты чего, мати?
— Спи, спи, дочка…
«Это только сон», — подумала Предслава и снова смежила веки…
В переходах Рогнеду ждала ключница Амма, одетая подорожному; на голове шаль, на плечах опашень.[288]
— Так что же теперь будет? — спросила Амма у Рогнеды.
— Ты о чем говоришь? — удивленно спросила Рогнеда.
— Ведь ты, княгиня, уезжаешь отсюда?
— Да, уезжаю…
— И я еду с тобой… Что нам брать?
Старая ключница, кормилица Рогнеды, растившая и нянчившая ее, смотрела сейчас любящими глазами на княгиню и готова была идти за ней хоть на край света.
Но Рогнеда была уже не такой, какой знала ее Амма, — на ключницу смотрели несказанно грустные, задумчивые, отсутствующие глаза, и голос у Рогнеды был иной — решительный, твердый, холодный…
— Я уезжаю отсюда, Амма, навеки…
— Куда? Куда, княгиня?
— Не спрашивай! Я буду недалеко, но никогда не приду сюда, и никто с Горы не должен приходить ко мне.
— Уйдем вместе, княгиня?
— Нет. Ты останешься тут, будешь кормить и присматривать за детьми, ты должна заботиться и о князе… Слышишь? Так и делай — и прощай, Амма! Ты заменила мне когда-то мать-и я этого никогда не забуду, так замени же теперь меня.
Княгиня обняла и поцеловала Амму. Они вместе вышли во двор. Там, у крыльца, стоял запряженный парой лошадей крытый возок. Княгиня Рогнеда села. Кони тронулись. В оконце возка проплыло ее бледное лицо…
4
Рогнеда ошибалась, думая, что князь Владимир спит, — нет, он даже не ложился и слышал, когда она прошла по переходам, видел, как села в возок и скрылась за воротами Горы.
Боль терзала его душу и сердце. Он понимал, что Рогнеда поступает правильно, покидая Гору, что они должны разлучиться, и чем быстрее это произойдет, тем лучше будет им обоим…
Ему хотелось одного — попрощаться с Рогнедой как-то более человечно, искренне, душевно. Увидав возок, а затем Рогнеду, он порывался выбежать во двор, подойти к ней, может, обнять, поцеловать, — пусть все знают, как им тяжело!..
Но вокруг притаилась Гора, с виду сонная, в действительности — недремлющая, настороженная, денно и нощно следящая за тем, что делается в княжьем тереме; Владимир не вышел, он смотрел, как возок покатил к воротам, повернул и скрылся…
И князю стало легче — не он, а сама Рогнеда рассудила, как следовало сделать, она избрала свой путь… Пересуды, нет, даже пересудов на Горе не будет — княгиня вольнапо-ступать, как велит ей сердце и разум.
Но князь Владимир все же не мог понять, почему Рогнеда, которой он жаловал лучший город Руси и которая владела большими сокровищами тут, на Горе, оставила все свое богатство и, ничего с собой не взяв, уехала в темную ночь?
На рассвете, когда к нему пришел воевода Волчий Хвост, князь узнал, что делала Рогнеда ночью.
— За воротами Горы, — рассказал воевода, — княгиня велела ехать в церковь, что над Почайной. Там ждал ее священник, окрестивший и постригший ее в черницы. И она тотчас уехала на Предславинский двор. Нет больше княгини Рогнеды, есть монахиня Анастасия.
— Нет княгини Рогнеды… есть монахиня Анастасия, — тихо повторил князь Владимир и неторопливо подошел к окну.
Там медленно нарождался рассвет, за стеной Горы уже виднелся голубоватый, весь словно светящийся изнутри, плес Днепра, желтые, чуть порозовевшие косы, темно-синие леса на левом берегу.
— Монахиня Анастасия! — глухо повторил князь Владимир, коснувшись руками холодного подоконника.
Ему стало легче — слова его прозвучали как-то странно, словно из глубины палаты, куда врывался новый день, рассвет. Теперь Владимир волен поступать так, как требует жизнь…
Однако поступать так, как требовала жизнь, быть свободным и не отвечать за содеянное, князю Владимиру было очень трудно, просто невозможно.
Одевшись в свое обычное темное платно и накинув на плечи багряное корзно, он спустился в сени, где уже стояли воеводы и бояре, велел им идти в Золотую палату, а сам направился в трапезную, где обычно собиралась перед рассветом вся княжеская семья.
В трапезной горели еще свечи. Семья собралась: в углу стояла дочь Предслава, ближе у стены — сыновья; все они приветствовали отца; едва лишь он переступил порог, из-за двери вышла и поклонилась ключница Амма.
Не было лишь одного сына — Ярослава. Но князь знал, что он болен, лежит и, должно быть, еще долго пролежит со своей поврежденной ногой.
В трапезной завтрак был уже накрыт — на столе дымились блюда, лежал нарезанный хлеб, приятно пахло жареным мясом, рыбой, — оставалось лишь сесть и вкусить от каждого блюда…
Но все было не так, как раньше… Когда князь Владимир подошел к столу, чтобы опуститься в свое кресло, а сыновья И дочь хотели сесть на скамьи, тотчас стало видно, что одно кресло рядом с местом князя не занято — это было место княгини Рогнеды.
Конечно, в этом был виноват князь Владимир — следовало предупредить ключницу и незаметно убрать кресло, но сейчас было уже поздно что-то делать.
— Давайте есть, — стараясь скрыть волнение, промолвил князь Владимир.
Все уселись за стол и молча принялись за еду, однако никому пища не шла в горло. Холодно, сумрачно было в трапезной, холод и пустота охватили их души, князь Владимир чувствовал на себе взгляды детей, удивленными, испуганными глазами смотрела на него и ключница Амма…
Князь Владимир знал, что так и должно было случиться — жить им по-прежнему невозможно. Знал и то, что всем будет больно, горько, страшно…
Но все оказалось еще страшней, особенно ужасным казалось царившее в трапезной молчание. Безмолвствовал князь, помалкивали дети, ключница Амма вышла из трапезной так тихо, что никто и не услышал ее шагов.
— Дети мои, — промолвил князь Владимир, когда завтрак кончился, и не узнал собственного голоса. — Я думал… хотел вам сказать, что жена моя, а ваша мать, ушла отсюда навсегда…