Круглые кубики Мосьпанов Анна
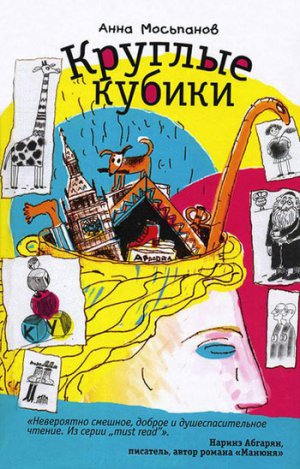
– А Маша с тех пор такая? – Почему-то сел голос. Губы пересохли, а из горла вылетали только шипящие звуки. Словно гласные все отменили, и остались только сухие, как наждачная бумага, обесцвеченные отдельные согласные, никак не складывающиеся в нормальное предложение.
– Маша с тех пор… с той ночи… не произнесла ни одного внятного слова. Только мычание и улыбка эта дикая. И психиатрам ее показывали, и невропатологам, а толку-то? Кто-то говорит, отравление угарным газом. Гипоксия была. Другие утверждают, посттравматический синдром. Ничего нельзя сделать. Она же все понимает, Мик. С ней вполне можно объясниться. Только не говорит и вот, видишь, моет все. Ей все время вода мерещится. Точнее, ищет она воду везде.
– А хлорка почему? – я говорила шепотом, будто боялась потревожить находящуюся на другом конце отделения Маняшу.
– Да кто ж знает? Дедушка твой думает, что это она очищает все вокруг. И себя очищает. А там уж кто знает. – Полина помолчала, сделала глоток воды. – Мика, ты взрослая девушка уже. Знаю, что спросить хочешь. Я деда твоего боготворю. Только это не то, что ты думаешь. У них с бабушкой твоей такой союз – такие только ангелы благословляют. Никому не встать между ними.
– Да, Полина Петровна, я же…
– Мика, я ж не девочка, вижу по глазам, что ты думаешь. Дед, когда демобилизовался, взял нас с Маняшей с собой в Москву. В Подмосковье, в смысле. Я все равно там оставаться больше не хотела – все меня там угнетало. А Маняша, Машенька то есть – она вообще одна осталась. Дед с бабушкой забрали ее с собой. Дедушка твой испытывал страшное чувство вины. Все переживал, что не настоял на ремонте медсанчасти. И Маняшу он, конечно, бросить там, в гарнизоне, не мог. Чувствовал себя ответственным за нее.
Короче говоря, дедуля забрал ее с собой. Сначала она дома у них жила. Комнату он пытался ей пробить через исполком, да без толку. Прописывать же надо куда-то. Но дед твой, когда чего-то хочет, всегда добивается своего. Уж как ему это удалось, не знаю, а только оформили Маняшу дворником при больнице, и она получила служебную жилплощадь. Коморку рядом с лабораторией. Так что Маняша у нас – местный житель. Кстати, совершенно не помню, кто первый ее Маняшей назвал. Ласково так, как ребенка. Так и повелось. Ей тут хорошо, ее все любят. Мы-то…
– Полина, чего болтаешь попусту? – за дверью раздался дедов бас.
– Сейчас, сейчас, открываю, – засуетилась Полина Петровна. – А мы тут чаевничали и сплетничали по-девичьи. Да, Микочка?
– Вижу. – Дед мельком глянул на меня, усмехнулся. – Мика, собирайся. Домой пора. Полина, смену проверь и к Маняше загляни. И не засиживайся тут. Поздно уже. Мика! Через три минуты жду на улице.
– Все сделаю, не волнуйтесь, – пробормотала Полина, но дед ее уже не слышал.
Наскоро попрощавшись с Полиной Петровной, я выбежала из здания больницы. На улице действительно уже стемнело. Моросил мелкий, противный дождик, ветер гонял по больничному дворику обрывок какой-то газеты. Меня колотил озноб. В какой-то момент показалось, что за мной наблюдают. Обернувшись, увидела в ярко освещенном прямоугольнике окна бледное безбровое лицо Маняши. Она, как обычно, улыбалась.
Меня затрясло еще сильнее. Хотелось как можно дальше бежать от этого места, от этого луноподобного улыбающегося лица, от запаха хлорки, от стопочки старых фотографий. Кому она улыбается? Мальчику в пилотке? Мужу? Или себе?
Зажав виски руками, я метнулась к дедушкиной машине. Он уже заводил мотор.
– Быстрее поехали, пожалуйста.
– Едем уже, торопыга, что случилось-то? – Дед сладко потянулся, включил поворотник.
– Ты специально меня оставил с Полиной Петровной?
– Конечно. Жалко, Витьки с нами не было. Вот кому полезно было бы послушать.
– Дед, так же нельзя! – По щекам потекли слезы. Напряжение этого странного дня наконец отпустило, выплеснувшись соленым потоком на кофточку, на бабушкины кримпленовые брюки, на сиденье машины.
Я рыдала всю дорогу до дома. Дедушка мне не мешал.
И только когда мы подъехали к гаражу, уже заглушив мотор, повернулся ко мне, притянул к себе.
– Выплакалась? Умничка. Замечательная ты у меня девочка, Микаэла. Жалко все же, что без Витьки мы эту экскурсию по лабиринтам человеческой души совершили.
Глава 10
Рынок, Алеша и немного о Витьке
Витька в отличие от меня был стопроцентным прагматиком. Его мало интересовали тонкие материи и кружева взаимоотношений. Именно он в голодные 90-е, когда мы, как и полстраны, вынуждены были стоять на рынке, объяснил мне, что торговать не стыдно. Не папа с мамой, а подросток Витька убедил меня, что и мы должны что-то делать, как-то поддерживать родителей.
Я не хочу сказать, что мы были уникальны. В тот момент торговали все. Чем могли. Наиболее предприимчивые наскребали по сусеками какую-то минимальную сумму и собирались в путь-дорогу. В Польшу, в Турцию, кто куда… Еще более хитрые и ушлые перекупали товар у «челноков» уже в России. Чтобы загнать потом на близлежащей барахолке в два раза дороже. Сиреневые, голубые, зеленые болоньевые спортивные костюмы и безразмерные красно-синие клетчатые сумки – универсальные приметы тех лет…
Эти вереницы автобусов, направляющиеся в Турцию, я помню до сих пор. В них – замученные жизнью женщины средних лет с золотыми зубами, пергидролевой завивкой и в тех самых костюмах да мужики неопределенного возраста и социального статуса с неизменной «беломориной». Особо продвинутые курили «Герцеговину Флор» или только появившийся в России «Лаки страйк». Дамы курили «девочковые» пахитоски – черные ментоловые «Море» (произносилось это именно так) в зеленой длинной пачке или такие же, но красные, без ментола. Длинные черные сигареты – символ статуса и определенного материального состояния.
Дорога в Турцию была долгой и гнусной. В Польшу – и того хуже. Знаменитый среди челноков поезд «Москва – Варшава» превращался в дорогу жизни. Выживешь или нет – зависело исключительно от твоего навыка договариваться с бандитами.
На белорусско-польской границе вслед за пограничниками в вагон входили крепкие ребята с мускулистыми руками и вполне прозрачными намерениями и весело сообщали: «Дамы и господа, вас приветствует варшавский рэкет. Приготовьте, пожалуйста, к досмотру личные вещи. Эй, парень, у тебя проблемы? Так мы их сейчас решим!» Всё предельно вежливо, с шуточками-прибауточками. И несчастные челноки открывали баулы и платили дань. А потом привозили в Москву слегка раздербаненные сумки с барахлом – кофты «с люрексом», лосины блестящие и матовые, футболки и джинсы, дамские пиджаки прямого кроя «с плечами». Из Турции волокли кожу всех мастей.
Самой большой барахолкой тех лет в Москве была «Лужа» – знаменитые «Лужники». В принципе, если постараться, там можно было купить все что угодно, включая наркотики, оружие и диковинных зверей без всяких прививок. Вклиниться в ряды торгующих в «Луже» было не так-то просто. Все было поделено-переделено, система была налажена таким образом, что одни привозили, другие торговали, а третьи стригли купоны. Поэтому мелкие и неопытные торгаши начинали с рынков поменьше и попроще.
Торговали и мы. Не чем-нибудь, а обувью. Схема была примитивно проста. В течение недели необходимо было найти в огромной Москве модные и ходовые модели обуви, а в выходные продать их с некоторой выгодой на одном подмосковном рынке.
Родители всю неделю работали за гроши в своих проектных институтах, я училась на дневном отделении в университете, а Витька и вовсе был школьником. Но как-то между всеми делами и заботами крутились и умудрялись искать товар.
Иногда приходилось за день объезжать три-четы-ре фирмы, находящиеся в разных концах Москвы, чтобы в конце дня с горечью убедиться, что нужное все равно не найдено. О том, что нужно, мы узнавали по ходу, там же, на рынке. Есть спрос на женские сапоги на натуральном меху с узким голенищем – это хорошо. Но нужны только коричневые. Черные не идут – хоть ты тресни! А оптовики привезли только черные. Едешь искать.
Находишь классные, коричневые, со шнуровкой, но – полуботинки. Эх, была не была, беру! «Сергеич, если что, я тебе их назад привезу, ты же возьмешь? Что значит, не возьмешь! Ну что ж ты за гад такой, мы же полгода с тобой работаем и ни разу не подводили…» И снова – по кругу.
Разумеется, ни о каком профессиональном анализе рынка никто из нас и понятия не имел. Но публика ходила одна и та же. Работяги с местных фабрик, обнищавшая провинциальная интеллигенция и приезжие из Владимирской области, которых почему-то было очень много в ближнем Подмосковье.
У каждой из этих условных «групп» были свои приоритеты. Провинциалы любили высокие черные сапоги с золотыми и серебряными пряжками и заклепками. Огромным спросом пользовалась у них и лаковая обувь. Врачи, инженеры, учителя и прочие «неприспособившиеся» к реформам бюджетники искали вещи, которые выглядели бы прилично, но при этом особо не бросались бы в глаза. Да и не было у них лишних денег в тот период.
Работяги искали что-то добротное, крепкое, не на один сезон.
Были и такие, которые приходили из раза в раз в ожидании, что подвернется что-то подходящее – прежде всего в финансовом плане. Мы знакомились, беседовали, общались, но помочь ничем не могли. Существовали цены, сбивать которые было уже невозможно, иначе мы оставались в минусе.
Однажды пожилая женщина, работающая поварихой в местной школе, а по вечерам подрабатывающая уборщицей в кооперативном кафе да еще и дворником в местном ЖЭКе, сформулировала для меня основной закон рынка:
– Знаешь, дочка, мне бы сапоги такие, чтобы мех внутри не скатывался. Все равно мне, черные или коричневые, лишь бы теплые, и молния чтоб не сломалась. Пока добреду из школы на окраину, ноги деревенеют. Когда снег чищу, пальцев не чувствую. А в валенках долго ходить не могу. Да и неприлично очень. Сына дразнят… Голытьбой обзывают. А на новые сапоги я в ближайшие пару лет точно не накоплю. Сына одевать надо. Одна его ращу. Лишней копейки нет.
Мы с Витькой эти наблюдения добросовестно записывали в блокнот, опрашивали людей, а дома сортировали и пытались вывести общую модель. В этом был даже какой-то элемент игры, немного скрашивающий монотонные рыночные будни. Работали мы в бешеном темпе. Вообще без выходных. Пять дней в неделю ты занимаешься своей основной работой, а все выходные стоишь на рынке.
Занимать место нужно было в районе шести утра. А значит, выезжать затемно, в пять. В семь на рынке уже появлялись первые покупатели, а до этого нужно было еще разложить весь товар. Принцип работы был до безобразия примитивен. У нас были три точки в разных концах рынка. На первой точке лежал товар с явно завышенными ценами. Точка располагалась прямо у входа.
На второй и третьей точках были уже «правильные» цены, с разницей в крохотную сумму. На первой точке никогда ничего не продавалось, поэтому оттуда мы потихонечку перебрасывали коробки в сторону «гуманных продавцов» до тех пор, пока на «дешевых» точках не разлетались все ходовые модели. Как только этот момент наступал, мы «спускали цены» и там. За день в беготне туда-сюда наматывался не один километр.
На маленький столик у каждой точки мы выкладывали по одной паре обуви каждого наименования, а все остальные коробки хранились в двух машинах. В момент, когда покупатель появлялся и говорил, что ему, к примеру, нужен 44-й размер мужских ботинок, нужно было открыть багажник, перелопатить все стоящие там коробки, выудить пресловутый 44-й (а если его уже нет, то сбегать на другую точку), загрузить все назад и бегом добежать до прилавка, пока покупатель не ушел к конкурентам.
Особенно тяжело приходилось зимой. Мы надевали на себя по три пары шерстяных носков, ватные штаны, несколько свитеров и пуховые куртки сверху. На руки обязательно тонкие перчатки – и руки в тепле, и сдачу отсчитывать удобно. И вот такими вот колобками прикатывались на рынок и потом постепенно, по мере потепления разоблачались.
Доходило до курьезов. Параллельно с учебой в университете я работала в одной приличной газете и часто бывала на всевозможных конференциях. Эти мероприятия нередко проходили в субботу. И бывало так, что я ездила на какую-нибудь встречу в качестве журналиста, а потом, не заходя домой, мчалась на рынок. В машине снимала свой костюм, украшения, приличную одежду, зимой надевала ватные штаны, летом – старые джинсы и кеды и «заступала на вахту».
Однажды на какой-то пресс-конференции, проходившей в пятницу, присутствовала съемочная группа «Вестей». Уж не знаю почему, но оператор долго и нудно снимал сидящих журналистов, в том числе и меня, крупным планом. А на мне был яркий сиреневый свитер с запоминающимся «хомутом». Видимо, на картинке выглядело красиво, потому что при монтаже мою мордочку, не несущую никакой смысловой нагрузки и не имеющую никакого отношения к теме репортажа, не вырезали. И сюжет показали в течение дня несколько раз.
Наутро в субботу я, как всегда, была «на работе». Проходившие мимо кавказские ребята покрутили в руках сапоги, позубоскалили на тему «Ай-ай-ай, такой красивый дэвушка – и на рынке!», а потом один из них вдруг и говорит:
– Слушай, у меня феноменальная память на лица. Голову даю на отсечение, я тебя видел в телевизоре. В синей кофте. Точно! Что-то там по поводу рекламных площадей было.
– Не, – говорю, – мужик. Не мог ты меня видеть в телевизоре. К нам сюда телевизионщики не ходят. Только рэкет. Не морочь голову, иди своей дорогой и не позорь меня перед коллегами.
– Слушай, дорогая, я никогда ничего не путаю! – обиделся горец, которого я оконфузила на глазах друзей. – Я же запомнил! В синем свитере. Ты еще диктофон все время в руках крутила – вот как ручку сейчас. Не поленюсь, выясню. Я упрямый.
– Не в синем, а в сиреневом… Ты еще и цвета не различаешь, – буркнула я и под гогот окружающих коллег-продавцов покрылась красными пятнами.
Ребята купили у нас две пары демисезонных ботинок и сгоняли в другой конец рынка, чтобы принести кофе. Я уже совсем окоченела…
Так и жили.
Зимой особенно страдали ноги. Помню это ощущение деревянных пальцев, покалывающее онемение и невероятный кайф дома, когда можно стянуть ненавистные сапоги, носки, размотать «луковые обертки» и нырнуть в горячую ванну… Наверное, такого кайфа я не испытывала после ни в одном из спа, ни на каких карибских курортах.
Это такое острое упоение от того, что день прошел, ты его честно отработал, руки и ноги болят, но зато есть прибыль. И если сейчас еще немного поспать, то потом вполне можно вечером что-то еще написать, и подготовиться к понедельничному семинару, и отредактировать пару статей. А пока – горячая ванна, крем для рук, рюмка коньяка и спать! Выходные прошли. Скорей бы завтра – скорей бы на работу…
Витька стоял с нами на равных и даже умудрялся иногда продавать больше отца. Покупатели, проходя в лютый мороз мимо лопоухого большеглазого подростка, останавливались и интересовались, куда смотрят родители и почему у них ребенок, вместо того чтобы осваивать физику, занимается барыжничеством. Виктор вступал с моралистами в долгую и продолжительную дискуссию, итогом которой обычно становился весьма приличный навар.
На рынке у Витьки появился друг – не друг… старший товарищ. Так, наверное, правильно. Звали его Алеша.
Алеша был очень симпатичным и совершенно НЕрыночным. Казался мне тогда совсем взрослым, состоявшимся мужчиной. Алеше было лет двадцать пять. А может, чуть больше. Приехал он из глубокой провинции в Москву к брату, уже «почти москвичу», и ютился с ним и его семьей в съемной однушке далеко за МКАДом.
Алеша закончил очень известное военное училище и даже успел послужить. Что произошло дальше, я не знаю. Но, видимо, это «что-то» настолько перевернуло его представления об армии, что он даже слышать не хотел о дальнейшей службе. Объяснял, что ушел сам. Развивать эту тему было бесполезно. Он сразу темнел лицом и превращался в молоденького аксакала. Такое удивительное свойство лицевых мышц, когда человек буквально на глазах стареет лет на тридцать.
Приехал Алеша в Москву без гроша в кармане в надежде найти заработок. Специальности гражданской нет, связей нет, и нужно что-то жрать. Брат – бывший инженер, автор какого-то изобретения – попал под сокращение, устроиться в приличное место не смог, посему крутил баранку в каком-то РЭУ и, мягко говоря, не барствовал. Приняли решение торговать. Брат уволился, сложили все что было и впервые приобрели товар. Торговали они кожей. Сами ездили в Польшу, привозили вещи и в будни стояли на одном московском рынке, а в выходные – на подмосковном. Семь дней в неделю, в любую погоду и при любых условиях.
Алеша мечтал поступить в Инъяз и стать переводчиком. У него с собой всегда был знаменитый учебник Бонк. Треть своей выручки он тратил на покупку каких-то бесконечных пособий по деловому английскому, по грамматике, рыскал по букинистическим лавкам в поисках словарей. Читал Алеша каждую свободную минуту. Сидя, стоя, притулившись около прилавка, где придется. Я немного ему помогала. Мы учились прочитывать транскрипцию, разбирали порядок слов в предложении, изучали страшного зверя по имени герундий.
Учился он остервенело. Порой себе в ущерб. Однажды, зачитавшись, Алеша прозевал мошенников, которые купили у него несколько курток на перепродажу, подсунув вместо толстой пачки денег «куклу». Он показал им товар, покупатели долго мерили-советовались, а он в какой-то момент отвлекся на перевод текста. Когда пришла пора расплачиваться, Алеша не глядя взял деньги у улыбчивой женщины и снова углубился в учебник. Когда же он решил пересчитать полученную сумму, было поздно.
Слух о горе-торговце пошел по рядам. Над Алешей откровенно подтрунивали, но он только смеялся.
– Ну нет у меня деловой жилки, нету! Что ж поделаешь… Да и не один я такой. Мика вон тоже тот еще торгаш. Стоит с учебником философии Средних веков в обнимку, клиентов распугивает. Мы с ней – сладкая парочка… Ну а Антон Афанасьевич – тот вообще продавец от бога. Цены ему на рынке нет! – беззлобно отшучивался он.
Антон Афанасьевич – это отдельная история. Специалист по славянской филологии, торгующий турецким барахлом. Собственно, из-за Антона Афанасьевича все и произошло.
Раз в две-три недели семья Алеши ездила в Польшу. Уезжали по двое – брат с женой или он сам с братом.
Кто-то один всегда оставался «на точке». Собирались в поездку, как на войну. На всякий случай со всеми прощались – черт его знает, как там дело пойдет. Битком набитый челноками автобус в ночи на безлюдной трассе – это дело такое. Но как-то все обходилось. Приезжали всегда довольные, с сумками, заполненными кожей, и с новыми силами становились за прилавок.
Как-то раз после очередной поездки брат пришел на рынок один. Молча, ни на кого не глядя, разложил товар и уткнулся в новый детектив Марининой. Редкие покупатели его, казалось, совершенно не интересовали. На вопросы, где Алеша, или не отвечал вообще или бурчал, что, мол, приболел.
Витька, засланный нашей фракцией на разведку, вернулся какой-то прибитый.
– Ну что, Вить, узнал чего? – подскочила Танюха – румяная, как дымковская игрушка, разбитная украинская хохотушка, ткачиха какой-то разорившейся фабрики, торговавшая кожгалантереей и «резиновыми» черными джинсами и периодически кормившая нас настоящими беляшами.
– Теть Тань, шла б сама да и узнавала, – огрызнулся Витька. – Андрей, братан Лехин, меня даже слушать не стал. Что-то невнятное прогундосил и отвернулся, как будто я пустое место. Витька вам что – мальчик на побегушках?
– Ты поговори так со старшими! – подбоченилась Танька и, выпятив вперед нижнюю губу, пошла прямо на нахохлившегося, злобного Витю. На рынке не так много развлечений, и каждый скандал помогает скоротать время, а значит, приближает окончание рабочего дня. – Сейчас я батьке твоему все объясню, чтобы отродье свое воспитывал! Куда батька-то подевался?
– Тань, ну чего ты к пацану прицепилась? Иди вон, с фляжечки моей коньячку хлебни, – приобнял разошедшуюся Татьяну подоспевший на крики Федор по кличке Печенька – высокий нескладный седеющий мужчина с клочками торчащих в разные стороны плохо промытых волос и глубоко посаженными мутными глазками.
Федор сам себя называл индивидуалом. В смысле, индивидуальным предпринимателем. Каждое утро он привозил на рынок сумки, забитые не портящейся и не требующей подогрева выпечкой – сухим печеньем, булками, баранками и бубликами.
Помимо продуктов у Федора всегда было с собой несколько огромных термосов с горячим кофе и наборы бумажных стаканчиков. Разгрузив машину, Печенька перекладывал все добро в большие сумки на колесиках и развозил по «точкам». Зарабатывал на этом копейки, но много ли надо пенсионеру? Какая-никакая, а прибавка к пенсии, которую Федор получал по инвалидности после не очень понятного несчастного случая на производстве.
После той травмы Печенька слегка приволакивал левую ногу и ненавидел электриков. Какова была связь между этими двумя явлениями и имелась ли она в принципе, не знал никто. Да, собственно, особо-то и не интересовались. Печенька не сильно распространялся на этот счет.
Федор-Печенька был рыночным домовым, а может, добрым ангелом-хранителем. Обладая каким-то невообразимым чутьем, он умудрялся оказываться в эпицентре мелкокрупинчатых рыночных заварушек за пять минут до возможного взрыва.
Дальше на глазах ничего не понимающих зрителей происходило нечто, сравнимое разве что с шаманством, – Федор мелкими шажками семенил вокруг конфликтующих сторон, что-то пришептывал, периодически похлопывая оппонентов по плечам, предлагал коньячку из неизменной старой фляжки и галеты, коих у него всегда было в избытке, подпрыгивал и причмокивал.
Через пять минут недавние соперники протягивали друг другу руки в знак примирения, а Федор, довольный собой, подхватив безразмерные сумки и прихрамывая, незаметно покидал несостоявшееся поле боя.
На рынке даже бытовала народная примета: появился Федор – драке не бывать.
Пока Печенька успокаивал разбушевавшуюся Татьяну, подошел наш папа и шепотом сообщил, что сегодня рынок не досчитался не только Алеши. Антона Афанасьевича тоже нет.
При этом все завсегдатаи знали, что у Антона Афанасьевича недавно состоялось «боевое крещение». Его впервые взяли с собой в Польшу. До этого он приобретал товар у каких-то оптовиков в «Луже» и продавал под Москвой.
Народ на рынке любопытный, до чужих дел ушлый. Когда покупателей нет, стоять дико скучно. А зимой еще и холодно. Если изо дня в день видишь одни и те же лица, они становятся тебе родными. Уже знаешь, что у Петровны дочка в этом году девять классов окончила и в техникум собирается, а Лыкарин с четвертого ряда «девятку» свою разбил, когда со склада выезжал, а на северном выходе вчера карманники появились и у Сашки-лысого вытрясли кошелек со всей выручкой.
Свой микрокосмос. А тут такое дело… Алеши нет, и брат его молчит как рыба. Хрень какая-то…
Ближе к обеду появился бледный Антон Афанасьевич с кругами под глазами и трясущимися руками. Подошел к прилавку:
– Андрей, из-за меня это все! Меня он защищал. Они ж, нелюди, до меня докопались, а Алешка полез меня защищать.
Андрей, Алешин брат, полноватый, уже слегка лысеющий мужчина в застиранной бежевой куртке и настоящих унтах, которыми очень гордился – их он привез с Крайнего Севера в незапамятные времена, еще будучи уважаемым инженером, – только рукой махнул и как-то совершенно беззащитно, по-бабьи, всхлипнул.
Его стол находился всего метрах в двухстах от нас, и при желании можно было если не расслышать разговор, то догадаться о содержании по губам, по интонации, по выражению лиц.
– Иди, Антон Афанасьевич. Чего уж…
Мы, соседи, стояли притихшие и боялись спросить… Потом как-то вдруг, словно по команде, подхватились и кинулись к Алешиному брату. Подойдя, сгрудились вокруг растерянного, тихого Антона Афанасьевича, продолжавшего топтаться около серого, отрешенного Андрея. Наконец Танька, уже успокоившаяся, подзабывшая о конфликте, шепотом спросила:
– Андрей, Алешка-то живой?
– Живой. Бонк его спас.
Больше он в тот день ничего не сказал. Вдруг собрался, покидал в багажник весь товар и уехал, не попрощавшись.
Позже мы узнали, что же произошло. Алеша впервые поехал один, без напарника, и впервые взял с собой навязавшегося Антона Афанасьевича.
Из-за него все и случилось.
Хлипкий, узкоплечий человек с бородкой клинышком и седыми аккуратными бакенбардами, он буквально провоцировал агрессию.
Вот этими вот своими очочками, дужки которых были обернуты лейкопластырем, чтоб не терло за ушами, меховой стеганой жилеткой, которую надевал поверх куртки, томиками Федора Сологуба и Валерия Брюсова, которые читал, когда не было покупателей…
Как-то сборщик дани с гоготом выбил у него из рук книгу. Кажется, на тот момент это был Ходасевич…
Антон Афанасьевич буквально притягивал негатив и хамские выпады. Старенькой шариковой ручкой, заклеенной посередине обычной синей изолентой. Супчиком в термосе, который каждый раз давала ему с собой жена. Раздражал, бесил. Потому что дико не вписывался в грязноватый рыночный антураж, потому что был выпукло, вызывающе интеллигентен. Такими, наверное, изображали «интеллигентишек» на агитационных плакатах 20-х годов.
Филолог вынужден был стоять на рынке. По-другому было просто не выжить. Очень тяжело болела мама. В больницу просили приходить со своими бинтами, клеенками, шприцами и ампулами. А на кафедре платили столько, что хватало ровно на два похода в аптеку. Короче, обычная жизнь. Ничего выдающегося, героического. И романтического тоже ничего. Жизнь. Просто жизнь.
Антон Афанасьевич долго собирался в этот свой первый заграничный вояж. Серьезно готовился, обдумывал будущий ассортимент, любовно выбирал книжки, которые возьмет с собой в дорогу. А потом…
Гопники налетели на автобус с челноками в четыре утра. В непролазной тьме дорогу перегородила иномарка с заляпанными грязью номерами. Вторая подъехала сзади. Бандиты влетели в автобус. Один аккуратно зафиксировал водителя, четверо рассыпались по салону. Привыкшие ко всему торговцы понуро начали выворачивать карманы.
Антон Афанасьевич, прикорнувший в тепле, спросонья не понял, что происходит. А поняв, заголосил, мол: «Ребята, да побойтесь бога! Да сейчас милиция приедет. Да как вы смеете! Да будьте же людьми, здесь же женщины. Да что же вы за нелюди!»
Такие слова из уст вшивого интеллигентишки – это прямо-таки плевок в настоящую пацанскую душу. И один «бычок» аккуратненько так приподнял Афанасьевича над сиденьем с целью привести в чувство раз и навсегда.
В руке у него что-то сверкнуло. «Что-то» могло быть чем угодно, но Афанасьевич предположил, что это оружие. И закричал. Никто, естественно, не вступился. И тут сидевший рядом Алеша, отшвырнув хлипкого филолога, кинулся на «быка».
Из оружия у Алеши был с собой только незабвенный учебник Бонк, который он традиционно читал на сон грядущий.
– Я всегда читаю новые слова на ночь. Несколько раз вечером и еще раз прямо перед сном. Утром проснулся – и все помнишь! – охотно объяснял он всем желающим свой метод изучения лексики.
Учебник и спас ему жизнь. Нож лишь слегка зацепил мягкие ткани. Крови было много, но опасности для жизни никакой…
О том, как братки спешно уходили, как челноки везли окровавленного Алешу до ближайшей больницы, как скидывались из оставшихся неотобранных средств «на благодарность» доктору, Антон Афанасьевич рассказывал скупо, рублеными, жесткими как трехдневная щетина, фразами. Алеше неимоверно повезло. На вопрос о том, как ему, безоружному, пришло в голову полезть на здоровенного вооруженного бандита, сказал позже:
– Вспомнил, что я все же офицер. Рыночный офицер… Нонсенс, конечно. Торгаш по собственному желанию.
Через три недели Алеша как ни в чем не бывало стоял на рынке. В руках у него был все тот же Бонк. Только уже второй том. А Антон Афанасьевич с тех пор привозил с собой два термоса. Жена собирала обед не только своему незадачливому кормильцу, но и его спасителю.
Глава 11
Гришка-Пилигрим
После той истории наши с Алешей пути достаточно быстро разошлись. Мы уехали из страны, и контакт был утрачен. Пересеклись мы много позже, уже в Германии, при совершенно удивительных обстоятельствах, лишь подтверждающих тот факт, что всякий человек встречается на нашем жизненном пути минимум дважды.
Алеша таки выучил английский и уехал в Канаду, где устроился работать простым водителем и через какое-то время поступил в университет – на юридический. Я же тоже решила получать второе высшее образование, и тоже юридическое, только в Германии. И вот в наш город по обмену приехали студенты-юристы из Канады. И среди них Алеша! Вот радости-то было. Мы тогда всю ночь просидели на нашей маленькой кухоньке за воспоминаниями, довольные тем, что нас не сломили ни 90-е, ни иммиграция. А ведь еще неизвестно, что пережить сложнее.
Впрочем, таких как Алеша и Антон Афанасьевич – не готовых прогибаться под существующие обстоятельства и пытающихся любой ценой выжить, оставаясь при этом людьми, на моем пути было очень много. В иммиграции это видно особенно хорошо. Тот недолгий, но очень интенсивный рыночный опыт, точнее происходившее вокруг в те годы, собственно, и натолкнул нашу семью на мысли об отъезде. Непосредственному отъезду предшествовала страшная история с кражей у нас нескольких партий дорогущей немецкой обуви. Папа был на волосок от инфаркта, и решение бежать от беспредела было принято скорее импульсивно, чем рассудочно. Ну а в том, что украденные ботинки и сапоги были немецкого производства, мы усмотрели некий знак судьбы и решили ориентироваться на Германию.
В те годы из страны бежали все, кто имел хоть малейшую возможность. Первым уехал, как ни странно, Витька. Точнее, родители нашли возможность выпихнуть его из опасной, голодной, полу-бандитской Москвы. На тот момент еще несовершеннолетний, брат выезжал по одной из многочисленных программ школьного обмена в Англию. Жил в семье, учился в английской школе. По идее, после окончания он должен был вернуться назад в Москву. Но тут и нам удалось вырваться – чудом появилась возможность выехать в Германию. И возвращаться Виктору было уже некуда. Въехать легально в Германию тоже не было возможности. Оставалось одно – всеми правдами и неправдами добиваться студенческого статуса.
Что касается меня, то, оказавшись за границей, я вдруг поняла, что совсем, совершенно не знаю жизни. Все мои понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо, весь предыдущий небогатый жизненный опыт – и невнятное кратковременное замужество, и череда нелепых, странных романов, и неожиданно свалившаяся на голову нищета 90-х – все это оказалось вдруг совершенно ненужным. Не просто ненужным – лишним. Нужно было брать в руки ластик и каким-то образом стирать, соскребать слой за слоем все ненужные эмоции, связанные с тем, что осталось там, в Москве, и начинать с нуля. Я очень быстро поняла, что в иммиграции выживают только те, кто запрещает себе оглядываться назад.
Всех новых знакомых, попадавшихся на моем пути, – а были это в основном люди, недавно приехавшие в страну, – можно было условно разделить на три категории. Первые находились в полубезумном состоянии эйфории от свалившегося на них западного изобилия, от спокойствия и умиротворения, от того, что больше не нужно опасаться за то, что завтра нечего будет есть, а послезавтра в подворотне полупьяный урод пристрелит твоего ребенка. Вторые были прямой противоположностью – все им не нравилось, все было не то и не так – язык сложный, люди мрачные, кошки менее серые, чем дома, небо определенно не такое голубое, а солнце совсем не солнечное. А третьи… Третьи были как Гришка.
Гришка стал одним из самых первых моих знакомых в этой стране. Сначала он мне страшно понравился. Рослый симпатичный интеллигентный парень – всегда вежливый и улыбчивый, всегда готовый подсобить, если вдруг нужны мужские руки, да к тому же еще и непьющий. Красота, а не Гришка.
Чем он занимался, я сперва толком не понимала. Бесконечно учился на каких-то профессиональных курсах, потом искал работу, не находил, снова учился. Поначалу это было даже забавно. Мы все проходили этот путь: сначала учили язык, потом снова поступали в университет или шли получать дополнительное образование, потом искали работу. И находили. Не сразу, не всегда ту, о которой мечталось, но рано или поздно на ноги становились все. Кроме Гришки.
Что-то с ним было определенно не так.
Я надолго запомнила один очень неприятный разговор, произошедший между нами лет через пять после знакомства. Я к тому времени успела освоить немецкий, оформить права, поступить в университет для получения совершенно нового образования. Параллельно подрабатывала где только могла – и полы мыла, и в баре за стойкой стояла, и за стариками ухаживала. Но так жили абсолютно все молодые ребята, приехавшие покорять новую родину. Все, кроме Гришки. Гришка по-прежнему сидел на пособии, где-то учился, что-то искал, работать на грязной работе отказывался, а места по профессии – был он каким-то компьютерщиком – ему никто не предлагал.
В тот вечер Гришка позвонил нам с мужем – я уже успела развестись с первым мужем и выйти за того самого доктора Михаэля – и мрачно попросил прийти хоть кого-нибудь. Лучше обоих, но если оба не могут, то «и Мика сгодится». Мы с мужем дружили с Гришкой, часто приглашали к себе, поили/кормили/оставляли ночевать. Было в нем что-то такое… Одинокий молодой мужчина, ни кола ни двора, никаких родственников рядом (родители остались в России), с непростой и неустроенной судьбой, о которой мы толком ничего не знали.
Периодически Гришка исчезал куда-то на неделю, потом снова появлялся. Где бывал – не рассказывал, со своими друзьями не знакомил. Да мы особо-то и не лезли. Ему было тепло рядом с нами, он явно тянулся к нормальному семейному быту, к горячим ужинам по вечерам и неспешным разговорам за бокалом вина, к воскресным семейным вылазкам на природу – ко всему тому, чего был лишен в силу своего одиночества. Почему молодой, сильный, интересный в общем-то мужчина остается одиноким, озлобленным и неприкаянным – это другой вопрос. Мы его себе не задавали, но двери нашего дома для Гришки всегда были открыты.
Поэтому, когда Гришка попросил прийти «хотя бы Мику», Мика собралась и пришла. Гришка открыл мне дверь, кивнул, молча пригласил в комнату. Вид у него был жутковатый – запавшие глаза, небритая физиономия в красноватых нагнаивающихся прыщиках, мятые тренировочные штаны. Носки были почему-то разных цветов. Похожих по оттенку, но разных. Один – светло-серый, а другой – чуть темнее. Такое ощущение, что человек не глядя вытащил из горы неглаженых вещей то, что навскидку подходит друг к другу, и нацепил с одной-единственной целью – чтобы тепло было.
Обернувшись, я увидела в дверном проеме спальни ту самую гору белья, небрежно сваленную прямо на незастеленной кровати.
В комнате был страшный бардак. Раскиданные по полу вещи, какие-то книги, старые журналы, газеты. Словно человек в спешке покидает насиженное место, не особо заботясь о состоянии вещей вокруг себя. Я, честно говоря, испугалась. Что же должно было произойти за те несколько дней, что мы с Гришкой не виделись?
Еще в понедельник он приходил к нам на ужин как ни в чем не бывало, шутил, хохмил, с упоением рассказывал о том, как отослал очередную пачку резюме, и вот-вот должны прийти ответы, в этот раз его обязательно возьмут на работу. А сегодня передо мной сидит как будто совершенно посторонний мужчина. Я его таким – в разных носках, с прыщами и мешками под глазами – не знаю! В голову полезли мерзкие мыслишки – ничего себе друзья, называется. Человек загибается, а нам – хоть бы хны.
– Гриш, что стряслось-то? – От волнения у меня пересохло в горле. – Я могу тебе чем-нибудь помочь? Ну не я, муж… не знаю. Гриш?! Ты вообще слышишь меня?
Гришка, никак не реагируя на мой вопрос, сосредоточенно запихивал в раздувшийся до непомерных размеров рюкзак мятые майки, плавки, какую-то очередную брошюру по программированию, прочее барахло.
Наконец поднял голову.
– Слушай, тебе чего-нибудь в Москву надо передать?
Понятно. Значит, опять за старое.
– В Москву? Да нет вроде… так навскидку ничего в голову не приходит. Савельские на той неделе улетели, так я им с собой книги для папиного друга передала. Они уже 20-го возвращаются. Гриш, а ты надолго? К осени назад или снова там в спячку впадешь?
Вопрос мой риторический, я задавала его уже тысячу раз.
Все происходящее сейчас очень напоминало старую, заигранную до дыр пьесу, где каждый из актеров так устал из вечера в вечер повторять одни и те же реплики, что произносит набившие оскомину фразы скорее по привычке, в надежде побыстрее отделаться и от партнера по сцене, и от сюжета как такового.
Гришка выпрямился, посмотрел на меня… нет, не зло, а как на неразумного ребенка, утомившего пустыми расспросами:
– Да достало все! Ну как ты не понимаешь? Мика, ну я не могу больше сидеть в этой конуре под крышей и с утра до вечера пялиться в ящик! Ну не могу! – Гришка привычно побагровел, лоб покрылся бисеринками пота, а очки в недорогой четырехугольной оправе почему-то мгновенно запотели. – У меня ощущение, что жизнь куда-то несется, причем по противоположной стороне улицы… Люди что-то делают, у них какие-то планы, все к чему-то стремятся. Я не идентифицирую себя с этой страной, понимаешь?
Мне стало скучно. Значит, опять отказали в месте. Гришка с упорством ослика рассылал резюме по округе, в радиусе двадцати километров, не желая сделать и шага в сторону. Когда ему – человеку бессемейному, не скованному никакими обязательствами – советовали не зацикливаться на нашем городе, а пробовать искать место по всей Германии, он только отмахивался. Зачем куда-то переезжать, когда можно спокойно сидеть на одном месте, получать пособие и искать себе неспешно работу? Когда-нибудь она, работа, обязательно найдет гениального программиста Гришку. А с места на место пусть неудачники скачут.
Когда наш общий приятель предложил Гришке место практиканта на фирме, где сам трудился программистом, Гришка обиженно надул губы. Он, специалист экстра-класса – и практикантом?! За гроши быть мальчиком на все руки?! Ни за что. Мы бедные, но гордые. «Они еще пожалеют», – эту фразу Гриша с маниакальным упорством повторял после каждого полученного отказа. Они еще пожалеют. Но никто почему-то не жалел, а Гришка по-прежнему едва сводил концы с концами на грошовое пособие, но подрабатывать идти не желал ни в какую. Только по специальности и только на хорошую ставку. Иначе – никак. Позади Москва.
Когда-то давно я пыталась спорить с ним, утешать, объяснять. Набор аргументов менялся от беседы к беседе, периодами мы готовы были перегрызть друг другу глотку, потом мне вдруг становилось жалко этого неприкаянного бедолагу, никак не способного определиться с тем, где же он все-таки хочет жить. Банальные истины из серии «всем трудно» и «иммиграция – это не курорт, учись приспосабливаться к окружающей действительности» до него не доходили, требования собраться и взять себя в руки Гриша воспринимал как акт личного оскорбления, а откровенные насмешки на предмет «ну тогда – домой, к маме, там уже манная каша поспела» его только распаляли.
В какой-то момент ведущий в никуда диалог становился утомительным для нас всех, и мы разбегались каждый по своим углам. Он – надутый как мышь на крупу. Я – убежденная в очередной раз, что «отлично» по предмету «формальная логика» было мне выдано в Московском университете авансом и ораторское искусство явно не принадлежит к числу моих неоспоримых достоинств. Муж давно перестал увещевать Гришку, поняв всю бесплодность этих попыток, и относился к нему как странноватому родственнику. Вроде и тараканов в голове столько, что впору ставки делать, а отказаться от общения невозможно. Родная кровь.
«Хрен с ним, – говорила я себе. – Не хочет и не надо. В конце концов, дорога назад всегда открыта. Сейчас, слава богу, не 70-е, гражданство при выезде никто не отбирает. Хочешь домой – вперед!»
Увлекшись своими мыслями, я не заметила, что Гриша давно накормил досыта свой потертый грязно-серый рюкзак, из распухшего брюха которого почему-ту торчали ласты, и сел передо мной на корточки, по-собачьи заглядывая в глаза. Зачем ему в Москве ласты?
– Микаэла, ну ты меня совсем не слушаешь! – Я так и не успеваю додумать, какая связь между ластами и городом Москвой. – Дело даже не в работе. Да я на это давно забил. Какой я программист, если уже столько лет… Эх, да что там. Понимаешь, я мог бы устроиться куда-нибудь, лишь бы работать… С другой стороны, такие гроши…
– Гриш, да тебе банально тошно. Скучно. Пойми ты, тупо сидеть дома и ждать, что тебя позовут куда-то – это идиотизм. Вдумайся только, ты за столько лет здесь НИ РАЗУ не работал по-настоящему. Все ищешь себя. Я бы на твоем месте…
Ну вот. Это был явный стратегический просчет с моей стороны. Сейчас начнется…
– Мика, иди уже, а? Ну чего ты тут торчишь. – Гришка начал метаться по своей крошечной кухоньке, расшвыривая попадающиеся под руку предметы. Недоеденный кусок сыра с плесневелой, отливающей малиновым корочкой вылетел в распахнутое окно. Чашка с остатками позавчерашнего кофе с грохотом обрушилась в раковину, а сам Гришка свирепо закрутил головой в поисках еще чего-нибудь, что можно немедленно швырнуть, пнуть ногой, растоптать.
Увы, кухня была практически пуста. За семь лет пребывания в Германии Гришка так и не удосужился обставить квартиру хотя бы по минимуму. Старый стол, когда-то притащенный из подвала, где его оставил кто-то из соседей, пара ободранных стульев, пластиковая посуда. Временное пристанище не очень опрятного холостяка. И сам Гришка казался в этой обстановке картонной фигурой, которую притащили на ярмарку на потребу публике.
– Устал я тебе объяснять. Вот еду я в транспорте, и, понимаешь, уставится на меня какой-нибудь немец и смотрит… И думает, вшивый иммигрант… У нас тут и так все разваливается к чертовой матери, пять миллионов безработных, а тут еще ты – получатель социальной помощи. А когда ты где-нибудь с акцентом говоришь… Ты видела их морды? Не, ну скажи, оно тебе надо?! Они, даже поняв тебя, делают вид, что не расслышали! «Повторите, пожалуйста, еще раз. Я вас плохо понимаю…» Тьфу, уроды!
Эту песню мы уже слышали. Много раз и в разных вариациях. Вряд ли сегодня Гришка выдаст что-то принципиально новое. Чуть-чуть не доиграв до антракта пару реплик, я сухо пожелала ему счастливого пути и удалилась.
Домой вернулась в паршивом настроении, пожаловалась мужу. Он только хмыкнул. А чего ты хотела, говорит? Переубедить его? Отговорить снова ехать в Москву? Зачем? Ему здесь тошно, плохо, все не так. Пусть едет. Вот увидишь, совсем скоро ветер переменится и Гришка вернется назад. Ему не здесь плохо – ему с собой плохо. Не бери в голову… Иди, вон, лучше к семинару подготовься…
Больше мы в тот вечер о Гришке не вспоминали, да и он не давал о себе знать. Через три дня пришел первый мейл.
«Мика, прости. Был весь на нервах, нахамил тебе. Извини. Москва – чудо! Жизнь бьет ключом. Мика, здесь все бурлит! Жизнь, понимаешь! А там – болото. Здесь театры, здесь культура, духовность…
Здесь мой родной русский язык… Понимаешь, я дышу в Москве. Дышу полной грудью. Я не боюсь ходить по улицам. Тут родные лица, и никто не упрекает меня в акценте. На днях начну искать работу.
Мика, я хочу работать на родном языке и не чувствовать буравящий спину взгляд. Работы здесь – валом! А с немецким – так вообще. Буду искать место какого-нибудь менеджера по продажам. Ну, или по внешним связям. С моим-то ПМЖ… Мик, может, и вам тоже назад? А? Хорошие врачи всегда нужны. Муж устроится быстро. А тебе на фига это новое образование? Ну какой из тебя юрист, сама подумай? Будешь работать журналистом, как раньше, по тусовкам ходить, о богатых и знаменитых писать. Подумай, Микаэла. Это шанс начать все сначала, и главное – дома! Дома, Мика, дома!»
Я порадовалась за Гришку. Нет, правда порадовалась. Несмотря на все наши разногласия этот чудаковатый, но по-своему симпатичный и светлый человек был мне дорог. Дай ему бог там обустроиться и жить, как он мечтает. Мужику уже под сорок. Пора бы и причалить где-то.
Следующий мейл пришел через две недели. По иронии судьбы первым его открыл муж. Я в тот момент стояла у плиты – к нам должны были прийти гости. Тот самый приятель, который предлагал Гришке место практиканта, с женой. Не дождавшись Гришки, на вакантную должность взяли обаятельного, улыбчивого йеменца, говорящего с жутким акцентом, но готового учиться и трудиться за небольшие деньги. Все, включая нашего приятеля, руководившего проектом, пребывали от трудолюбивого, усердного парня в полном восторге, а шеф уже подумывал о том, чтобы после окончания практики предложить юноше постоянное место. О Гришке и его агрессивном, наполненном горечью и снобизмом отказе выйти на практику, давно никто не вспоминал.
– Мика, я в следующий раз буду с тобой пари заключать! – раздался из комнаты победный клич супруга. – Иди сюда, умная моя девочка, почитай, что нам тут голуби почтовые принесли.
А голуби принесли новое Гришкино письмо. Да не простое, а с обидами.
«Мик, тут все не так просто. Я звоню по объявлению, договариваюсь о встрече. И тут начинается… Понимаешь, они меня на собеседовании спрашивают, где я был все эти годы. А что я им скажу? Что я капитан подводной лодки? Двойной агент? Не знаю…
«А чего же это вы, говорят, к нам назад пожаловали. Да еще из Германии. И чем вы там занимались? И возраст у вас уже…» Мика, здесь без протекции – никуда. Ну или за гроши. Простой работы много. Типа там электрики, сантехники, водилы всякие. Но там иногородние пашут. Мигранты это называется на новорусском. Гастарбайтеры. А на приличную работу не попасть. Или берут молодняк после института, чтоб выращивать для себя. А я кому нужен?»
Я написала Гришке ответный мейл, в котором посоветовала не сдаваться и искать дальше. В родной стране обязательно должно получиться.
Потом Гришка пропал. Месяц, два… Я уже начала волноваться. Мобильник все время был отключен, почту мою он игнорировал, связи с ним не было. Наконец пришла СМС-ка с незнакомого номера: «Послезавтра прилетаю. Страна идиотов. Расскажу все при встрече. Г.»
Мы встретили Гришку в аэропорту. Был он хмур, небрит, грязно-серый рюкзак похудел, ласт почему-то не было. Сам Гришка тоже осунулся и как-то погас.
Отрешенно кивнул мне, протянул руку мужу и не говоря ни слова залез на заднее сиденье машины.
– Гриш, ну что? Не тяни… Тебя обворовали, избили? С мамой что-то? Гриш… – Я теребила его всю дорогу до дома, но Гришка только мычал что-то невразумительное и смотрел в окно, на проплывающие мимо аккуратные немецкие домики, на изумрудные газоны, на ненавистных бюргеров с их не менее ненавистными собаками.
Мы привели Гришку к нам. Пока муж готовил ужин, я запихала его под душ. От него как-то странно, неприятно попахивало. Очень нетипично для чистоплотного, в общем-то, человека.
За ужином Гришка мрачно поднял рюмку водки и наконец заговорил:
– Не, ребят, ну вилы выкидные! Ну эта Россия… Кошмар. Я налью себе еще, ладно?
– Чего кошмарного-то? – попытался уточнить муж. – Ты третий раз повторяешь это слово. Объяснить внятно можешь? И закусывай, Гриш, закусывай. А то сморит мгновенно с дороги. Что-то я не помню за тобой такой страсти к спиртному.
Гришка с аппетитом налегал на бутерброды с красной рыбой, зажевывал петрушечкой.
– Люди, ребят, там злющие. Ужас! Понимаете, повсеместная злоба. Все всех ненавидят. Все только и норовят тебя подцепить, поддеть, растоптать. В метро – грязь, духота, бомжи вонючие… Слушай, там этих бритоголовых развелось… прикинь, они в открытую маршируют. А мне с моей среднерусской внешностью и среднерусским носом это как-то не того… Прикинь, мобилу сперли! В транспорте. Карман разрезали и того. Хорошо, документы целы. Уроды.
– Ну а как с работой, Гриш? Нашел чего? – осторожно перевела я тему.
Гришка снова побагровел, посмотрел на меня волчонком.
– Какой там… Не, ну не идти же мне дворником, в самом деле. Пару раз в Питер даже съездил на собеседование. Ждите, говорят, ответа. Вот с тех пор и жду. Ну подумай сама, зачем оно мне так? При таком-то раскладе? Дворником я и здесь могу. Или, к примеру, почту разносить… Такой-то работы в Германии полно. Гражданство получу, опять же. Я ж здесь уже сколько лет. Завтра же начну искать. Здесь хоть не страшно, дышать можно спокойно. Одно слово, Европа! Цивилизация…
Посидев с часок, Гришка ушел домой.
Ночью мне приснился кошмар. Бритоголовые гонятся за Гришкой, припирают к стене, отбирают мобилу. Потом самый страшный, огромный лысый мужик в кованых ботинках, замахивается на Гришку, беззащитным цыпленком втянувшего в плечи голову с рано появившимися залысинами, и орет: «Ну и где вы были все эти годы? И зачем решили к нам вернуться, да еще из Германии? У нас тут полно своих иногородних сантехников». Я просыпаюсь, не могу сообразить, где я…
Через день Гриша сообщил, что начал активно искать работу, поэтому времени у него теперь будет мало, и чтоб мы все, и я в том числе, его не беспокоили. Мы пообещали не мешать ему в этом ответственном процессе. Попросили только сообщить, когда что-то появится.
Через четыре месяца у меня раздался звонок.
– Мика, тебе в Москву ничего не надо передать? Нет, ну вот только не начинай с начала…
И Гришка снова уехал. На этот раз – окончательно. И несколько лет мы о нем ничего не слышали. Долетали слухи, что вроде бы живет где-то в Москве, работает. Общение он как-то резко оборвал, а мы не стали навязываться.
Прожил Гришка в России несколько лет. А потом ему показалось, что кризис начал звереть, причем не в стране абстрактно, а совершенно конкретно по отношению к нему, Грише. И пора двигаться… в Норвегию. Почему в Норвегию, я понять так и не успела. Мне было сообщено, что в Скандинавии все на редкость стабильно, жизнь хороша, жить хорошо, а уж таким как Гришка – вообще просто замечательно.
Пацан сказал – пацан сделал. Гришка собрал манатки и приехал прямиком в Осло. Устроился работать на какой-то склад. Фирма была немецкая, и Гришка, вполне пристойно владеющий немецким и английским, пришелся там очень ко двору. В логистике разбирался неплохо – благо когда-то здесь, в Германии, закончил некие курсы. Каких только курсов он ни заканчивал… Были среди них и такие.
Контакт снова наладился. Гришка начал забрасывать нас мейлами. И было у него все в полном шоколаде с розочкой сверху. В письмах у него появилась страсть к суффиксам превосходной степени. И страна красивейшая, и люди приветливейшие, и природа обалденнейшая.
Гришка рассматривал фьорды, учил язык, наложил эмбарго на прием пиццы в пользу рыбы и морепродуктов и просил называть себя «просто викинг». Друзья и знакомые, которым он рассылал одинаковые восторженные мейлы, были просто счастливы. Гришка не скупился на подробности, охотно рассказывал, как осваивается в новой стране, как познает культуру и ищет себя.
Контракт у него был временный, но его это совершенно не беспокоило. Норвегия же… Счастливейшая страна.
Однако жизнь – та еще стерва. Длительное использование превосходных степеней не может пройти бесследно – рано или поздно наступает пресыщение. Или диатез. Или и то и другое. Наиболее дальновидные из друзей пытались робко напоминать Гришке, что не надо бы так истово восторгаться, ибо рано или поздно может прийти неприятное разочарование. Но он только отмахивался и продолжал с притопыванием и придыханием распространяться про чудо чудное под названием «Норвегия».
Однако карета превратилась в тыкву раньше положенного срока, и Гришку турнули. Даже в счастливейших странах наступает кризис. Немедленно всем друзьям были отправлены патетические письма о том, что если есть на свете ад – то это Норвегия. Хуже, чтоб не сказать «адее» – только Россия и Германия. В порядке перечисления. И нужно, просто необходимо немедленно искать новую страну.
Мы же с мужем получили короткую СМС-ку со словами: «Еду. Скоро буду. Кризис надо пересиживать в стабильной стране. В Германии. И работы там полно для таких как я. Встретите?»
Глава 12
Вещий Олег, вуду и большие собаки
Витька периодически наведывался к нам в Германию и был в курсе Гришиных перемещений в пространстве. Правда, нашу с мужем не совсем обычную привязанность к странноватому, неуравновешенному горе-программисту не одобрял, утверждая, что любой индивидуум с головой и руками в состоянии прокормить себя в чужой стране – было бы желание. А люди, подобные Грише, мол, самые обычные паразиты, не умеющие и не стремящиеся найти работу.
Справедливости ради следует заметить, что уж кто-кто, а Виктор-то знал о чем говорил. Приняв решение остаться в Англии, он бросил все силы на воплощение в жизнь мечты о стабильной и сытой жизни. После окончания школы ему удалось набрать достаточное количество баллов для поступления в один английский университет. Не Оксфорд и не Кембридж, конечно, но все же университет.
Образование стоило баснословных по нашим меркам денег. Небольшую сумму внесли родители, остальное Виктор получил через специальные фонды, финансировавшие образование неимущих студентов из Восточной Европы. Финансирование покрывало только издержки на само обучение.
Все остальные расходы Витя должен был нести самостоятельно. Крутился как мог. И в пабе работал, и за стариком лежачим ухаживал – сутки через сутки по очереди с другим мальчиком. Двадцать четыре часа наедине с парализованным, которого нужно мыть, переодевать, кормить. Родственники старика по неизвестным причинам не хотели нанимать профессиональных сиделок и предпочитали дешевую рабочую силу без особых претензий. Получал Виктор гроши, но особо не жаловался, справедливо считая, что потерпеть осталось совсем чуть-чуть. Вот сейчас он доучится, станет наконец настоящим дизайнером, и тогда все изменится.
К сожалению, ему никто не рассказал, что самые большие сложности начнутся как раз после окончания учебы. В университете Витька познакомился с несколькими ребятами из бывшего СССР. Все они точно так же правдами и неправдами попали в Великобританию и были готовы буквально на все, чтобы только не возвращаться назад. Оставаться в захолустном студенческом английском городке они тоже не хотели. Манили огни большого города. В двадцать лет не хочется размениваться на мелочи, поэтому было решено покорять Лондон. В конце концов, смелость города берет.
Поэтому после окончания учебы Витька и еще четыре мальчика запаковали свои нехитрые шмотки в рюкзаки и перебрались в огромный, шумный, равнодушный и совершенно неласковый город на Темзе. Денег было – на дорогу и чуток на первое время, чтобы с голоду не пухнуть. Цены в Лондоне страшные. А жить-то хочется все же не под мостом.






