Смута Бахревский Владислав
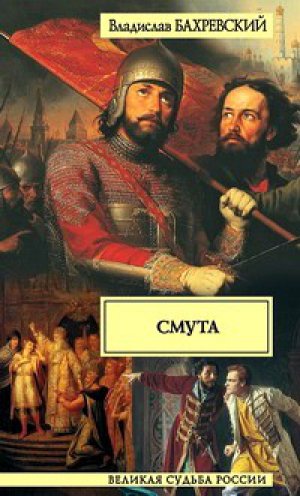
Власьев и во время обручения довел всех до отчаяния. Взять невесту за руку не смел, страшился. Уступил, уж когда терпение у кардинала иссякло, взял-таки Марину Юрьевну за ручку, обернув свою руку платком.
В одном был Власьев приятен и скор – подарки дарить. За десертом он вручил королю шесть золотых кубков, ей, государыне своей, – ковер, шитый золотом, и сорок соболей, шведской королеве золотой кубок и золотой разливальник, королевичу Владиславу четыре золотые рюмки.
А потом король танцевал с нею. Он был вдов. И она перехватила его нескромные взгляды за лиф. Не стыд пережила, но восторг. Она, матушкино равнодушие, была желанна королю!
Королевич Владислав тоже ее приглашал. Ах, как вспыхнуло его лицо, как дрожала его ручка! Он, мальчик, был влюблен в нее!
Марина Юрьевна поднялась с постели, ступила на лунную дорожку и закрыла глаза. Музыка гремела в ее крови. Танцевала, может, мгновение, но мгновение это вобрало в себя все полонезы, мазурки и куявяки, станцованные на балах.
В ушах ее вдруг прошелестел жаркий шепот отца:
– Марина, поклонись его королевскому величеству в ноги! Благодари за благодеяния!
И она, к ужасу Власьева, поклонилась, как приказывал отец, в самые королевские ножки! Король, впрочем, тотчас снял шляпу и поднял ее, царскую невесту.
– Марина! Марина! – Она очнулась, не в краковском Вавеле, а в ярославской избе. Перед нею стоял отец. – Что с тобою?
– Смотрю на лунный свет.
– Мы, Мнишки, – нежны сердцем. Луна и меня волнует до сих пор.
Серебряная голова отца светилась, словно нимб.
– Я здорова, отец. Ты напрасно беспокоишься.
Пан воевода что-то хотел сказать, но не мог собраться с духом. Видно, совет придумал лихое, из ряда вон. Марине Юрьевне захотелось обнять отца, погладить, но она была почти раздета…
– Батюшка! – сорвалось вдруг с языка немыслимое. – Батюшка, скажи ту речь, какую ты произнес в Грановитой палате в присутствии посла его величества.
Пан воевода удивился, но и обрадовался.
– Речь? Я произнес несколько речей…
– Скажи ту самую, где про двенадцать старцев, про северного орла, про Гефестиона…
– Ах, помню, помню! Ты только садись в постель, не остуди ножек своих.
Марине Юрьевне и впрямь сделалось зябко, она закуталась в одеяло и стала похожа на персиянку. Отец же принял позу, провел ладонью по лбу и заговорил вполголоса, но с каждой минутою все более забываясь, где он и перед кем ораторствует.
– Не по розам пришлось идти к престолу, не беспечно, нежась и роскошествуя, благодаря попечению Гефестионову, а сквозь тернии, шипы и крапиву. Уже не Гефестион, а само Всевышнее, небом и всем миром повелевающее, провидение Божие защитило его от мстительного врага и тирана Бориса.
Пан воевода уже раскатывал львиные рокоты, но Марине Юрьевне не хотелось вернуть отца из прошлого.
– Всемогущий Господь явил над нами свое милосердие, как над отроками в вавилонской печи, как над Даниилом среди львов, как над Иосифом, вице-королем и великим египетским старостой, брошенным в колодезь, как над Мардохеем против мстительного Амана. – Рука пана воеводы взлетала к потолку, подбрасывая самые значимые, самые проникновенные слова. – Господь Саваоф показал силу своей длани, тронув сердца поляков, которые тебя, унизительно скитавшегося в чужой стране, возвели на наследственный престол. Показал силу своей длани Тот, чьей столицей – небо, а земля – подножие, когда Virtute Divina польское оружие стало настолько страшно тирану, что, не будучи в силах дать отпор и сломать горсть польских солдат, встревоженные польским мужеством приверженцы Бориса, сто семьдесят тысяч Борисова войска, били челом тебе, наследнику монарха.
– Дальше, батюшка! Дальше! – прошептала Марина Юрьевна, но пан воевода слышал одного себя.
– Почтил тебя тот, перед кем двенадцать старцев слагают свои венцы, почтил тебя, как Давида, презренного безбожным Саулом, уложил Саул тысячу, а Давид десять тысяч. Тот, кто возносится на крыльях ветров, дал мощь и мужество тебе, монарх, против тирана, как бесстрашному Иуде Маккавею. Пусть видит созвездие семи, что не одна лишь воинственная Троя производит на свет Гекторов. Живые подобия Марса родятся в Польше, отважные Камиллы, Аннибалы, Фабии! Доказательством этого служат победоносные пальмы, доставшиеся тебе в удел, и неувядаемые лавры, которыми польский Ахат увенчал чело твое. Носи же долгие годы этот скипетр Северной державы, непобедимый монарх, царствуй с потомством своим и в грядущие века. Пусть твой северный орел обращается к Востоку, очищая его от басурманского полумесяца, и, подобно тому, как душа Ионафана прильнула к душе Давида, так и ты, непобедимый северный монарх, стань единственным Ионафаном моей отчизны Польши!!!
Пан воевода выбросил обе руки вверх, но слова иссякли, и он понял, как все нелепо. И эти воздетые к небесам длани, и этот восторг, эхом звенящий в его ушах. Он бросился к Марине Юрьевне зарыдать, но остановился и сказал тихо, испуганно:
– Ты знаешь… Я не хотел тебе говорить на сон… Однако ж и не сказать грех. Только что наши слуги нашли сверток с письмами…
– С какими письмами? – шепотом спросила Марина Юрьевна.
– От государя Дмитрия Иоанновича. Карла Дунайского, который подбросил сверток, тоже схватили. Клянется, что видел царя.
Марина Юрьевна словно умерла.
– Отчего так темно? – спросила она, не чуя себя.
– Луна зашла за облако.
– Значит, мое несчастье всего лишь затмение?
– Никто из наших не поверил пану Дунайскому.
Лжедмитрий Лжеиванович, лжегосударь, лжехристианин, лжерусский мылся в бане с утра и каждый день. Знать, было от чего отмываться. Может, и по зароку, по болезни, а может, колдуя. Светлее, однако, ни лицом, ни волосом не стал.
Нынче баня была истоплена для самых адских чертей, но Лжедмитрий полеживал на полке и, губасто ухмыляясь, глядел на придворного своего мойщика, у которого от перегрева глаза закатывались.
– Поддай пару, а сам – пшел! Очухайся.
Мойщик плеснул на камни ковш боярского меда и, спасаясь от пара, брякнулся на колени и пополз к двери глотнуть спасительного воздуха.
– Эй! – крикнул ему вдогонку Лжедмитрий. – Так русский я человек али не ахти русский?
– Другого такого парильщика во всем свете нет! Уж очень русский! – простонал мойщик и, не в силах оторвать от пола руки, башкой выдавил дверь наружу.
Лжедмитрий задергал кадыком, загыгыкал, икая, всасывая в себя обильную слюну. И смолк. Знал: смех у него отвратительный.
Закрыл глаза, положил руку на приплывшее к нему духовитое облако. Волосы от жара потрескивали, на голове и на груди, но ему было хорошо. Вытягивая в трубу тяжелые, красномясые губы, он подул на облако, гоня его в немилые сердцу Шклов, в Могилев, ибо других мест, других людей, перед которыми он мог выставить свое теперешнее величие, у него не было. Он плыл на своем облаке и, захлебываясь слюной, гыгыкал, представляя рожи Терешки-просвирника, попа Федора Сазоновича, его задоухоженной попадьи. Голяк на облаке. Ох, как вытаращатся. Лжедмитрий вострил свою мысль и не мог придумать ничего путного, как бы ему посрамнее нагадить на прежних своих хозяев.
– Пузоносители… На Господнем деле нажрали. У Терешки и брюхо как просфора, сначала стопкой прет, потом пенкой расползается.
Все те люди были добры к нему, но не было им прощения, ибо он угодничал перед ними до того сладчайше, что дальше хоть сблюй.
Он ненавидел людей, живущих правильно, трудом, детьми… Он и своих ненавидел, живущих от и до, по ниточке завета. Он превзошел в науке кабалиста Иехиеля бен-Элиезера, но кабала-то и ввергла его в нищету, в пресмыкание перед людьми ничтожнейшими, живущими возле коров своих и собак…
Он открыл в кабале ужасную тайну – ему, безвестному иудею, суждено оставить по себе память в веках. Быть ему на царстве, на слуху, на глазах у Пресветлой земли, затмившейся и помраченной на триста лет. Наивный юноша, он поделился открытием с бен-Элиезером, и был изгнан прочь от лица народа своего, и приволокся в Шклов, и продал свой ум, свое знание за кормежку в домах школяров. Пастух ходил из дома в дом, где корова, а он – где школяр.
Учить тупых, как дерево, оболтусов – все равно что плевать на раскаленные угли. Он зубами скрежетал, видя перед собой рыло тупости. Он так дико и рьяно разбивал в кровь лица учеников своих, что они, сговорясь, изодрали на нем одежду в лоскуты, отнесли в нужник и бросили в нечистоты.
С той поры у него не стало даже рубахи. Ходил зиму и лето в бараньем кожухе. С чучела снял тот кожушок. Поп Никольской церкви Федор Сазонович принял было участие в горемыке, взял в дом, дабы он научил грамоте сына и четырех дочек, но дети вытерпели учителя всего-то недели с три. Стали гнить зубы, и хоть молчи как рыба. Откроешь рот – дух хуже, чем из выгребной ямы. Вот тогда и очутился ученый кабалист на дворе Терешки-просвирника. Дрова для печи таскал, тесто месил. Терешка, долго не церемонясь, гнилые зубы работника на нитку, нитку на дверь. Дерг – и нету!
Лжедмитрий, покачиваясь на медовых облаках, втягивал в себя воздух, и радость очищения от прошлого завертывала его в белые, младенческие пелены. Тотчас захотелось ощутить на себе пахнущую морозом простыню. Он уж и пошевелился было, но тут в баню вбежал канцлер, пан Валавский.
– Князь Роман Рожинский в тронной.
– Приехал?! – изумился Лжедмитрий. – Я же ему приказывал воротиться в стан и ждать моего повеления.
– Ничего не слушает, ваше величество! Мы ему с маршалком, с конюшим вашего величества, говорим, чтоб вышел из дома и подождал, пока ваше величество, придя из бани, сядет на свое место, а он не идет. Ужасно грозный человек.
– Грозный? – Лжедмитрий запустил руку в таз с водой, умылся. – Однако я и впрямь переусердствовал с баней… Пусть принесут мои царские одежды. А Рожинскому скажи – пусть не упрямится, выйдет из дому.
Канцлер, отдуваясь, отирая пот с ушей, убежал. Явился мойщик с простыней, но Лжедмитрий не торопился. Отсмаркивался, пил квас, расчесывал густые, черные как воронье крыло, длинные волосы. Спустя час пан Валавский застал повелителя еще в предбаннике, но одетым, кушающим грибной пирог.
– Князь Рожинский не идет из дому! Ни за что не идет!
– Может, его уморить? – спросил Лжедмитрий, переводя нехорошие глаза свои на мойщика. У мойщика тотчас на правой щеке сделалась огненная рожа.
– У князя Рожинского четыре тысячи сабель.
– Пан Меховецкий говорит, что князь взял у Шуйского деньги. Большие деньги, чтоб, улуча момент, сделать измену и поцеловать меня Иудиным поцелуем. К тому же говорят, в военном деле он больше заяц, чем волк.
– Князь Рожинский?! Ваше величество!
– Его имя Роман, ты говорил? А по отчеству как?
– По отчеству у нас, у поляков, называть человека не принято.
– Так он пришел служить не польскому – русскому государю.
– Отец у князя Наримунт.
– Значит, Роман Наримунтович. Погляжу, что это за дерьмо навоняло в доме моем.
Входил Лжедмитрий в горницу, где у него стоял золоченый деревянный стул, от Рожинского нарочито отворачиваясь. Сел боком, надвигая на глаза дыбом росшие, нежданные для черноволосого рыжие брови.
Князь Рожинский, не желая замечать царского недовольства, вышел на середину горницы, поклонился и заговорил, удивляя, вежливо:
– Великий государь, четыре тысячи храбрейших шляхтичей, горя желанием наказать похитителей вашего трона, пришли к вам, великому государю, и стоят в Кромах.
– Я никого не звал. Их тоже не звал. Они еще ни разу не сошлись в бою со стрельцами Шуйского, но уже требуют денег. Я не выехал из Москвы на белом коне, я бежал от изменников. Я гол как сокол. Хотите денег, хотите теремов, земель, так идите в Москву. Верните мне мою Москву! Верните мне мою милую жену, заточенную в русской глуши! Верните казну, наконец! Тогда получите сполна по делам вашим.
– Да, государь! Тысячу раз – да! – воскликнул с воодушевлением Рожинский, ища глазами среди челяди «царя» пана Меховецкого – неприятеля своего. – Сам я, государь, пришел в Россию ради одной только правды. Попранной правды, государь. Я крепко накажу Россию и русских за подлое уничтожение поляков, прибывших на вашу свадьбу. Одна только кровь сможет смыть поругание чести государыни Марины Юрьевны, супруги вашего величества. Мы добудем, государь, ваш алмазный престол. Моя сабля – ваша воля!
Бряцая шпорами, Рожинский приблизился к «трону» и почтительнейше поцеловал руку государю. Лжедмитрий тотчас пожаловал князя, пригласил на обед за свой стол.
– Роман Наримунтович, – спрашивал он гостя, глядя ему прямо в глаза, – а что в самой Речи Посполитой делается? До нас доходят слухи невероятные. Жив ли благодетель мой, король Сигизмунд?
– Рокош! Повсюду рокош! Николай Зебржидовский на съезде в Стенжице подбил Януша Радзивилла, Яна Гербута, Станислава Стадницкого, и все они ныне требуют, чтобы король удалил от двора любезных его сердцу иезуитов. Ныне в Вавеле то ли Италия, то ли Франция со Швецией, но только никак не Польша.
– Бедный, бедный Сигизмунд! – покачал головой Лжедмитрий. – Я ни за что бы не согласился надеть на свою голову корону Речи Посполитой.
– А вашему величеству предлагали корону царства Польского?
– Предлагали, Роман Наримунтович! Еще как предлагали. Да не для того уродился монарх всея Руси, чтобы им заправлял какой-то архибес, или как там по-вашему, по-польски, зовут архиепископа? Архибестия!.. Вспомнил, вспомнил, Роман Наримунтович, – арцыбискуп!
И снова горящими собачьими глазами ухватил глаза князя.
– Я знаю свое будущее… Потому и не страшусь никого. Я буду на царстве три года. И еще раз случится измена, и опять я познаю скитания, вражду, но мне будет дано воцариться прочно и распространить державу на юг, на запад, на восток, а на север уж дальше некуда.
– Будущее – это будущее, – усмехнулся Рожинский, ему были неприятны собачьи глаза государя. – Я бы более поверил в дар предвидения вашего величества, если бы вы сказали, что будет с нами через день, через три дня.
– Вы хотите знать, что будет завтра? А как у Сигизмунда – рокошу быть. С наперсток.
И гыгыкнул, перекатывая здоровенным, как кость, кадыком и показывая длинные зубы, с прогалами в верхнем ряду.
Прощаясь, князь Рожинский сказал государю:
– Чтобы служить господину не за деньги, а по велению души, необходимо доверие. Я надеюсь, что вы, государь, пожалуете меня беседой с глазу на глаз, тогда бы я открыл моему государю все планы и надежды пришедших со мной шляхтичей.
– Это доброе дело, – согласился Лжедмитрий. – Мой канцлер укажет вам свободный от трудов наших час.
Нет, не с Рожинским, с Меховецким уединился «великий государь».
Небесноглазый, златоусый Меховецкий трогал себя за маленькие женские уши и, упирая тонкие пальцы в благородно сдавленные, в голубых жилках виски, говорил, улыбаясь, но не скрывая испуга:
– Рожинский не умеет быть вторым. Он не успокоится до тех пор, пока ему не подадут на блюде мою несчастную голову… Самое печальное, он и вас, мой драгоценный государь, тотчас превратит в вещь для себя. Даже будет заботиться и беречь, как бережет свою шубу зимой…
Лжедмитрий знал: Меховецкий почитает «драгоценного государя» за игрушку, но все происходящее и впрямь походило на игру во сне.
– Успокойтесь, мой друг! Вы мое бесценное сокровище. Что бы я нынче значил, если бы не доброта вашей милости? – Лжедмитрий перекрестился на иконы в красном углу, поцеловал распятие. – Бог избрал нас для своего дела. Бог не оставит нас. Продолжим наши уроки… Я вновь припадаю к кладезю вашей памяти.
Меховецкий прислонился спиной к изразцовой печи.
– Знобит. И мысли не о том. Ну, вот хотя бы… Марина Юрьевна, шествуя на венчание, не пожелала спрятать волосы под убрус. Попирая обычаи русских, она явилась перед Москвой простоволоса, имея, правда, на голове венец из бриллиантов стоимостью в четыреста семьдесят тысяч гульденов.
Слушая, Лжедмитрий сосредоточенно выковыривал из носа корочки и палец вытирал платком. Подавляя тошноту, неприязнь, бешенство, Меховецкий смотрел поверх головы «государя».
– О свадьбе расскажите… чего нельзя не помнить.
– О свадьбе? – Лицо у Меховецкого, как у всякого сплетника, сделалось вдруг заговорщицким. – А вы знаете, во время свадебного пира Дмитрий Иоаннович потерял бриллиантовый перстень стоимостью в тридцать тысяч талеров…
– Откуда же мне знать? – гыгыкнул государь. – Меховецкий, а что это – талеры, гульдены? Вы так и сыплете тысячами.
– Гульдены дешевле теперь в семь раз…
– В семь раз, – повторил Лжедмитрий и, высморкавшись, убрал платок. – Что вы замолчали, Меховецкий? Вы рассказывали о пропавшем перстне. Нашли?
– Не нашли. Государыня Марина Юрьевна, узнав о потере, сделалась бела, как московский снег! Кольцо-то было венчальное. А государь… ваше величество, стало быть, смеялись… Тестю же вашему, ясновельможному пану Юрию Мнишку, сандомирскому воеводе, сделалось дурно… Правда, не от потери кольца, а оттого, что пил заздравные кубки до дна… А знаете, что очень интересно! Царица назначила на 17 мая маскарад…
Лжедмитрия передернуло.
– Маскарад на 17 мая… Тот, что лежал на Красной площади… был в маске…
– Русские маску называют «харей».
Лжедмитрий ежился, потирал костистые плечи ладонями.
– Побольше подробностей, Меховецкий. Крошечек мне, крошечек! Цыплят кормить…
– Вы любили покупать драгоценности в лавке одного еврея. Имени лавочника не знаю, но он для вас сделал специальные ящики для хранения ваших сверкающих камешков. – Озорно сверкнул глазами. – У вас в наложницах была монахиня! Вы ее прямо из кремлевского монастыря к себе взяли.
Лжедмитрий гыгыкнул.
– Безобразник… А хороша ли Марина?
Меховецкий возвел очи в потолок.
– Одни пожимают плечами, другие говорят, что очень хороша… Фрейлины были все как на подбор. Все ослепительны! В тот ужасный день их ограбили до совершенной наготы. Я видел, как вели бедняжек по улицам голыми. Иных тотчас продавали… О дикость московская! Чего только не тащили из Кремля! Даже подушки с одеялами. Даже пух из перин. Что ухватили, то и несли…
– Этого не надо. Этого я мог и не видеть. О походе расскажите, Меховецкий. О моем походе на Москву.
Они кончили беседу при свечах. Пан Меховецкий поспешил домой забавляться с орловскими девицами, коих он взял силой, но, почитая себя за человека честного, заплатил отцам и матерям этих девиц хорошие деньги.
Лжедмитрий остался наконец один. Дрожа от нетерпения, достал из своего заветного сундучка Пятикнижие Моисеево. Открыл, где открылось, и читал, проливая слезы восторга и любви: «Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его, чтобы он был священником Мне. Пусть они возьмут золота, голубой, пурпуровой и червленой шерсти и виссона. И сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, искусною работою. У него должны быть на обоих концах его два связывающие нарамника, чтобы он был связан. И пояс ефода, который поверх его, должен быть одинакой с ним работы, из чистого золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона. И возьми два камня оникса, и вырежь из них имена сынов Израилевых: шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их».
Слезы заполнили глазницы, буквы искривились, свет свечей преломился, и Лжедмитрий тихонечко, без гыгыканья своего, засмеялся, радуясь кровному родству с единственным народом, который угоден и люб Господу Богу Авраама и Моисея.
Не баней, слезами очистился от всей денной лжи. Он нанялся служить Лжи не ради корысти или исполняя тайный приказ, но единственно из-за своего великого озорства. Созоровал раз – из тюрьмы вышел, созоровал другой – очутился в царях…
Пора, однако, было на покой…
Снял с себя «царские» одежды и облачился во все простое, в солдатское. Постучали. То пришел его старый верный друг со времен Пропойска, где «их величество» признали за лазутчика и кинули в тюрьму. Вот тогда и пришлось расхрабриться в первый раз. Тюремный сиделец московский подьячий Алешка Рукин надоумил назваться Андреем Андреевичем Нагим, родственником царя, и просить, чтоб их с Рукиным отвезли в Стародуб. Урядник Рогоза испугался, помчался к старосте Зеновичу. Из Пропойска их тотчас выпроводили на Попову Гору.
– Где тебя искать, ваше величество, коли нужда случится? – спросил Алешка Рукин, разбирая для себя царскую постель.
– У Николы Харлеского, – недовольно пробурчал Лжедмитрий и взорвался: – Свинья ты, свинья! Боров жирный. На моей постели, свинья, нежится.
Двинул Алешке кулаком в брюхо и пошел прочь из теплого дома под орловское морозное, в частых звездах, небо. Не один, с тремя молчаливыми, быстрыми на руку солдатами.
На ночлег устроились в избе, где квартировали трое солдат из отряда мозырского хорунжего пана Будилы и еще трое, из личной роты князя Рожинского.
– А вы чьи? – спросил Лжедмитрия поручик Тромбчинский.
– Передовые пана Микулинского.
– Слетаются храбрые птицы, сокол к соколу. Не повезло вам, панове. Лавки, полати, печь – все у нас занято. Если желаете, устраивайтесь на полу.
– На полу так на полу, – согласился Лжедмитрий. – У нас тулупы с собой, не замерзнем.
Огня не зажигали, тотчас и улеглись.
– Туда ли мы пришли? Тот ли царь, что царствовал? – спросили людей Будилы люди Рожинского. – Вы давно в здешнем войске, видели, наверное, их величество?
– Тот, – отвечали, посмеиваясь, старожилы. – По нам хоть из дерева выруби – все тот будет. Вам царь надобен или царево серебро?
– Да нехорошо выйдет, коли он – не царь.
– Отчего же нехорошо?
– В Москву придем, а русские возьмут да и не примут, коли царь подменный.
– Нам Москва не очень и надобна. Наберем, сколько на возу поместится, и – домой.
– Дома тоже переполох. Свои своих лупят. Сенаторы на короля, шляхта на сенаторов. И все бесплатно, по одному воодушевлению…
Призадумались. Призадумавшись, заснули.
Утром все уже поднялись, когда прибежал взмыленный Рукин, растолкал заспавшегося государя.
– Еле разыскал тебя, ваше величество! Приехали от Рожинского. Пан Рожинский хочет говорить с твоим величеством без свидетелей…
Люди Будилы и пан Тромбчинский со своими солдатами смотрели на государя во все глаза.
– Ваше величество, не позавтракаете ли с нами? – предложил поручик. – У нас все на столе.
Неожиданно предложение было принято: не хотелось Лжедмитрию ввязываться в распрю между Меховецким и Рожинским.
На завтрак подали яйца вкрутую, хлеб да молоко, но их величество ел и пил не церемонясь.
– А ведь я сражался за честь вашего величества при Добрыничах, – упирая глаза в лицо государю, сказал пан Тромбчинский. – В декабре, помню, было дело. Нас послали по ложбине к деревне, чтобы разрезать армию Мстиславского надвое. Мы бросились на русских как львы. Москалей было пятьдесят тысяч, в нашей же коннице только десять отрядов. Но мы их смяли, били, гнали. Мстиславский выпал из седла, получив саблей по голове. Тысяч семь-восемь наваляли этих рохлей русских. И вы, ваше величество, воззрившись на гору трупов своих подданных, заплакали. Я это видел вот этими глазами.
Пан Тромбчинский потрогал пальцами глаза и показал руки сидящим за столом. Лжедмитрий сунул в рот все яйцо, пожевал, дергая кадыком, проглотил, икнул от сухомятки, поискал, чем запить, и запил прямо из кринки.
– В Добрыничах вас стукнули? – серьезно и мрачно спросил государь пана поручика.
– Слава богу, обошлось! Да ведь мы и потеряли там всего ничего.
– Человек вы молодой, а памяти нет. Двадцать первого декабря мы, верно, победили под Новгород-Северским. А вот двадцать первого января под Добрыничами, если вы там только были, конница, шедшая ложбиной, рассеяла полк наемников… Это был единственный успех в тот печальный день. Нашу пехоту встретили залпами из аркебуз. Десять – двенадцать залпов из десяти тысяч ружей в упор, и остатки нашего войска бежали без памяти. Бежала и кавалерия, в которой вы были… И я бежал… – Лжедмитрий единым духом допил кринку до дна и, отирая губы, поднялся из-за стола. – На поле боя, пан Тромбчинский, мы оставили с вами шесть тысяч убитыми, все тридцать пушек и пятнадцать знамен. Мне о количестве трофеев уже в Москве Михайло Борисович Шеин рассказывал. Он был в те поры чашником, да за хорошую весть Годунов его тотчас произвел в окольничие.
Отворил дверь и, стоя в клубах морозного облака, спросил: – Хотите в окольничие? Кто хочет, пусть послужит мне оружием, не языком. Я не Годунов, не за угодные слова жалую, за дела.
– Постойте, ваше величество! – Пан Тромбчинский выскочил из-за стола, пал на колено. – Должен признаться вашему царскому величеству – я один во всем войске был как Фома неверующий, меня нельзя было убедить, что вы Тот Самый. Но теперь Дух Святой меня осенил.
Лжедмитрий вернулся и, наклонясь, поцеловал пана поручика в лоб.
Измена! Князь Рожинский изменил. Не получив точного ответа, когда государь примет его для важного, тайного разговора, строптивый пан выехал из Орла и уж собирался увести свое войско, как к нему толпой пришли солдаты и казаки Лжедмитрия. Бывшие под Козельском и в Белеве, бравшие Крапивну, Дедилов, Епифань, Карачев, крепко воевавшие под Брянском, они хотели большого дела и большой добычи. У Меховецкого повадки шакала, а чтобы идти на Москву, нужен волк.
На стихийном коло – войсковом круге – тихоню Меховецкого из гетманов свергли и провозгласили гетманом Рожинского. Меховецкий был приговорен к изгнанию. Если же он будет упорствовать и по-прежнему останется наушником при государе, то всякому солдату давалась воля убить его.
В Орел поскакало шумное наглое посольство. Все тот же пан Тромбчинский предстал перед государем и сказал ему: – Ваше величество, вам я слуга, но я подчиняюсь как солдат приказам князя Рожинского, который волей всего войска избран гетманом. От вас, ваше величество, нам только и надобно: выдайте нам на расправу доносчиков, которые прибежали шепнуть вашему величеству в самое ухо, что ясновельможный пан Рожинский – изменник.
– Вот вам! – Гыгыкая, Лжедмитрий выставил под нос пану Тромбчинскому увесистый кукиш. – Я сам поеду на ваше коло, сам погляжу, кто мутит воду.
Сначала явилась полурота с аркебузами, потом соболино-чернобурое облако – «бояре», – и посреди этого облака царь-государь. В золотой шубе, в шапке с золотым верхом, на коне под золотой попоною – солнышко! Охрана и бояре вошли в самую середину коло и образовали еще один круг, впрочем, оставили коридор и «ворота» из хорошо вооруженной конницы.
Лжедмитрий, не покидая седла, слушал, как орут ему, надрывая глотки, – солдаты, казаки, шляхта. Такое он уже пережил в Стародубе. Именно в тот, в светлый свой день, когда из ничего, из никого стал всем, с именем Дмитрий Иоаннович.
Отцы города и особенно атаман Заруцкий пыткой грозили – открывайся, да и только: Дмитрий ты или не Дмитрий?
Как же испугался он тогда! И словно дьявола разбудил. Оскалясь, пожирая глупцов глазами, он заорал на них:
– Бляжьи дети! Вы еще и не узнали меня! – и лупил их палкой, и, нагневавшись, сказал: – Я – государь!
И в государях.
– Ах вы ублюдки! Жопы вонючие! – синея на пронизывающем ветру, потрясая над головой руками, вопил он на всю эту высокомерную военную свору. – Звали государя – я пришел! Заткните же поганые свои глотки! Хотите говорить – извольте, да не смейте забывать, кому говорите! Ошеломленные бранью солдаты примолкли. Уже старый знакомый пан Тромбчинский передал государю волю коло:
– Шляхта и казачество требуют, государь, чтобы ты указал тех, что назвали пана Рожинского, пороча достоинство гетманской булавы и нанося ущерб его княжеской чести, изменником.
– Боярин Рукин! – тотчас позвал Лжедмитрий. – Будь моими устами.
Алешка Рукин забегал глазками по усатому, как тараканы, воинству.
– Великий государь, царь и великий князь Дмитрий Иоаннович всея Руси, – боярин-подьячий задохнулся на ветру, закашлялся, – государь говорит вам, что вы… что вы крепко досаждаете его величеству, государю, царю и великому князю… что вы затеяли не добром свое дело… А посему государь, его царское величество и великий князь всея…
– Всея, всея! Молчи! – крикнул на Рукина Лжедмитрий, кусая посиневшие губы. – Без тебя скажу, дурак!
И, опершись обеими руками на высокое седло, наклоняясь к толпе, стал кричать, брызжа слюной:
– Разохотились выведать у меня имена верных слуг моих? Верных и преданных, кто, единственно совести ради, желает уберечь своего государя от беды?! Жопы! Жопы! Не бывать этому! Кто такое просит, тот последняя жопа! Да если бы сам Бог сошел с неба и приказал мне выдать верно служащих мне, я бы отвернулся от Бога!
– Тебе, значит, дороги только те, кто языком прислуживает? Выбирай, государь: войско, которое пришло служить тебе саблями и жизнями своими, или языкастые наушники?
– Это уж как знаете! Хоть прочь ступайте. Я вас не звал.
Заорали так, словно галки на голову сели:
– Убить! В куски его!
– Он еще и поносит нас гадкими словами! До седла его рассечь!
– Связать его! Зазвал на край земли, а кормит одной бранью непотребной!
Лжедмитрий поднял коня на дыбы и не торопясь, бровью не поведя, проехал коридором через своих, через «ворота», а там уж дал коню шпоры.
Вопль стоял, и пальба была. Сторонники Рожинского вернулись в город, окружили дом государя, привезли пушку.
Валавский, Харлинский, Адам Вишневецкий кинулись к Рожинскому с уговорами.
– По мне? Из пушки?! – Лжедмитрий усмехнулся брезгливо и гадко. – Для них это слишком дорого. Пожадничают.
Охрана и слуги смотрели на него поеживаясь, а он велел накрывать на стол. Девятым ли, десятым чувством он знал: тот, кто нашел его невидящими глазами среди сонма людей, не позволит убить своего избранника. Не для того вызван из ничего, чтобы стать никем.
Оставил около себя одного Рукина.
– Чтоб тебя не видно было, не слышно. Подавай питье по прихоти моей и молчи.
Выпил чарочку вишневого вина – унять внутреннюю дрожь, и дрожь унялась.
Хорошо царствовать без людей. Да сгинут скопом от малого до старого в преисподнюю.
Он чувствовал тьму в душе. И саму душу чувствовал. Вот она, живая, трепещущая, с мамой, с детством, да на самой-то середине вместо солнышка – прореха, круглая дыра, а в дыре Тьма. Он не взывал к силам зла, не заключал сделок, душу не продавал. Покупателя не было… Дыра объявилась сама по себе, и Свет вытек. Пока еще не весь, но он вытечет до последней капли. Это Лжедмитрий «знал».
– Обратного пути у меня нет, – сказал он вслух и выхлебал полный ковш полынной настойки. Горечи захотелось. Тело обдало жаром, но голова мерзла, как на коло, на ветру.
Закрыл глаза, попытался во тьме души углядеть того, кто избрал его.
– Князь Тьмы, где ты?
Душа еще хранила крохи Света, и Свет мешал видеть во тьме Тьму.
Тогда он выпил махонькую чарочку. Невидимый Рукин такими чарочками обрамил края огромного стола. Сделалось смешно, легко. Словно над ним солнце повесили, и сам он стоял на горах, на Нево…
– Господи Боже – Нево! Иордан у подножия, зеленый Иерихон вдали.
Земля благоухала миррой, голубые виноградники подступали к вершине горы.
– Рукин! Скорее подай Псалтырь.
Рукин прибежал с книгой.
– Дурак и осел! Я Псалтырь тебе велел подать, арфу Давидову. – Махнул рукой. – Ничего, кроме вина, не допросишься.
Пригубил из очередной чарки, благородно, едва губы обмочил. Принялся разводить руками, играть глазами, запел на неведомом Рукину языке. То была одна из песен Соломоновых:
– «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные; она – пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением».
Ему казалось, что он бежит руками по арфе, арфа стозвучно рокочет, жар солнца окутывает долины, и от того жара люди воспламеняются любовью друг к другу.
– «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами.
Как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими. Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа; но единственная – она, голубица моя, чистая моя…
Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее; и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах ноздрей твоих, как от яблоков; уста твои, как отличное вино».
Рукин, где ты? Ликуй! Вино поставь самое драгоценное! Передо мной обетованная, любимая, неизреченная Родина. Я видел, я могу умереть.
Он пил вино из поднесенной Рукиным братины, окунаясь в нее лицом, хохоча, икая, и сблевал…
Рукин подхватил государя, отнес в постель. Тот спал и пел во сне и плакал, как ребенок.
Когда проснулся, его умыли, нарядили и отправили на коло извиняться, и он извинился.
– Гетмана пана Рожинского я, великий государь, признаю гетманом. А что до вчерашнего дня, вы не так меня поняли, – говорил, ухмыляясь, облизывая языком красные толстые губы. – Я ругал не вас, а баранов стрельцов, своих баранов. Они мне по дороге к вам досадили.






