Перекличка Камен. Филологические этюды Ранчин Андрей
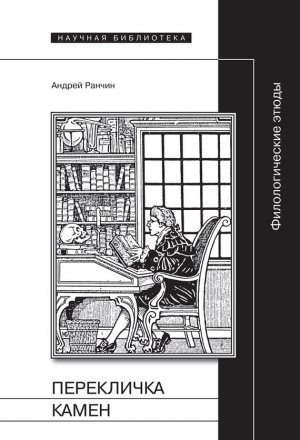
Рассказывая о Малоярославецком сражении, Толстой пишет о решающей роли в нем генерала Д.С. Дохтурова: «По странной случайности это назначение – самое трудное и самое важное, как оказалось впоследствии, – получил Дохтуров; тот самый скромный, маленький Дохтуров, которого никто не описывал нам составляющим планы сражений, летающим перед полками, кидающим кресты на батареи, и т. п., которого считали и называли нерешительным и непроницательным, но тот самый Дохтуров, которого во время всех войн русских с французами, с Аустерлица и до тринадцатого года, мы находим начальствующим везде, где только положение трудно. В Аустерлице он остается последним у плотины Аугеста, собирая полки, спасая, что можно, когда все бежит и гибнет и ни одного генерала нет в ариергарде. Он, больной в лихорадке, идет в Смоленск с двадцатью тысячами защищать город против всей наполеоновской армии. В Смоленске, едва задремал он на Молоховских воротах, в пароксизме лихорадки, его будит канонада по Смоленску, и Смоленск держится целый день. В Бородинский день, когда убит Багратион и войска нашего левого фланга перебиты в пропорции 9 к 1 и вся сила французской артиллерии направлена туда, – посылается никто другой, а именно нерешительный и непроницательный Дохтуров, и Кутузов торопится поправить свою ошибку, когда он послал было туда другого. И маленький, тихенький Дохтуров едет туда, и Бородино – лучшая слава русского войска. И много героев описано нам в стихах и прозе, но о Дохтурове почти ни слова.
Опять Дохтурова посылают туда в Фоминское и оттуда в Малый Ярославец, в то место, где было последнее сражение с французами, и в то место, с которого, очевидно, уже начинается погибель французов, и опять много гениев и героев описывают нам в этот период кампании, но о Дохтурове ни слова, или очень мало, или сомнительно. Это-то умолчание о Дохтурове очевиднее всего доказывает его достоинства» (т. 4, ч. 2, гл. XV [VII: 110]).
Указание Толстого на решающую роль Дохтурова в сражении при Малоярославце полемично по отношению к мнению Д.В. Давыдова, упрекавшего Дохтурова в нерешительности и безынициативности («этот бесстрашный, но далеко не проницательный генерал, известясь об всем этом (о подходе всей наполеоновской армии. – А.Р.), пришел в крайнее замешательство») и считавшего подлинным героем Малоярославецкого сражения А.П. Ермолова: «В этот решительный момент Ермолов, как и во многих других важных случаях, является ангелом-хранителем русских войск. Орлиный взгляд его превосходно оценил все обстоятельства <…>»; «Ермолову выпал завидный жребий оказать своему отечеству величайшую услугу; к несчастью, этот высокий подвиг, искаженный историками, почти вовсе не известен». Рассказывая же о Кутузове, не поспешившем к Малоярославцу в ответ на настойчивые просьбы Ермолова («[ф]ельдмаршал, недовольный этой настойчивостью, плюнул»), Давыдов намекает на почти преступную медлительность в его действиях[229].
Толстой, не любящий Ермолова как неявного врага Кутузова в русском штабе и не принимающий эффектный показной героизм и всякую героизацию и мифологизацию (а Ермолов в общественном сознании ко времени написания «Войны и мира» стал такой мифологизированной героической фигурой, и ему лично была не чужда некоторая рисовка), отдает свои симпатии «скромному» и менее прославленному Дохтурову.
Симпатия Толстого к Дохтурову и откровенное противопоставление его Ермолову («кидающему кресты на батареи») вызваны (по принципу отталкивания), в частности, вероятно, скептическим отзывом Ермолова об этом генерале и о его роли в Бородинском сражении: «Генерал Дохтуров повсюду среди опасности ободрял своим присутствием войска, свидетели его неустрашимости и твердости, но заменить не мог князя Багратиона, его быстрой распорядительности, верования в него приверженных ему войск»[230].
Личную храбрость Дохтурова при Бородине и Смоленске отмечал А.И. Михайловский-Данилевский, глухо упоминая о малодушии герцога Александра Вюртембергского, посланного сменить тяжело раненного Багратиона, но не решившегося приблизиться к флешам, где было очень опасно. (Толстой намекает на эту историю словами «когда он (Кутузов. – А.Р.) послал было туда другого».) Александр Вюртембергский во время Бородинского сражения, посланный М.И. Кутузовым к батарее Раевского на смену раненому П.И. Багратиону, не доехал до места и сразу приказал войскам отступать; Кутузов был вынужден передать командование от него генералу Д.С. Дохтурову: «Прибыл Герцог Александр Вюртембергский, до тех пор находившийся подле Кутузова, и посланный им на левый фланг при первом известии о ране Князя Багратиона. Вскоре потом поручено начальство над 2-ю армиею, бесстрашному защитнику Смоленска, Дохтурову»[231]. Один из источников сведений Толстого о Дохтурове – рассказ самого генерала о своей роли в Бородинском сражении; он приводится в очерке А.И. Михайловского-Данилевского «О генерале Дохтурове» (Сын Отечества. 1817. Ч. 35. № 2. С. 79–80)[232].
По-видимому, упоминая о военачальниках, воспетых в стихах и возвеличенных в прозе, Толстой подразумевает в первую очередь, помимо Ермолова, генерала Раевского. О вымышленном подвиге Раевского и его сыновей упоминается, например, в стихотворении В.А. Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812):
- Раевский, слава наших дней,
- Хвала! Перед рядами
- Он первый грудь против мечей
- С отважными сынами[233].
Об этом же событии упоминает военный историк И.П. Липранди[234]. Сказано о нем и в «Очерках Бородинского сражения» Ф.Н. Глинки, и в «Стихах генералу Раевскому» (1812) его брата С.Н. Глинки[235].
Раевский и Дохтуров дважды во время войны 1812 года защищали одну и ту же позицию. В Смоленске корпусом, которым командовал Дохтуров, был сменен понесший большие потери корпус Раевского; за Малоярославец сражались части русской армии, возглавляемые Д.С. Дохтуровым и А.П. Ермоловым, позднее к ним присоединились солдаты Раевского. О Раевском Толстой не упоминает, так как тот, подобно Ермолову, стал в общественном сознании мифологизированной героической фигурой.
Близкая к толстовской характеристика Дохтурова как человека, чуждого «порывам храбрости блестящей», но истинно мужественного и деятельного, дана в «Очерках Бородинского сражения» Ф.Н. Глинки[236].
Оценивая действия русских и французских войск на Бородинском поле, Толстой обронил замечание, включенное в скобки: «(Действия Понятовского против Утицы и Уварова на правом фланге французов составляли отдельные от хода сражения действия.)» (т. 3, ч. 2, гл. XIX [VI: 196]). Высказывая это замечания как нечто само собой разумеющееся, Толстой совершенно пренебрегает устоявшимся мнением военных историков.
5-й Польский корпус генерала Ю. Понятовского, действуя против русских войск у деревни Утицы на Старой Смоленской дороге, должен был обойти русский левый фланг. Изначально Наполеон рассматривал именно это направление удара на левом фланге, укрепленном слабее, чем правый фланг русской армии, как основное. Он предполагал ударом по левому флангу оттеснить русскую армию в угол, образуемый слиянием реки Колочи и Москвы-реки и там запереть его. Сторонником такого плана был маршал Л.-Н. Даву. Однако в дальнейшем, бросив основные силы против левого фланга русских не возле Утицы (где пересеченная лесистая и частично заболоченная местность затрудняла и атаку, и оборону), а севернее, против так называемых Багратионовых флешей, Наполеон предпочел фронтальную атаку. Он был уверен в победе и, кроме того, боялся, что в случае флангового удара по их войскам русские опять отойдут, не приняв генерального сражения. В ходе Бородинского сражения бой у Утицы шел с переменным успехом. В итоге Понятовскому пришлось отойти за Утицу и занять оборонительную позицию.
Атака лейб-гусарской кавалерии 1-го корпуса генерал-лейтенанта Ф.П. Уварова и казаков атамана М.И. Платова была произведена по приказанию М.И. Кутузова, отданному около 10 утра. Русская конница внезапно появилась на левом фланге французов у деревни Беззубово. Этот рейд русской конницы заставил Наполеона бросить на усиление левого фланга дивизию из Молодой гвардии, которая была первоначально направлена для участия в бою за Семеновский овраг; Наполеону также пришлось приостановить подготовку третьей атаки на центр русских войск (на Курганную батарею, или батарею Раевского). Для противодействия Уварову и Платову западнее Бородина Наполеон направил войска вице-короля Е. Богарне и корпус Груши[237]. Однако в рейде Уварова и Платова русская кавалерия не развила успех и была с потерями опрокинута. М.И. Кутузов, по-видимому, не был удовлетворен результатами атаки французского фланга кавалерией Уварова и Платова (в отличие от других генералов Платов и Уваров не были им представлены к наградам). Весьма сдержанно оценивали действия Платова и Уварова М.И. Барклай де Толли, А.П. Ермолов. Рейд был произведен силами всего лишь 4,5 тысяч кавалеристов, причем казаки Платова остановили натиск, занявшись грабежом, захватом трофеев во французском тылу[238]. Значение этого рейда по-разному оценивается историками, хотя все они признают, что он был глубоко не случайным и вписывался в общий замысел Кутузова.
А.И. Михайловский-Данилевский убежден, что «[д]ействия Платова и Уварова имели на ход сражения влияние чрезвычайно важное и вполне оправдавшее ожидания Князя Кутузова». Благодаря этой атаке Кутузов заставил Наполеона отказаться от опасного для русских решения ввести в бой Молодую гвардию: «В подкрепление кавалерийских атак Мюрата послал он (Наполеон. – А.Р.) молодую гвардию. Назначенная решить участь сражения, гвардия тронулась, но едва прошла небольшое расстояние, Наполеон вдруг заметил на своем левом фланге Русскую кавалерию, отступление некоторых колонн Вице-короля (Евгения Богарне. – А.Р.), беготню и тревогу в обозах и в тылу армии»[239].
Михайловский-Данилевский, бывший сам очевидцем и участником Бородинского сражения, вспоминает: «Тем, кто находился в Бородинском сражении, конечно, памятна та минута, когда по всей линии неприятеля уменьшилось упорство атак, огонь видимо стал слабее, и нам, как тогда кто-то справедливо заметил, “можно было свободнее вздохнуть”. Вот одна из главных причин, лишивших Наполеона возможности воспользоваться победою, уже склонявшейся на его сторону. Столь счастливый оборот был непосредственным следствием превосходного маневра Князя Кутузова – маневра, до сих пор неоцененного достойным образом»[240].
Полемическое замечание Толстого мотивировано, очевидно, характерным для него отрицанием роли военной науки, тактики и стратегии: Кутузов мудр, но эта не мудрость стратега, исход сражения решился благодаря стойкости и правоте русских, а не благодаря полководческому искусству их главнокомандующего.
Кроме того, рейд Уварова и Платова ко времени создания «Войны и мира» стал восприниматься как почти безусловный образец и полководческого гения Кутузова, и отчаянной, удалой храбрости русских кавалеристов. А один из командиров кавалерии, участвовавшей в атаке, атаман М.И. Платов, превратился в национальный символ лихости и непобедимости. Автор же «Войны мира» именно поэтому его даже не удосужился упомянуть.
Рассказывая о вступлении наполеоновской армии в Москву, Толстой описывает отчаянную и безнадежную попытку нескольких безвестных русских защитить от французов Кремль. Сопротивление было подавлено очень быстро: «За щитами больше почти ничего не шевелилось, и пехотные французские солдаты с офицерами пошли к воротам. В воротах лежало три раненых и четыре убитых человека. Два человека в кафтанах убегали низом, вдоль стен, к Знаменке.
– Enlevez-moi a [Уберите это], – сказал офицер, указывая на бревна и трупы; и французы, добив раненых, перебросили трупы вниз за ограду. Кто были эти люди, никто не знал. “Enlevez-moi a”, – сказано про них, и их выбросили и прибрали потом, чтобы они не воняли. Один Тьер посвятил их памяти несколько красноречивых строк: “Ces misrables avaient envahi la citadelle sacre, s’taient empars des fusils de l’arsenal, et tiraient (ces misrables) sur les Franais. On en sabra quelques’uns et on purgea le Kremlin de leur prsence” [Эти несчастные наполнили священную крепость, овладели ружьями арсенала и стреляли во французов. Некоторых из них порубили саблями, и очистили Кремль от их присутствия]» (т. 3, ч. 3, гл. XXVI [VII: 366–367]).
Характеристика Толстым фрагмента из книги А. Тьера (Thiers A. Histoire de Consulat et de l’Empire. Bruxelles, 1856. T. 14. Р. 414), несомненно, исполнена иронии: «красноречивые строки» для не принимающего и не переносящего риторику автора «Войны и мира» – отнюдь не похвала. Банальное по сути («несчастные», «священная крепость»), «красноречие» Тьера контрастирует с предметной точностью страшного события: бревна, трупы и живые еще люди именуются одним и тем же обезличенным, пустым словом «это»; французы добивают раненых; то, что мгновение назад было человеком, стало ненужной и неприятной вещью, способной лишь вонять.
Эта вроде бы бессмысленная попытка защитить Кремль – действительно подвиг, и, как обыкновенно у Толстого, при описании подвига риторика героического совершенно неуместна.
«Красноречивые строки» Тьера в толстовском переводе на русский язык еще и лживы: Кремль защищало девять русских, в то время как в переводе о защитниках Кремля сказано «наполнили священную крепость»; глагол «наполнили» в этом контексте может относиться только к множеству людей, к огромной толпе. Оборот «avaient envahi» не обязательно должно переводить именно таким образом; возможен и глагол «заняли», который не ассоциируется обязательно с толпой, с большим числом людей. Но и оборот «заняли крепость» плохо подходит к нескольким людям, защищавшим ворота.
Говоря о том, что лишь французский историк вспомнил о безымянных защитниках Кремля, Толстой намеренно, полемически неточен. В «Описании Отечественной войны <…>» А.И. Михайловского-Данилевского сообщается, что Никольские ворота Кремля защищало «человек 500»[241]. Отвергая вымышленную сцену героического воодушевления толп москвичей, Толстой упоминает о подвиге нескольких простых русских людей, оставшемся незамеченным.
Рассказывая об отступлении французской армии, Толстой пишет: «Ней, с своим десятитысячным корпусом, прибежал в Оршу к Наполеону только с тысячью человеками, побросав и всех людей, и все пушки и ночью, украдучись, пробравшись лесом через Днепр» (т. 4, ч. 3, гл. XVII [VII: 175]). В изложении писателя отход корпуса Нея превращается в паническое и преступное бегство, вызванное страхом маршала («прибежал», «побросав»). Ней бросает людей на произвол судьбы, теряет оружие, действует, как тать в ночи. Героически-отчаянный переход остатков корпуса Нея через Днепр Толстой превращает в воровскую безопасную переправу, как бы в переход посуху. Показателен выбор писателем логически невозможного, абсурдного оборота «пробравшись лесом через Днепр»: получается, что лес растет на водной глади реки или что Днепр вообще не река.
Толстой тенденциозен и несправедлив к Нею.
На самом деле все было совсем не так. У Нея было около 7 тысяч солдат (по другим данным, около 8500), 400–500 кавалеристов и всего 12 орудий, за его отрядом следовало около 8 тысяч больных и раненых, небоеспособных солдат. Наполеон был уверен в неизбежной гибели Нея. Ней, прикрывавший отход наполеоновской армии, под Красным, «отрезанный от остальной армии, после страшных потерь – из семи тыс. было потеряно четыре – был с оставшимися тремя прижат к реке почти всей кутузовской армией. Ночью он переправился через Днепр севернее Красного, причем, так как лед был тонок, много людей провалилось и погибло. Ней с несколькими сотнями человек спасся и пришел в Оршу»[242]. По словам Е.В. Тарле, именно Нею, шедшему в арьергарде французской армии, «суждено было спасти отчаянной борьбой и искусным маневрированием» Наполеона и остатки его армии. «Русские были в тылу, русская пехота стояла по обе стороны, русские открыли артиллерийский огонь с флангов. Впереди был лес, запорошенный снегом, без дорог, за лесом – Днепр. Французские орудия были подбиты. Ней был сдавлен со всех сторон. Вдруг русский офицер явился перед Неем с предложением сдаться: “Фельдмаршал Кутузов не посмел бы сделать такое жестокое предложение столь знаменитому воину, если бы у того оставлся хоть один шанс спасения. Но 80 тысяч русских перед ним, и если он в этом сомневается, Кутузов предлагает ему послать кого-нибудь пройтись по русским рядам и сосчитать их силы”. Что Наполеон и маршалы уже ушли и находятся очень далеко, это Ней знал. Слова русского офицера звучали убедительно.
Есть несколько <…> показаний об ответе, который дал Ней: “Императорский маршал в плен не сдается! Под огнем люди в переговоры не вступают!” <…> Ней сказал своим генералам: “Продвигаться сквозь лес! Нет дорог? Продвигаться без дорог! Идти к Днепру и перейти через Днепр! Река еще не замерзла? Замерзнет! Марш!” – приказал Ней. Около 3 тысяч человек прошло за ним без дорог сквозь покрытый снегом лес к реке. Русские сначала потеряли их из вида и стали брать в плен те тысячи безоружных раненых, которые плелись за арьергардом. Ней дошел до реки. Тонкий, еще хрупкий лед покрывал поверхность Днепра “Вперед!” – крикнул маршал и первый вступил на ненадежный лед.
По этому льду еще никто из местных жителей не отваживался пройти. Ней прошел первый со своим корпусом.
Ней перешел Днепр, потеряв из 3 тысяч солдат и офицеров 2200 человек. Те солдаты его арьергарда, которые спаслись при этой переправе, рассказывали о том, как много их товарищей провалилось в полыньи и исчезло подо льдом на их глазах». Русские, воевавшие с Наполеоном, оценили действия Нея как подвиг, достойный вечной славы. Русский генерал В.И. Левенштерн писал: «Ней сражался как лев <…>. Этот подвиг будет навеки достопамятен в летописях военной истории. Ней должен бы был погибнуть, у него не было иных шансов к спасению, кроме силы воли и твердого желания сохранить Наполеону его армию»[243].
Толстой дегероизирует подвиг Нея, так как не желает признавать величие Наполеона и лиц из его окружения и так как не приемлет устоявшихся, ставших общепринятыми мнений о героических деяниях.
В частности, писатель, несомненно, спорит с военным историком М.И. Богдановичем, высоко оценившим действия наполеоновского маршала: «Французские писатели справедливо хвастают мужеством Нея, который не только сохранил присутствие духа в самых затруднительных обстоятельствах, но умел внушить его своим солдатам»[244].
Две смерти: князь Андрей и Иван Ильич
Платоновский Сократ в диалоге «Федон» говорил о мыслителях: «Те, кто подлинно предан философии, заняты, по сути вещей, только одним – умиранием и смертью»[246]. К смерти и к вечности и у Платона, и во всей философской традиции, не порывающей с рационализмом, подготавливает человека разум, искусство рассуждения. Писатель и мыслитель граф Лев Николаевич Толстой был заворожен смертью как «чудом превращения, вечно загадочного и непонятного»[247].
Изображая смерть князя Андрея Болконского на страницах «Войны и мира», Толстой обращается к банальной на первый взгляд паре метафор «жизнь – сон» и «смерть – пробуждение». В виде чеканной формулы первая из двух метафор вынесена в заглавие драмы П. Кальдерона, Один из ее героев, король Басилио, заключает свой монолог словами: «<…> В этом мире каждый, // Живя, лишь спит и видит сон»[248], а его сын принц Сехисмундо развертывает этот тезис, сплетая обе метафоры:
- Жить значит спать, быть в этой жизни –
- Жить сновиденьем каждый час.
- Мне самый опыт возвещает:
- Мы здесь до пробужденья спим[249].
Действительно, эти иносказания принадлежат к «общим местам», к литературной и культурной топике, однако их воплощение и функции в толстовском тексте совсем не тривиальны.
Тяжело раненный Болконский видит сон, в котором ему представляется смерть (страшное и безликое «оно»), пытающаяся войти в дверь, которую умирающий тщетно пытается затворить: «Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой он лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они сбираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие, важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. Оттого, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит оно. Но в то же время как он бессильно-неловко подползает к двери, это что-то ужасное, с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что-то не человеческое – смерть – ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия – запереть уже нельзя – хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и, надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять затворяется.
Еще раз оно надавило оттуда. Последние, сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер.
Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собою усилие, проснулся.
“Да, это была смерть. Я умер – я проснулся. Да, смерть – пробуждение!” – вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.
Когда он, очнувшись в холодном поту, зашевелился на диване, Наташа подошла к нему и спросила, что с ним. Он не ответил ей и, не понимая ее, посмотрел на нее странным взглядом.
Это-то было то, что случилось с ним за два дня до приезда княжны Марьи. С этого же дня, как говорил доктор, изнурительная лихорадка приняла дурной характер, но Наташа не интересовалась тем, что говорил доктор: она видела эти страшные, более для нее несомненные, нравственные признаки.
С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна – пробуждение от жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения» (т. 4, ч. 1, гл. XVI [VII; 70–72]).
Трактовка жизни как «сна», а смерти как «пробуждения» для Толстого, очевидно, очень значима: Толстой дважды выражает этот мотив: сначала в размышлении князя Андрея, затем – в авторском комментарии к сновидению и его последствиям для больного. Новизну полустертым метафорам придает их включение в событийный ряд: князь Болконский действительно засыпает, и во сне он не в силах предотвратить приход смерти, пытающейся войти через дверь[250]. Он переживает собственную смерть во сне, умирает в пространстве сна и в этот момент пробуждается. Пробуждение, вызванное чувством собственной смерти, таким образом, является освобождением, спасением от реального, а не метафорического сна – кошмарного, давящего, вызывающего «холодный пот». Но кошмарная мнимая смерть, произошедшая с любимым толстовским героем во сне, в глубинном и глубочайшем смысле слова оказывается реальностью – явью высшего, духовного рода, смертью плотского и душевного человека и рождением человека духовного. Князь Андрей «пробудился» не только от сна, но и от жизни. Душевная смерть и рождение Болконского – нового, духовного «я», ничем не привязанного к бренному, им покидаемому тварному миру, – совершаются задолго до смерти физической. Однако пробуждение от сна и от жизни семантически приравнено к позднейшей телесной смерти: проснувшийся Болконский – это уже другой человек, освободившийся от земных привязанностей, не боящейся кончины и видящий духовным взором сокровенное, прежде закрытое от него «завесой». Это пробуждение-освобождение – процесс, а не одномоментное событие, однако сознанию самого умирающего оно открывается как мгновенное, наподобие пробуждения от сна физического. Это «пробуждение» истолковывается автором как почти произвольное, как словно бы добровольное отрешение от земного существования: врач объясняет ухудшение состояния больного «дурным характером» лихорадки, но Наташа верно видит «несомненные, нравственные признаки» близкого ухода.
Поэтому невозможно согласиться с мыслью Д.С. Мережковского, тонко проанализировавшего смерти толстовских героев, но убежденного, что их предсмертные мысли и чувства вторичны от плоти, от ее болезни и ран: «Есть ли это, однако, последнее освобождение, победа духа над плотью? Так Л. Толстой думает, или хотел бы думать. Но едва ли оно так. Ведь нечто новое, решающее здесь произошло сначала в теле; душа только отражает то, что уже произошло в теле; только объясняет слабость тела, как “слабость любви”, как сознание своего страшного одиночества и беззащитности; но собственно от себя ничего не прибавляет. И здесь, как везде, как всегда у Толстого, не тело следует за душою, а, наоборот, душа за телом: что сначала в теле, то потом в душе. Телесное первоначально, духовное или, лучше сказать, “душевное” – производно. Душевное вытекает из телесного, как следствие из причины. Тело уходит из жизни в не-жизнь, опускается в “черную дыру” – и душа влечется за телом; тело тянет душу. Воскресение духа есть только умирание тела, не начало чего-то нового, сверхживотного, а только конец старого, животного – отрицание плоти – одно отрицание, без утверждения того, что за плотью»[251].
Пример с умиранием князя Андрея не вписывается в полной мере в концепцию Мережковского, основанную на слишком схематичной дихотомии «Толстой как приверженец “религии плоти” – Достоевский как адепт “религии духа”».
Страдания тела, предсмертная болезнь героев Толстого – это не столько причина, сколько условие их «пробуждения от жизни» или воскресения. Чтобы подняться над собой, необходимо пережить катастрофу, и это у Толстого относится не только к смерти: графу Пьеру Безухову приоткрывается истина после дуэли, на которой он ранит противника и врага Долохова, а Николай Ростов испытывает невозможное счастье от пения сестры после страшного проигрыша в карты тому же Долохову, – проигрыша, из-за которого он только что думал наложить на себя руки[252].
Болезнь и боль у Толстого – это экзистенциальная ситуация, напоминающая о словах апостола Павла: «<…> Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился» (2 Кор. 12: 7).
Сон князя Андрея – подтверждение суждения священника Павла Флоренского: «С о н – вот первая и простейшая, т. е. в смысле нашей полной привычки к нему, ступень жизни в невидимом. Пусть эта ступень есть низшая, по крайней мере чаще всего бывает низшей; но и сон <…> восторгает душу в невидимое и дает даже самым нечутким из нас предощущение, что есть и иное, кроме того, что мы склонны считать единственно жизнью»[253].
Однажды мне довелось прочитать в абитуриентском сочинении забавное речение: «Смысл жизни князь Андрей понял только после своей смерти». Несмотря на абсурдность, в этом утверждении заключена доля правды: на несколько дней, после «пробуждения», князь Андрей «зависает» между двумя мирами – земным и потусторонним; он пребывает мертвецом среди живых или, с высшей точки зрения, живым среди мертвых. И не случайно он не хочет и не может поддержать разговор с княжной Марьей, не может передать ей свою мысль, а себя уподобляет «птицам небесным» из евангельского речения Христа «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и Отец ваш небесный питает их» (Мф. 6: 26). Князь Андрей и сам уже пребывает не на земле, а в обители Небесной[254]. Взгляд умирающего и взгляды оставляемых им воспринимают, видят не одну и ту же духовную реальность: для Наташи и княжны Марьи умирание князя Андрея – это уход «вниз», «вглубь», «под землю»: «Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно, опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо» (VII; 71). Для него это, очевидно, воспарение вверх, – не случайно Болконский сравнивает себя с птицами небесными, – или, может быть, выход в ту самую дверь, в которую в его сне рвалось «оно».
Несовпадение горизонтов видения князя Андрея и Наташи с княжной Марьей выражено и композиционно, фабульным сдвигом: в главе XV 1-й части 4-го тома изложены события, произошедшие между «пробуждением» и физической кончиной князя Андрея, в то время как в XVI главе повествование возвращается вспять, но завершается уже смертью. В первой из этих глав происходящее представлено преимущественно в восприятии внешнем по отношению к уходящему – с психологической точки зрения княжны Марьи, мысли которой переданы посредством так называемой несобственно-прямой речи[255]. В последней из этих глав господствует сознание князя Андрея, а последние часы Болконского описаны с некоей внешней условной точки зрения, не совпадающей с восприятием кого-либо из персонажей, но и не противопоставленной ему[256]. Время земной жизни – время Наташи, княжны Марьи, Николеньки Болконского – и время уходящего не совпадают, расходятся в разные стороны. Не совпадают и время духовного и земного уходов князя Андрея, как не совпадают время во сне в состоянии бодрствования, при этом время сна обгоняет земное, вяло ползущее или текущее. Но, действительно, «всякий знает, что за краткое, по внешнему измерению со стороны, время можно пережить во сне часы, месяцы, даже годы, а при некоторых особых обстоятельствах – века и тысячелетия. В этом смысле никто не сомневается, что спящий, замыкаясь от внешнего видимого мира и переходя сознанием в другую систему, и меру времени приобретает новую, в силу чего е г о время, сравнительно со временем покинутой им системы, протекает с неимоверною быстротою»[257].
Описание физической смерти князя Андрея напоминает изображение его пробуждения: тогда он проснулся в «холодном поту», теперь «тело его <…> холодея, лежало перед ними» – перед Наташей и княжной Марьей (VII; 72). Сам же окончательный уход не показан изнутри, в восприятии князя Андрея. Это таинство, внятное лишь Богу и посвященным в него, через смерть проходящим: «простое и торжественное таинство смерти», рождающее у оставшихся «благоговейное умиление» (VII; 72). Тело ушедшего свято, как икона: Наташа «не поцеловала» глаза умершего Болконского, а «приложилась к тому, что было ближайшим воспоминанием о нем» (VII; 72).
Король Басилио в драме Педро Кальдерона «Жизнь есть сон» изрек: «<…> Схоже – / Родиться в мир и умереть»[258]. И в «Войне и мире» смерть – это не только «пробуждение», а и второе рождение – в Жизнь Вечную. Не случайно тем же словом «таинство» автор «Войны и мира» именует и собственно природное рождение – появление на свет Николеньки Болконского: «Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться» (т. 2, ч. 1, гл. VIII [V; 42]). Это сближение, почти отождествление рождения и смерти проходит и через текст романа «Анна Каренина», где оно, впрочем, осложнено рядом символических образов: это роды Кити Левиной и зловещий сон, предрекающий смерть Анны: мужик Корней предсказывает ей во сне смерть родами (ч. 4, гл. III). (На параллель мотивов обратил внимание Д.С. Мережковский[259].)
Смерть, пережитая князем Андреем во сне, – условие перехода в иной, вечный мир; смерть «здесь» тождественна пробуждению и рождению «там». Многозначен образ двери, которую тщетно пытается затворить Болконский. Для сновидца это дверь в жизнь из небытия, откуда незваная входит смерть. Но совсем недавно наяву в дверь комнаты князя Андрея входила Наташа: «<…> Что-то скрипнуло, пахнуло свежим ветром <…> и белый сфинкс, стоячий, явился пред дверью. И в голове этого сфинкса было бледное лицо и блестящие глаза той самой Наташи, о которой он сейчас думал» (т. 3, ч. 3, гл. XXXII [VI; 399–400]), Наташа олицетворяет и рождающее начало (Natalia по-латыни «рождающая»), и «свежий ветер» бытия, и его тайну (она «сфинкс). Белизна платья – это и белизна чистоты, и цвет смерти. Наташа подобна богине Судьбы Парке, когда она вяжет у постели раненого[260].
Но символическая дверь – это еще и выход в вечность, и князя Андрея должен встречать Тот, кто в Откровении Иоанна Богослова – Книге о Последнем Суде и о Жизни Вечной – сказал о Себе: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3: 20). Тщетно пытаясь не дать войти смерти, князь Андрей не впускал Его, умерев во сне, он наконец отворил дверь.
Примерно спустя двадцать лет после написания «Войны и мира» Толстой, переживший духовный перелом 1879–1880 годов, пишет повесть «Смерть Ивана Ильича» (закончена и издана в 1886 году), которая завершается кончиной главного героя. Д.С. Мережковский рассматривал обе смерти, князя Андрея Болконского и героя повести, как сущностно тождественные: писатель будто бы изображает «любовь не в жизнь, а из жизни», представляет переход к вечности одинаково – как отрешение от плоти и погружение в некую буддийскую нирвану[261]. Но в действительности эти две смерти – все же разные. Автор «Смерти Ивана Ильича» несоизмеримо более жесток к агонизирующему герою, чем создатель «Войны и мира». Прежде всего, смерть чиновника – некрасивая, неэстетичная и неблагообразная: «Умирающий все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал» (XII; 106).
Но в этой некрасивости есть своя правда, в том числе правда высокая, которой теперь, по мнению Толстого, ставшего жестоким ригористом, нет ни в чем «эстетическом» – правда чувства, сопереживания: этот несимпатичный и неприятный сын Ивана Ильича, уничижительно именуемый «гимназистиком», целующий руку отца, тем самым оправдывает жизнь умирающего.
«В это самое время Иван Ильич провалился, увидал свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить» (XII; 106).
«В это самое время» еще не значит «по причине этого», «из-за того, что хотя бы одно человеческое существо пожалело умирающего». Но и совпадение двух событий – проявления доброты и «видения» света умирающим – не может быть только случайным. Чуть дальше, сразу же происходит еще одно сближение во времени порыва доброты и жалости и прозрения истины, точнее, на сей раз уже освобождения от смерти и рождения в Вечную Жизнь: «Он спросил себя: что же “то”, и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее.
“Да, я мучаю их, – подумал он. – Им жалко, но им лучше будет, когда я умру”. Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. “Впрочем, зачем же говорить, надо сделать”, – подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:
– Уведи… жалко… и тебя… – Он хотел сказать еще “прости”, но сказал “пропусти”, и, не в силах уже будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо.
И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. “Как хорошо и как просто, – подумал он. – А боль? – спросил он себя, – Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?”
Он стал прислушиваться.
“Да, вот она. Ну что ж, пускай боль”.
“А смерть? Где она?”
Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.
Вместо смерти был свет.
– Так вот что! – вдруг вслух проговорил он. – Какая радость!» (XII; 106–107).
Здесь слиты воедино и осознание тщеты прежней жизни, ее переоценка и освобождающее отречение от прошлого, и жалость к ближним – к сыну и к жене, и чувство обретенной свободы, и преодоление страха смерти, и победа над болью. Что первично, что вторично? – Такой вопрос попросту неправомерен. Героя покидает, «выходит» из него ложь, а с нею и боль и страх небытия.
Правда, первый раз Ивану Ильичу слабый свет открывается раньше, под спасительным ударом боли, как бы заставляющим подсознательно ощутить свою мизерность, ничтожность и, тем самым, ложь прежней самонадеянной правоты: «Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавила ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление» (XII; 106).
Оговорка Ивана Ильича «пропусти» вместо «прости» для автора полна глубокого смысла: умирающий просит «пропустить» его туда, в высший мир. Князю Андрею на пути «туда» были препятствием земные привязанности, но умирает он спокойно, «чинно», и его уход – истинно торжественное таинство для покинутых.
Для этой торжественной красоты ухода нашел точные слова Н.С. Лесков, написавший: «Какая простая и поистине прекрасная, неподражаемая картина смерти? Ни в прозе, ни в стихах мы не знаем ничего равного этому описанию. Это не шекспировское “умереть-уснуть”, ни диккенсовское “быть восхищенным”, ни материалистическое “перейти в небытие”, – это тихое и спокойное “пробуждение от сна жизни”. Глядя таким взглядом на смерть, – умирать не страшно. Человек уходит отсюда, и это хорошо. И чувствуешь, что это в самом деле хорошо, и окружающие это чувствуют, что это в самом деле хорошо, что это прекрасно»[262].
Иван Ильич «пролезает» – нехорошо, мучительно, почти стыдно для окружающих, которые видят лишь оболочку произошедшего: «Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотанье и хрипенье.
– Кончено! – сказал кто-то над ним.
Он услышал эти слова и повторил их в своей душе. “Кончена смерть, – сказал он себе. – Ее нет больше”.
Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер» (XII; 107).
Смерть князя Андрея возвышенна и пластична, ее бы признали достойной и античные риторы и историографы, и живописцы-классики. Она поучительна для созерцающих: так «надо» умирать. Князь Андрей стал, как замечает Наташа, «слишком хорош» для жизни и потому «не может жить» (VII; 63–64). Но он и раньше не был «плохим», и его путь «туда» вовсе не представлен как единственно истинный исход. Где-то безмерно далеко и вместе с тем совсем рядом – путь опрощения графа Пьера Безухова – по старой Смоленской дороге, со сбитыми в кровь ногами. А где-то в стороне – усадьба настоящего хозяина, хорошего барина графа Николая Ростова, – он тоже нашел свое предназначение, и автор «Войны и мира» приветствует и ценит это.
Для оставшихся прощание с князем Андреем исполнено высокого смысла. Правда, высокое умиление ощущают лишь Наташа и княжна Марья. Графиня мать Ростова и Соня «просто» плачут, жалея не только об ушедшем, но и о Наташе, а старый граф «плакал о том, что скоро, он чувствовал, и ему предстояло сделать тот же страшный шаг» (VII; 72). Но все же это торжественное и возвышенное прощание.
В «Смерти Ивана Ильича» покойник – это никому по-настоящему не нужная и немного неприличная вещь, которую, начинающую дурно пахнуть, надо поскорее спрятать. Поведение оставшихся, прощающихся с покойным, подчинено не истинной скорби, а пустым и ничтожным правилам приличия. Происходит разоблачение, обнажение страшной правды. В указании на фальшь происходящего автору «помогает» один из героев, сослуживец Ивана Ильича Петр Иванович; повествование о прощании с покойным ведется в психологическом ракурсе этого чиновника, не испытывающего скорби по умершему, но вынужденного ее проявлять на публике: «Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. Насчет того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее: войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться. Насколько ему позволяли движения рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Два молодые человека, один гимназист, кажется, племянники, крестясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно. И дама с странно поднятыми бровями что-то ей говорила шепотом. Дьячок в сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко с выражением, исключающим всякое противоречие; буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа. В последнее свое посещение Ивана Ильича Петр Иванович видел этого мужика в кабинете; он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петр Иванович все крестился и слегка кланялся по серединному направлению между гробом, дьячком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукою показалось ему уже слишком продолжительно, он приостановился и стал разглядывать мертвеца.
Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки, утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизами на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменился, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное – значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым. Напоминание это показалось Петру Ивановичу неуместным или, по крайней мере, до него не касающимся. Что-то ему стало неприятно, и потому Петр Иванович еще раз поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с приличиями, повернулся и пошел к двери. Шварц ждал его в проходной комнате, расставив широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича. Петр Иванович понял, что он, Шварц, стоит выше этого и не поддается удручающим впечатлениям. Один вид его говорил: инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным, то есть что ничто не может помешать нынче же вечером щелкануть, распечатывая ее, колодой карт, в то время как лакей будет расставлять четыре необожженные свечи; вообще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер. Он и сказал это шепотом проходившему Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Федора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Прасковья Федоровна, невысокая, жирная женщина, несмотря на все старания устроить противное, все-таки расширявшаяся от плеч книзу, вся в черном, с покрытой кружевом головой и с такими же странно поднятыми бровями, как и та дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев с другими дамами и, проводив их в дверь мертвеца, сказала:
– Сейчас будет панихида; пройдите.
Шварц, неопределенно поклонившись, остановился, очевидно, не принимая и не отклоняя этого предложения. Прасковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала:
– Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича… – и посмотрела на него, ожидая от него соответствующие этим словам действия.
Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: “Поверьте!”. И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый: что он тронут и она тронута.
– Пойдемте, пока там не началось; мне надо поговорить с вами, – сказала вдова. – Дайте мне руку.
Петр Иванович подал руку, и они направились во внутренние комнаты, мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Ивановичу: “Вот те и винт! Уж не взыщите, другого партнера возьмем. Нешто впятером, когда отделаетесь”, – сказал его игривый взгляд.
Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку» (XII; 55–57).
Все происходящее – ложь и притворство; даже вздох сожаления, оказывается, вызван не кончиной друга, а невозможностью присоединиться к партии в карты. Но не эти фальшивые чувства и не бессердечие воспринимаются в извращенном мире как неприличие, а сломанный пуф и неловкость гостя: «Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Петр Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Прасковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул, но нашла это предупреждение не соответствующим своему положению и раздумала. Садясь на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелеными листьями кретоне. Садясь на диван и проходя мимо стола (вообще вся гостиная была полна вещиц и мебели), вдова зацепилась черным кружевом черной мантилии за резьбу стола. Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавшийся под ним пуф. Но вдова не все отцепила, и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже щелкнул. Когда все это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Петра же Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел насупившись» (XII; 57–58).
«Кончилось» – так говорит автор о «борьбе» Петра Ивановича с пуфом. Это досадное происшествие в мире живых мертвецов является действительным, хотя и неприятным событием. Но почти этим же словом «Кончено» в финале повести некто (в оставляемом героем земном пространстве – кто-то из присутствующих при кончине, в пространстве надмирном – Господь, Судия) скажет о смерти Ивана Ильича. Да и кто он, Иван Ильич Головин, для еще не засунутых в «черный мешок» смерти, как не такой же сломанный пуф. Умирание и смерть в мире, в котором пребывают персонажи повести, неприличны, как сломанная мебель.
По замечанию Н.С. Лескова, «всего ужаснее в этой истории едва ли не безучастие так называемых образованных людей русского общества к несчастию, происходящему в знакомом семействе. Люди не только совсем потеряли уменье оказать участливость к больному и его семейным, но они даже не почитают это за нужное, да и не знают, как к этому приступить и чем тронуться. Не будь у них слуг для посылки “узнать о здоровье”, не будь панихид, при которых можно “сделать визит умершему”, – все знакомые решительно не знали бы, чем показать, что усопший был им знаком и что они хотя сколько-нибудь соболезнуют о горе, постигшем знакомое семейство»[263].
В «Смерти Ивана Ильича» все иначе, чем в кончине князя Андрея. Иван Ильич Головин подвергнут страшному суду автора и найден слишком «легким» и «теплохладным». Это и к нему обращено суровое слово Агнца из Откровения Иоанна Богослова: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его» (Откр. 3: 15–21).
Толстой словно отдает Ивана Ильича во власть пыточного мастера: «Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признанье того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучило его» (XII; 106).
Жизнь героя «самая простая и обыкновенная и самая ужасная» одновременно, и вся толстовская повесть являет читателю эти ужас и ложь. «Смерть Ивана Ильича» должна учить, как учит притча. Но смерть Ивана Ильича никого ничему не учит: человек умирает один, урок ему преподается у самой «черной дыры», и даже если он его выучит, даст верный ответ и выдержит последний экзамен, об этом другие не узнают. Они увидят лишь «клокотанье и хрипенье». Внутреннее зрение, обретенное Иваном Ильичом, и взгляд окружающих на совершающееся с ним не совмещаются и не пересекаются. Для «них» все кончается на фразе «Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер». К его телу не будут и не могут «прикладываться» как к иконе. Наверное, сын или вдова поцелуют, прощаясь, то, что было когда-то отцом и мужем. Но эти поцелуи не нужны ушедшему и неинтересны писавшему.
«Пропусти» Ивана Ильича в отличие от невыговорившегося «прости» обращено уже не к жене, Иван Ильич не «отрешается» от нее перед смертью так, как князь Андрей от сына, сестры и Наташи. «Пропусти» как будто бы обращено к «Тому» единственному, кто поймет его и как просьбу о прощении, и как моление «пропустить», дать безвозвратно пройти через «черную дыру» смерти.
Князя Болконского ввело в вечность отрешение от преходящих привязанностей, от всего неабсолютного, только лишь земного. Ивана Ильича спасло отречение от всей прежней жизни и несколько крупиц доброты, ибо вся жизнь его была ложь. Так же доброта и отречение от лжи жестоковыйной гордыни спасли купца Василия Андреича Брехунова – героя рассказа «Хозяин и работник», написанного спустя десять лет после «Смерти Ивана Ильича»: ценою собственной жизни он неожиданно для себя, согревая своим телом, уберег в снежной степи от замерзания работника Никиту. Обрыв связей с уходящей жизнью у Брехунова, как и у князя Андрея, совершается после внезапного пробуждения, когда «вдруг точно что-то толкнуло и разбудило его» (XII; 328). Но просыпается он не после пророческого сновидения: пробуждению предшествовала дремота без снов, и пробудившегося обстает смертный ужас. Приговоренному к смерти купцу второй гильдии нужно пережить этот леденящий страх небытия, чтобы под конец прийти к спасительной любви. Освобождение Ивана Ильича происходит внезапно, «вдруг». И так же «вдруг» Брехунов, только что пытавшийся спастись, бросив работника умирать, «засучил рукава шубы и принялся отогревать замерзающего Никиту». Это «вдруг» необычайно весомо и значимо: с толстовским персонажем «внезапно <…> происходит загадочная, совершенно невыводимая, говоря школьным языком философов, из его эмпирического характера перемена. <…> Откуда явилось такое решение и что оно значит, Толстой не объясняет, и, нужно думать, хорошо делает. Ибо всякая попытка объяснить, т. е. связать с известным человеческие устремления к неизвестному, безусловно недопустима» (Лев Шестов)[264]. Иррационалист и экзистенциалист Лев Шестов прав и неправ одновременно: автор «Хозяина и работника» неоднократно переписывал сцену спасения Брехуновым Никиты, стремясь добиться психологического, жизненного правдоподобия[265], но вместе с тем и обращение Ивана Ильича, и обращение Брехунова непредсказуемы, неожиданны и поэтому свободны. Обусловленность, ограниченность поступка человека обстоятельствами и характером и абсолютная свобода воли для Толстого не исключали друг друга: еще в Эпилоге «Войны и мира» он вслед за И. Кантом и А. Шопенгауэром признавал эту антиномию основой бытия и сознания.
Брехунов, как и князь Андрей, видит сон, – но уже только перед самой смертью: «Он спал долго, без снов, но перед рассветом опять появились сновидения» (XII; 337). Во сне он не может вынуть руки из карманов и подать прихожанке свечу из свечного ящика и оторвать от пола прилипшие к нему ноги, потом он видит себя лежащим на постели и не может встать. Эта обездвиженность, паралич – символ душевной и духовной смерти толстовского героя. Вдруг он слышит зов и понимает, что это голос из иного мира, призыв Господа, к нему обращенный. «“Иду!” – кричит он радостно, и крик этот будит его. И он просыпается, но просыпается совсем уже не тем, каким он заснул. Он хочет встать – и не может, хочет двинуть рукой – не может, ногой – тоже не может. Хочет повернуть головой – и того не может. И он удивляется; но нисколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, но нисколько не огорчается этим» (XII; 339). Сновидение – предвестие совершающегося с умирающим и воскресающим наяву. Но сокровенный смысл телесности в сне и в яви противоположен: в бренном земном существовании обездвиженность означает не смерть, а отречение от гордыни и самодовлеющей «плотскости», размягчение сердца, оттаивание души. Зов же Господа во сне и после пробуждения остается неизменным: «И опять слышит он зов того, кто уже окликал его. “Иду, иду!” – радостно, умиленно говорит все существо его. И он чувствует, что он свободен и ничто уж больше не держит его» (XII; 339).
В «Хозяине и работнике» Толстой возвращается к изображению сна-откровения и к мотиву пробуждения души, но контраст между страшным сном князя Андрея и его успокоительным «пробуждением от жизни» заменен повтором: «пробуждение от жизни» Брехунова в его сновидении свернуто, спеленато.
В «Войне и мире» смерть и второе рождение князя Андрея выглядят не только контрастом к прежде прожитой жизни, но и завершением ранее совершенной духовной работы. В «Смерти Ивана Ильича» и в «Хозяине и работнике» Толстой испытывает, пытает героев смертью, и они рождаются вновь вопреки всей своей жизни: «В обоих рассказах Толстой представляет нам человека сперва в обычных, всем знакомых и всеми принятых условиях существования, и затем, почти внезапно – в “Хозяине и работнике” приготовлений еще меньше, чем в “Смерти Ивана Ильича”, – переносит его в то одиночество, полнее которого нет ни на дне морском, ни под землею»[266].
Иван Ильич в отличие от князя Андрея не видит предсмертного сна, и, соответственно, автор «Смерти Ивана Ильича» отбрасывает метафоры «жизнь – сон» и «смерть – пробуждение». Отбрасывает, вероятно, не только потому, что их смысловой заряд уже был «истрачен» при описании смерти князя Андрея Болконского, но и потому, что предсмертные дни и часы персонажа повести – это только физические страдания, корчащееся в муках тело. Сновидения – пусть часто слабые, но отражения не только «обнаженной» физиологии, а и душевной жизни «я» не нужны при создании ранящего контраста между прежним безболезненным благополучием и нынешними невыносимыми муками толстовского героя с его «судорожным цеплянием за единственное, что еще у него осталось – несчастное, изъеденное болью, но все еще живое тело»[267]. Сон князя Андрея – это дарованное ему откровение, приуготовляющее к переходу в мир вечный[268]. Болконский уходит в этот мир «естественно», постепенно освобождаясь от пут, связывающих его с остающимися. Иван Ильич спасается от небытия, внезапно «проваливаясь» в «черную дыру», ведущую ко второму рождению. Его спасение, его «обращение» к Истине на самом пороге смерти – это невидимое и никому, кроме автора, не ведомое чудо. И спасенный мог бы воскликнуть вместе с апостолом Павлом: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти – грех; а сила греха – закон» (1 Кор. 15: 55–56). Но Толстой, чурающийся красоты слова, подозревающий в ней «обман», позволяет своему герою лишь выдохнуть: «Так вот что! <…> Какая радость!» – слова, которые окружившие его, наверное, приняли за предсмертный бред.
Болконский, после явленного ему во сне откровения смерти и нового бытия, физически умирал, отвыкал, освобождался от земной жизни медленно, хотя в его духовном пространстве это происходит мгновенно. Умирание Ивана Ильича после прозрения стремительно и катастрофично, оно занимает всего лишь два земных часа.
Князь Андрей не похож ни на светского щеголя и жуира князя Анатоля Курагина, ни на карьеристов наподобие полковника Берга, ни на лощеных сановников, как князь Василий Курагин. Болконский личность, а не тип. Иван Ильич Головин и Василий Андреич Брехунов – прежде всего типы: добившегося успехов в карьере чиновника и удачливого, волевого и рьяного предпринимателя, торговца. Шире – оба они принадлежат к тем, кто сделал успех и признание окружающими мерилом своей самооценки.
Князь Андрей Болконский неординарен, Иван Ильич зауряден, история его жизни обыкновенна. Болконский никогда не пребывал в плену общественных условностей, и даже его былая зачарованность Наполеоном и почитание Сперанского далеки от обыденности, от общих мнений. Он может сам или почти что сам подняться над тщетой существования. И у Болконского был прежде опыт умирания, приготовления к смерти – после аустерлицкого ранения.
Иван Ильич к смерти не готов, и перед ее суровым, возвышенным и неподкупным ликом он сначала, и очень долго, ведет себя трусливо, скандально, истерично. «Иван Ильич не мыслил ранее; он делал свою служебную карьеру и, по немыслию своему, жил так, как будто устраивался тут навеки. В этом и других дрязгах была вся задача его жизни. Он принадлежал к людям, живущим в той среде, где мысль о конце считается неуместною, – ее гонят из головы и не допускают в разговорах. А потому люди тут если не умирают внезапно, “скорописною смертью”, то почти всегда умирают малодушными трусами, как раз так страшно и мучительно, как умирал Иван Ильич. К смерти, составляющей, по народному выражению, “окладное дело”, надо себя приучать, и те, которые в этом успевали, по многочисленным замечаниям, умирали спокойнее и легче, – совсем не так, как умер Иван Ильич, а как умирали мудрецы, праведники и как умирают русские простолюдины <…>»[269]. Господину Головину нужен толчок, удар извне, освобождающее чудо. И потому история Ивана Ильича превращается в универсальную, притчевую: князем Андреем читатель может умиляться, с Иваном Ильичом он должен отождествить себя.
Князь Андрей – личность, «я», никогда не был всецело растворен во «всеобщем», в рутине признанных «законов» и «приличий». Чиновник Иван Ильич потерял собственное «я», и умирание означает для него еще и возвращение к себе, отпадение шелухи, коросты противоестественного существования, наросшей на нем. «Всю свою жизнь до болезни Иван Ильич только и делал, что подавлял в себе человека. Человеческое подавлялось вещами, суетными желаниями, исполнением этикетных, формальных обязанностей. За всем этим пропадало индивидуально-человеческое, личное. А теперь, перед смертью, человек точно проснулся, громко заявил о себе. Проснулся не вообще человек, а Иван Ильич, единственный, неповторимый, который зачем-то ведь родился, жил и который не может, не должен вот так просто взять и исчезнуть из жизни», – заметил о толстовском герое Е.А. Маймин[270]. Он прав и неправ одновременно.
Вот герой повести видит себя в прошлой жизни, пытаясь тщетно увернуться от железных оков силлогизма из учебника логики, утверждающего смертность всех людей, в том числе и его, Ивана Ильича: «Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай – человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама, папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня! Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание?» (XII; 86–87).
Какие чувства стоят за этими строками? Ощущение своей жизни как единственного, бесценного дара, неповторимого и потому вечного? Конечно, и не случайно В.В. Набоков поднимет выкатившийся из ручки толстовского ребенка мячик и протянет своему любимому герою – поэту, собственному двойнику Федору Годунову-Чердынцеву, сборник которого открывается стихотворением «Пропавший мяч»:
- Мяч закатился мой под нянин
- комод, и на полу свеча
- тень за концы берет и тянет
- туда, сюда, – но нет мяча.
- <…>
- Но вот выскакивает сам он
- в трепещущую темноту, –
- через всю комнату, и прямо
- под неприступную тахту.
Совпадение пришлось бы посчитать случайным, если бы не эпиграф из учебника русской грамматики П. Смирновского, предваряющий текст романа; последний пример из учебника в эпиграфе – простое предложение: «Смерть неизбежна»[271]. Это уже прозрачное напоминание читателю о повести Толстого. Смирновский стоит Кизеветера (правильнее – Кизеветтера), правила грамматики так же страшны, как и законы логики. Мячик закатился за тахту, России больше нет, ее литература кончилась, но Федор Годунов-Чердынцев и его создатель доказывают обратное, творя в слове мир, канувший в небытие.
Однако если мячик, шуршание шелка материнского платья, влюбленность – это неумирающие отблески былых чувств и в них словно пульсирует, бьется память и самого автора, то самонадеянно-пошлая гордость, упоение господина Головина тем, как он умело вел судебное заседание, вечности не заслуживает и в нее не перейдет. Мысли и чувства толстовского персонажа раздвоены, непреходящее (неповторимое) и суетное («ничейное» и «всеобщее») в них всплывают и мелькают рядом. И если мячик и шорох платья причастны вечности, то неправ Д.С. Мережковский, считавший инобытие в художественном мире Толстого обезличенной Нирваной.
С неумолимой строгостью судии и с им же самим отвергаемым схоластическим формализмом Лев Шестов противопоставил две правды Толстого – правду «всеобщего», мира сего, старого барства, усадебной поэзии и трудного семейного счастья, правду, которой он «воздвиг поистине нерукотворный памятник» в «Войне и мире» и в «Анне Карениной», – и правду не от мира сего, воплощенную в «Смерти Ивана Ильича», в «Хозяине и работнике» – в поздней, созданной после духовного перелома прозе. «Две правды стоят одна против другой и анафематствуют: Sic quis mundum ad Dei gloriam conditum esse negaverit, anathema sit [Если кто станет отрицать, что мир создан для славы Божией, – анафема; лат.], – гремит одна правда. Столь же грозно отвечает другая правда: Sic quis dixerit mundum ad Dei gloriam conditum esse, anathema sit [Если кто скажет, что мир создан для славы Божией, – анафема; лат.]»[272]. Но как в «Войне и мире» и в «Анне Карениной» Толстой отдалял от себя пустоту и пошлость мира, вовсе не принимая его весь, так и в «Смерти Ивана Ильича» и в «Хозяине и работнике» он утверждает существование не в смерти, а в естественности – в той простоте и естественности, которую, подобно Платону Каратаеву, несут в себе кухонный мужик Герасим, ухаживавший за умиравшим чиновником, и работник Никита. Герасима «высокомерный» взгляд экзистенциального философа попросту не заметил, а Никиту Лев Шестов поторопился причислить к бесчувственному и бесхитростному миру «большинства». Не две картины мира противостоят друг другу у Толстого; это одна картина, но подвижная, меняющаяся и увиденная под двумя разными ракурсами. И Лев Шестов сам «поправил себя» в письме дочерям 13 апреля 1921 года: «Теперь о моей статье. Ведь это откровение смерти. Толстой прежде написал “Войну и мир”, а потом “Хозяина и работника” и “Смерть Ивана Ильича” <…> Этого забывать не нужно. Т. е. не нужно думать, что откровения только от смерти. <…> Конечно, тот, кто понял состояние Ивана Ильича, иначе о многом судит, чем другие. Но от жизни не отворачивается. Скорее научается видеть многое ценное в том, что казалось прежде безразличным. Прежде карты и комфорт казались Ивану Ильичу верхом возможных достижений, а повышение по службе и квартира, как у всех, идеалом общественного положения. Он не видел солнца и неба, он ничего не видел в жизни – хотя все и было перед глазами. <…> Стало быть, откровение смерти не есть отрицание жизни, а, наоборот, скорее утверждение – только утверждение не той обычной “мышьей беготни”, на которую люди разменивают себя…»[273].
В.В. Набоков, тонко проанализировавший стиль и приемы «Смерти Ивана Ильича», проявил удивительную глухоту к ее итоговому смыслу, сочтя, что «это история жизни, а не смерти Ивана Ильича», потому что «физическая смерть, описанная в рассказе, представляет собой часть смертной жизни, лишь ее последний миг»[274]. Но, возможно, автор «Защиты Лужина» и «Дара» прибегнул к такой трактовке намеренно, как бы защищаясь от собственного страха небытия с помощью отрицания, отбрасывая прочь мотив смерти-суда. Весь текст повести вставлен в «рамку» смерти: о кончине героя сообщается в начале ее и изображается мертвец, лежащий в гробу, и мучительное умирание-прозревание описывается в завершающей главе. Текст «втягивается» в воронку смерти, как Ивана Ильича «затягивает», влечет в «черную дыру». И наконец, все существование Ивана Ильича осмыслено под знаком смерти. Еще более неправ Набоков в интерпретации общего смысла толстовского сочинения, в утверждении, что «толстовский догмат гласит: Иван Ильич прожил дурную жизнь, а раз дурная жизнь есть не что иное, как смерть души, то, следовательно, он жил в смерти. А так как после смерти должен воссиять Божественный свет жизни, то он умер для новой жизни, Жизни с большой буквы».[275] Несчастный Иван Ильич жил в смерти, но умер, чтобы родиться в Жизни, ибо раскаялся. Это не церковное покаяние, но это сокрушение о ложном существовании. Умирающему даровано «чудо “просветления”» (Л.Д. Опульская)[276].
Перед смертью в Иване Ильиче «возрастает отчаяние, и все больше сгущается мрак, безысходный, кромешный – Иван Ильич испытывает невыносимое мученье, всасываясь в черную дыру и застревая в ней. Но это и кульминация страданий – только окончательно признав, что вся его жизнь была не то, кроме нескольких отдаленных светлых точек в детстве, отказавшись от всяких попыток найти для этой эгоистической и лживой жизни оправдание, Иван Ильич пролезает сквозь черную дыру к свету. Ненависть и злоба отступают <…>.
Не просто нравственная перемена, а преображение и преодоление страха смерти, самой смерти, наконец, вместо которой был свет. Мгновение радости. <…> И смерть приносит освобождение»[277].
Повесть завершается словами о смерти, а не о новой жизни героя, точной в медицинском стиле констатацией: «Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер». Но эта констатация относится, несомненно, только к прекращению телесного существования Ивана Ильича Головина, заметному окружающим. Душа его не могла «умереть»: об этом свидетельствуют и увиденный свет, и обретенная радость толстовского героя.
Князь Андрей, умирая, пробуждается. Иван Ильич, умирая, рождается в Новую Жизнь: эта узкая черная дыра, этот бесконечный туннель – одновременно и разверстая могила, и лоно. По другую сторону его – свет. Итог смерти двух персонажей сходен, но умирание одного непохоже на умирание другого. «Мешок» оказался «дырой», «дыра» – выходом в иное бытие. «Трое суток ужасных страданий» перед кончиною Ивана Ильича напоминают о крестных страданиях Христа и о Его воскресении на третий день.
Как и у князя Андрея, сроки душевной смерти и духовного рождения Ивана Ильича не совпадают: герой толстовской повести тоже обретает сознание истины, свободу и причастность к свету прежде, чем начинается агония. Но раньше ненамного – всего лишь за два часа. Бег времени катастрофически убыстрен в сравнении с плавным, неторопливым течением его в описании ухода Болконского.
Лев Шестов предварил свой анализ экзистенциальной проблематики повести «Смерть Ивана Ильича» и рассказа «Хозяин и работник» утверждением: «Умереть не страшно, страшно – жить нашей бессмысленной, тупой жизнью. Наша жизнь есть смерть, наша смерть – есть жизнь или начало жизни. Вот что говорит окружающим Толстой и вот чего они не понимали и никогда не поймут. Да разве это можно “понять”? Разве сам Толстой это “понимал”?..»[278]. Сам Толстой это, очевидно, понимал. И в разные периоды жизни и творчества понимал неодинаково.
Чернобыльник: об одном символе в рассказе Толстого «Хозяин и работник»
В толстовском рассказе «Хозяин и работник» (1895) есть один повторяющийся образ – трава чернобыльник.
Признак чернобыльника, заключенный во внутренней форме слова и содержащийся в описании засохшего растения Толстым, – черный цвет. Этот цвет наряду с белым цветом снега образует фон, семантический «второй план» всего толстовского рассказа. Впервые сквозной цветовой образ черного цвета встречается еще задолго до описания чернобыльника, словно подготавливая появление изображения мертвого растения ближе к финалу рассказа, в момент кульминации. Этот цвет в описании трагической поездки встречается при упоминании Телятинского леса, который «изредка смутно чернел через снежную пыль» (XII; 304), затем появляется в эпизоде, когда путники, в первый раз сбившись с пути, видят землю, которая «чернелась», насыпавшись «с оголенных озимей сверх снега» и окрасив его «черным» (XII;. 306). После этого заблудившиеся Василий Андреич и Никита, оказавшись на захаровском поле, различают «черную картофельную ботву, торчавшую из-под снега» (XII; 306). Наконец они увидели что-то «черневшееся»; оказалось, это «ряд высоких лозин», которые «были обсажены по канаве гумна» (XII; 307–308), за ними же «зачернелась прямая полоса плетня риги под толсто засыпанной снегом крышей» (XII; 308).
Так хозяин и работник в первый раз попадают в Гришкино вместо Горячкина, куда направлялись. Брехунов решает не останавливаться на ночлег, а продолжить опасное путешествие. Вскоре они обогнали телегу, в которой возвращаются с праздника мужики и баба. Телега сначала показалась Брехунову и Никите как «что-то черное, двигавшееся в косой сетке гонимого ветром снега» (XII; 310). Наконец «впереди действительно зачернело что-то; лес ли, деревня» (XII; 312): путешественники вновь оказались в Гришкине.
После того как путники, напившись чаю у гришкинского знакомца, по настоянию Брехунова все-таки уже впотьмах выехали в дорогу, черное вновь начинает с ними свою завлекающе-обманчивую игру, на сей раз уже смертельную. «Что-то чернеющееся впереди» оказывается не лесом, как ожидал Василий Андреич, а кустом (XII; 320). Когда они уже окончательно сбились с пути, Василий Андреич, всматриваясь в пелену снега перед собой, различает лишь «чернеющую голову» запряженного в их сани жеребца Мухортого.
Василий Андреич пытается бежать один из снежного плена на Мухортом, оставив Никиту замерзать в санях: «Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилось в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось, а было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший из-под снега и отчаянно мотавшийся под напором гнувшего его все в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича, и он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к чернобыльнику, он совершенно изменил направление <…>» (XII; 333).
В своем теперь уже одиноком странствии Брехунов тоже сбился с пути, двигаясь по кругу; он вновь приходит к все тому же чернобыльнику: «Опять впереди его зачернелось что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже наверное деревня. Но это была опять межа, поросшая чернобыльником. Опять так же отчаянно трепыхался сухой бурьян, наводя почему-то страх на Василия Андреича. Но мало того, что это был такой же бурьян, – подле него шел конный, заносимый ветром след. Василий Андреич остановился, нагнулся, пригляделся: это был лошадиный, слегка занесенный след и не мог быть ничей иной, как его собственный» (XII; 334).
Это всплеск черного цвета, проступающего на сей раз впервые как в самом предмете – означаемом, так и в означающем – лексеме «чернобыльник». Событийно это момент осознания героем окончательной потери пути и неотменимости смерти, это сокрушение его гордыни обстающим со всех сторон страхом.
Страх, наводимый засохшим растением на Брехунова, и символика чернобыльника отчасти поясняются в последующем эпизоде. Когда лошадь провалилась в снег, Василий Андреич оказался в сугробе, из которого с трудом выбрался. И в это мгновение его посещают впервые мысли о тщете всей прожитой жизни, его собственных идеалов, нажитого богатства, которым он еще совсем недавно гордился: «“Роща, валухи, аренда, лавка, кабаки, железом крытый дом и амбар, наследник, – подумал он, – как же это все останется? Что ж это такое? Не может быть!” – мелькнуло у него в голове». Брехунов, затерянный в снежном море, очевидно, сначала подсознательно сближал себя с одиноким чернобыльником, мотающимся на ветру. Теперь это сходство попадает в поле его внимания и ранит его: «И почему-то ему вспомнился мотающийся от ветра чернобыльник, мимо которого он проезжал два раза, и на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было. Он подумал: “Не во сне ли все это?” – и хотел проснуться, но просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему в лицо и засыпал его и холодил его правую руку, с которой он потерял перчатку, и это была действительно пустыня, та, в которой он теперь оставался один, как тот чернобыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти» (XII; 335).
Чернобыльник пугает Брехунова, очевидно, не только как предвестие его собственной смертной участи. Ужас может наводить и механическое раскачивание растения на ветру, и сам его облик, черного, мертвого, но стоящего над снегом и раскачивающегося словно живое. Растение способно напугать своей обманчивой жизненностью; в символическом плане рассказа, характеризующем авторскую позицию, хозяин Василий Андреич подобен чернобыльнику – Брехунов обманчиво жив; он здравствует телесно, но мертв духовно. Черный цвет в этом контексте обладает оценочными коннотациями (ср. «черная душа»). Именно эти оттенки значения присутствуют в одной детали, всплывающей в воспоминании хозяина, исполнявшего обязанности церковного старосты. Василий Андреич вспомнил молебны и «образ с черным ликом в золотой ризе» (XII; 335). Черный лик образа Николая Угодника как бы указывает на нечистоту помыслов старосты и на обрядоверческий, формальный и «жестоковыйный» характер его религиозности.
«Рубежное» значение эпизода с Василием Андреичем, обнаруживающим вместо желанной деревни поросль чернобыльника, подчеркивается такой деталью, как межа, на которой он растет. Межа как бы отделяет пространство умирания, небытия, в котором оказался пленен Брехунов, от мира вовне. Разделяет она и жизнь героя «до» того, как он ощутил морозное дыхание смерти, и после пережитого чувства полной обреченности и безысходности. Василий Андреич дважды оказывается перед мертвой порослью и в конце концов возвращается на место, им поспешно покинутое, – к саням и брошенному в них Никите. До этой катастрофы Брехунов уже описал по снежной равнине круг, раз и еще один оказавшись в Гришкине. Теперь он делает два круга в малом пространстве: от саней к чернобыльнику и еще раз к страшной меже, а потом опять к саням. Кружение от саней к саням – круг, в которой вписан еще один, малый – от чернобыльника к чернобыльнику.
«Кружение» Василия Андреича в заснеженном поле исполнено глубинного символико-мифологического смысла. С одной стороны, оно, как и в различных мифологических, религиозных и философских традициях, обозначает бессмыслицу его собственного существования, не проникнутого высшим сознанием вечного. Ведь «[с] тех пор, как человек начал размышлять о жизни, – жизнь бессмысленная всегда представлялась ему в виде замкнутого в себе порочного круга. Это – стремление, не достигающее цели, и потому роковым образом возвращающееся к своей исходной точке и без конца повторяющееся. О таком понимании бессмыслицы красноречиво говорят многочисленные образы ада у древних и у христиан. Царь Иксион, вечно вращающийся в огненном колесе, бочка Данаид, муки Тантала, Сизифова работа – вот классические изображения бессмысленной жизни у греков. Аналогичные образы адских мук можно найти и у христиан. <…> В аду все – вечное повторение, не достигающая конца и цели работа: поэтому даже самое разрушение там – призрачно и принимает форму дурной бесконечности, безысходного магического круга. <…>
Круговращение это не есть что-то только воображаемое нами. Ад таится уже в той действительности, которую мы видим и наблюдаем; чуткие души в самой нашей повседневной жизни распознают его в его несомненных явлениях». С точки зрения «философского пессимизма» каждая жизнь есть такой «порочный круг»[280].
Прежняя жизнь Василия Андреича Брехунова и была таким движением по замкнутому кругу или чередой концентрических кругов: бесконечное самоутверждение, алчная погоня за все новой и новой, все большей и большей прибылью.
С другой стороны, круг – также и традиционный символ вечности, полноты бытия, гармонии: «Круг во всех религиях есть символ бесконечности; но именно в качестве такового он служит и для изображения смысла, и для изображения бессмыслицы. Есть круг бесконечной полноты: это и есть то самое, о чем мы вздыхаем, к чему стремится всякая жизнь; но есть и бесконечный круг всеобщей суеты, – жизнь, никогда не достигающая полноты, вечно уничтожающаяся, вечно начинающаяся сызнова»[281].
Описывая свой последний «большой» круг по снежной равнине, толстовский герой возвращается к исходной точке своего странствования – к саням, в которые совсем недавно садился, выезжая из родных Крестов. В символическом пространстве – это возвращение к самому себе истинному, возвращение к вечным ценностям – к любви и самоотвержению. Самый на поверхностный взгляд безысходный круг оказывается в высшем смысле единственным спасительным. Ядро, центр этого круга – приближение Василия Андреича к поросли чернобыльника и испытанное им потрясение, душевный слом.
Образ чернобыльника соотнесен с образом других растений – лозин, возле которых оказались Василий Андреич и Никита, в первый раз подъехав к Гришкину. Брехунову в «чем-то черном, показавшемся из-за снега впереди их» чудится Горячкинский лес. Но «Никита видел, что со стороны черневшегося чего-то неслись сухие продолговатые листья лозины, и потому знал, что это не лес, а жилье <…>. И действительно, не проехали они еще и десяти саженей <…> как перед ними зачернелись, очевидно, деревья, и послышался какой-то новый унылый звук. Никита угадал верно: это был не лес, а ряд высоких лозин, с кое-где трепавшимися еще на них листьями. Лозины, очевидно, были обсажены по канаве гумна» (XII; 308). Миновав эти посадки, лошадь вскоре выбралась на дорогу.
И лозины, и чернобыльник нещадно раскачивает холодный ветер; «унылому звуку», издаваемому лозинами на ветру, соответствует свист ветра в поросли чернобыльника (XII; 333). В обоих случаях Брехунов обманывается, принимая лозины за лес, а чернобыльник – за стены изб. Однако два образа не столько созвучны, сколько контрастны один по отношению к другому: посаженные крестьянскою рукою лозины – верный знак близкого жилья; сухой бурьян в поле, по ошибке принятый было Брехуновым за деревенские избы, – свидетельство окончательной утраты пути, тщетности потуг Василия Андреича выбраться из пучины снежного моря.
У мотающегося под порывами ветра чернобыльника есть и образ-двойник, наделенный противоположным колористическим признаком, – белая рубаха, висящая вместе с другим «замерзшим бельем» на веревке в одном из дворов на околице Гришкина: «Белая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами» (XII; 308). Покидая Гришкино, Брехунов и Никита вновь замечают эту рубаху: «[Б]елая рубаха уже сорвалась и висела на одном мерзлом рукаве» (XII; 309). Потом, в третий раз, они видят это забытое на ветру белье, вторично попадая в деревню. И, наконец, когда они в последний раз выезжают из деревни, белья «теперь уже не видно было» (XII; 319). Рубаха, как и чернобыльник, раскачиваемая ветром, метонимически обозначает человека. С одной стороны, этот образ – предвестие смерти Брехунова: белый – цвет смерти (ср. народный обычай надевать перед смертью белые рубахи); белый – цвет снега, засыпающего дорогу и затягивающего пеленой окрестности; белы лицо и борода у полузамерзшего, заиндевевшего от мороза Никиты. У Никиты, входящего в гришкинскую избу, «запушенное снегом лицо, глаза и борода» (XII; 315). И потом, в уже вставших санях: «густо засыпанный снегом Никита» (XII; 329).
Черный и белый как цвета смерти и траура – банальность. Толстой оживляет цветовые образы, создавая неожиданный и яркий оксюморон – белую тьму: «Белая колеблющаяся темнота», «однообразная белая колеблющаяся тьма» (XII; 327).
Вместе с тем белый – традиционный цвет чистоты и праведничества, соответственно, параллель между бьющейся на ветру белой рубахой и застигнутым метелью и паническим ужасом Брехуновым может скрывать еще один смысл – указывать на предсмертное просветление «черного», «темноликого» Василия Андреича, отдающего свою жизнь ради спасения работника Никиты.
Один из ключей к семантике образа чернобыльника и черного цвета находится в самом тексте рассказа. Внук гришкинского знакомца Брехунова Петруха увлеченно цитирует вычитанное им в хрестоматии для народного чтения пушкинское стихотворение: «Буря с мглою небо скроить, вихри снежные крутя, аж как зверь она завоить, аж заплачеть, как дитя» (XII; 318, ср. с. 319). Сходство пушкинского «Зимнего вечера» с сюжетом толстовского рассказа поверхностное – их роднит только мотив разгулявшейся зимней стихии. Упоминая об одном поэтическом тексте Пушкина, автор «Хозяина и работника», вероятно, отсылает читателя к другому – к стихотворению «Бесы», в которых есть и мотив утраты пути, кружения «средь заснеженных равнин», и чернеющие обманные образы, принимаемые бесовской силой. Так и в «Хозяине и работнике» «[п]о всему полю кружило, и не видно было той черты, где сходится земля с небом» (XII; 304).
Однако у Толстого чернеющие сквозь снежную завесу образы – не только морок злой силы, завлекающей путника в смертельную игру. Не земля с озимого поля и не картофельная ботва сбивают хозяина и работника с пути, черные лозины выводят их к деревне, – хотя и не к той, в которую они направлялись. Просвечивающие, чернеющие сквозь пелену предметы – вехи на пути к спасению от мороза и снега, выводящие героев к жилью. Черное в отличие от белого сначала соотнесено скорее с жизнью, чем со смертью, – как телега с подгулявшими крестьянами. И лишь с того мгновения, когда Василий Андреич, оказывается возле поросли чернобыльника, сквозь черный цвет начинает отчетливо проступать смерть.
Однако семантика черного цвета и в заключительной части рассказа далека от однозначности. Уверенный в собственной гибели посреди снежной пустыни, Василий Андреич, «взглянув вперед <…> увидал что-то черное. Это был Мухортый и не один Мухортый, но и сани <…>» (XII; 335–336). Здесь и суждено будет умереть, замерзнув, Василию Андреичу, но не бессмысленно: закрывая собою от снега и мороза работника Никиту, его хозяин умирает телесно, но рождается вновь духовно. Черные в этом белом море Мухортый и сани – те «вехи», которые выводят героя к высшей, еще неведомой ему самому цели: к жертве собою ради ближнего.
Из всех образов рассказа, связанных с черным цветом, чернобыльник – самый действенный как символ. В нем заключен библейский новозаветный прообраз, семантический архетип. Чернобыльник – другое название растения полынь[282]. В Откровении святого Иоанна Богослова одна из эсхатологических казней погрязшего в грехах, отвернувшегося от Бога человечества такова: «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки» (Откр. 8: 10–11). «Хозяин и работник» – это тоже своего рода эсхатологический текст, «откровение смерти»[283], дарованное Василию Андреичу Брехунову. Толстовский рассказ повествует не о «большой», а о «малой» эсхатологии – о судьбе одной грешной души, прошедшей через предсмертные мытарства к свету любви и правды. Толстой отнюдь не повторяет семантику исходного образа. Общее между звездой Полынь и чернобыльником – эсхатологический фон, связь с мотивами суда и смерти. В Откровении святого Иоанна Богослова падение звезды Полынь – наказание, приводящее грешников к смерти. В «Хозяине и работнике» душевный перелом, испытанный героем при виде мертвого чернобыльника, ведет к гибели старого, ветхого «я» в Брехунове, являясь условием пробуждения души – «я» вечного. В то же время выход героя к порослям чернобыльника – знак уже совершенно неизбежной кончины физической: дорога в мир живых отрезана, деревни нет. Василию Андреичу обстоятельства, жизнь дважды давали возможность остаться в тепле и уюте деревни, избежать замерзания посреди снежной равнины. Он отказался. Третьего случая ему не дано. Но у Толстого физическое выживание и духовное спасение разведены по разным полюсам бытия: если бы Василий Андреич не обманулся и вышел к деревне, а не к бессмысленно мотающимся на ветру засохшим растениям, он бы не воскрес, не пробудился духовно.
В этой связи можно вспомнить идею Д.С. Мережковского, рассматривающего творчество Толстого (в том числе и рассказ «Хозяин и работник») в пределах антиномии духа и плоти[284]. При интерпретации произведений Толстого этот подход приводит к неизбежным упрощениям, однако к изображению смерти и «пробуждения» Брехунова он применим в полной мере.
Вместе с тем – особенно в случае с Василием Андреичем Брехуновым – невозможно принять мысль Д.С. Мережковского, тонко проанализировавшего смерти толстовских героев, но убежденного, что их предсмертные мысли и чувства вторичны от плоти, от ее болезни и ран: «Есть ли это, однако, последнее освобождение, победа духа над плотью? Так Л. Толстой думает, или хотел бы думать. Но едва ли оно так. Ведь нечто новое, решающее здесь произошло сначала в теле; душа только отражает то, что уже произошло в теле; только объясняет слабость тела, как “слабость любви”, как сознание своего страшного одиночества и беззащитности; но собственно от себя ничего не прибавляет. И здесь, как везде, как всегда у Толстого, не тело следует за душою, а, наоборот, душа за телом: что сначала в теле, то потом в душе. Телесное первоначально, духовное или, лучше сказать, “душевное” – производно. Душевное вытекает из телесного, как следствие из причины. Тело уходит из жизни в не-жизнь, опускается в “черную дыру” – и душа влечется за телом; тело тянет душу. Воскресение духа есть только умирание тела, не начало чего-то нового, сверхживотного, а только конец старого, животного – отрицание плоти – одно отрицание, без утверждения того, что за плотью»[285]. Не физическое замерзание, а сокрушение гордыни толстовского героя – первое событие в ряду, заканчивающемся его новым, духовным рождением. Это перерождение мотивировано изначально именно психологически, а не физически, не телесными ощущениями. Так же и Иван Ильич Головин претерпевает перемену не из-за физического воздействия болезни: боль – знак ожидающей его смерти, предчувствие которой ломает, разбивает вдребезги привычный уклад жизни и самоуверенность персонажа.
Об Апокалипсисе как подтексте толстовского рассказа свидетельствует, по-видимому, и такая деталь, как потеря Брехуновым перчатки с правой руки и ознобление ее. Конечно, «разоблачение» и «уязвление» именно правой руки может быть понято просто как сокрушение горделивца жизнью, силою обстоятельств: правая рука, десница в противоположность шуйце традиционно – в том числе и в Библии – ассоциируется с могуществом и властностью и олицетворяет правоту (в случае Брехунова – ложную). Символическое значение правой руки отражено, например, и в богослужении проскомидии – приуготовительной части литургии: диакон (а также и священник), надевая поручи, или нарукавницы, «помышляет о всетворящей, содействующей повсюду силе Божией и, воздевая на правую, произносит он: Десница Твоя, Господи, прославилася в крепости; десная рука Твоя, Господи, сокрушила врагов и множеством славы Своей Ты истребил супостатов. Надевая на левую руку, помышляет о самом себе, как о творении рук Божиих <…>»[286].
Однако для толстовского рассказа могут быть особо значимы два новозаветных контекста. Первый – речение Христа: «[е]сли правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя» (Мф. 5: 30). В «Хозяине и работнике» соблазны гордыни и власти у главного героя отсекает сила обстоятельств, в известном смысле тождественная Провидению или, по крайней мере, исполняющая провиденциальную роль. Потеря Брехуновым рукавицы и ознобление обнаженной ладони функционально подобны отсечению правой руки. Второй контекст – из Откровения святого Иоанна Богослова: людям, поклоняющимся Антихристу, «положено будет начертание на правую руку» с именем «зверя» и числом имени его (Откр. 13: 16). Соотнесенность детали из толстовского рассказа с этим примером семантически противоположна соотнесенности с Христовым речением: утрата рукавицы и ознобление ладони – как бы знак, печать греха, положенная давным-давно на правую руку Василия Андреича, но страшный, смертельный холод этой печати он ощутил только перед лицом небытия.
Символические образы толстовского рассказа в художественном мире романа осязаемо предметны и имеют реальные мотивировки. И цепь предметов, характеризуемых как черные или чернеющиеся, и белая рубаха, и чернобыльник укладываются в якобсоновскую характеристику и так называемого «реализма С» («уплотнение повествования образами, привлеченными по смежности»), и так называемого «реализма Е» («требование последовательной мотивировки, реализации поэтических приемов»)[287]. «Хозяин и работник» – произведение притчевой природы, однако языком притчи в нем как бы говорит сама жизнь, автор же выступает словно лишь простым регистратором, фиксирующим происходящее. Поэтому и глубинные библейские основы толстовской символики приглушены, погружены в «пелену» текста, оставаясь, однако, различимыми для внимательного взгляда. При этом символика в рассказе «Хозяин и работник» отличается семантической двойственностью, двуплановостью, для притчи нехарактерной и как бы компенсирующей, восполняющей однозначность авторской нравственной идеи.
Символика имен в рассказе Льва Толстого «Хозяин и работник»
Борис Эйхенбаум писал в ранней статье «Лев Толстой» (1919), и по сей день лучшем очерке эволюции поэтики писателя: «Фамилии действующих лиц у Толстого вообще не обладают способностью символизации или обобщения, как у Достоевского, но зато, правда, взамен этого их имена как-то особенно суггестивны – Наташа, кн. Андрей, Пьер, Анна. По-видимому, тут сказывается влияние семейно-бытового стиля, в котором пишет Толстой: имена эти не ощущаются нами как символы или типы, но наполнены особым эмоциональным содержанием, накопляющимся у нас по мере усвоения всех деталей жизни, внутренней и внешней. Рядом с этим фамилии – Ростова, Безухов, Волконский (так! – А.Р.), Каренина – звучат безжизненно и безразлично»[289].
Это наблюдение (очевидно, одно из особенно дорогих автору) было повторено в посмертно изданной книге «Лев Толстой. Семидесятые годы»: «Во всей литературе, связанной с Гоголем и с натуральной школой, человек изображается как социальный или психологический тип; он наделяется определенными чертами, сказывающимися в каждом поступке, в каждом слове, даже в фамилии. Не только Чичиков, Хлестаков, Плюшкин, Ноздрев, но и Раскольников, и Свидригайлов, и Смердяков, и Карамазовы носят свои фамилии не как случайные условные обозначения, а как характерные и характеризующие их прозвища. Совсем иное у Толстого: его люди – не типы и даже не вполне характеры; они “текучи” и изменчивы, они поданы интимно – как индивидуальности, наделенные общечеловеческими свойствами и легко соприкасающиеся. Поэтому для героев Толстого характерны не фамилии (которые большей частью незначительны или прямо неудачны), а имена: не Безухов, а Пьер, не Болконский, а князь Андрей, не Ростова, а Наташа, не столько Каренина, сколько Анна. Для Толстого характерны эти семейные, домашние обозначения своих героев: читатель знакомится с ними интимно, ощущает их в той или иной степени похожими на себя. Толстовский принцип интимности и “текучести”, резко отличающий его психологический реализм от реализма других писателей, восходит к Пушкину – как развитие и дозревание его метода. Ближайшая родственница Наташи Ростовой – конечно, Татьяна Ларина, недаром имя Татьяны, как и Наташи, говорит нам гораздо больше, чем фамилия»[290].
Эта же мысль варьируется в эйхенбаумовской статье «Пушкин и Толстой» (1937)[291].
Замечание Бориса Эйхенбаума, несмотря на справедливость противопоставления толстовской психологической поэтики принципам типизации и характерологии, не соответствует реальности. Во-первых, писатель отнюдь не безразличен к функциям фамилий. В «Войне и мире» они преимущественно призваны нести определенный исторический ореол, являясь вариациями фамилий реальных исторических лиц и/или дворянских родов (ср.: Болконские – Волконские, Безуховы – Безбородко, Ростовы – Толстые, Курагины – Куракины). Не меньшее значение имеет для Толстого внутренняя форма, этимология. В «Анне Карениной» фамилия супруга героини «говорящая», она произведена от греческого слова; «каренон» по-гречески (у Гомера) «голова». С декабря 1870 года Толстой учил греческий язык. По признанию писателя сыну Сергею, фамилия Каренин произведена от этого слова. Объясняя происхождение фамилии Каренина, Сергей Толстой размышляет: «Не потому ли он дал такую фамилию мужу Анны, что Каренин – головной человек, что в нем рассудок преобладает над сердцем, то есть чувством?»[292]
В ряде случаев у фамилий толстовских персонажей прослеживается отчетливый литературный генезис. Так, фамилия Облонского соотнесена с фамилией Обломова[293]. Литературного происхождения, по-видимому, и фамилия Вронского. В книге «Лев Толстой. Семидесятые годы» Борис Эйхенбаум заметил: «Сама фамилия Вронского, выбранная Толстым после долгих поисков (Гагин, Балашов), звучит как сознательная стилизация: точно Толстой намеренно подчеркивает связь этого персонажа с литературными героями 30-х годов (Пронский, Минский и пр.). Любопытно, фамилия эта есть и у Пушкина – в черновике отрывка “На углу маленькой площади” (“женат, кажется, на Вронской”)»[294].
Во-вторых, имена толстовских персонажей отнюдь не являются просто «семейными, домашними обозначениями». Для писателя значимы их этимология и исконный смысл. Для функций имени Наташи Ростовой важна его семантика в латинском языке (natalia – «рождающая») – героиня «Войны и мира», действительно, представлена как дающая жизнь («плодовитая самка» в Эпилоге); кроме того, существенно место памяти святой Наталии в церковном календаре (и, тем самым, дата именин Наташи Ростовой) – это 26 августа старого стиля, день Бородинского сражения[295]. Также функционально имя Николая Ростова: в нем сконденсированы представления о Николе (Николае) Угоднике и его покровительстве русскому народу, в том числе в ратном деле[296]. Имена Андрея Болконского и Пьера Безухова также наделены подобным семантическим ореолом, указывая на мужественность князя Андрея (ср. значение его имени в греческом языке: – «мужественный») и на место Пьера/Петра, с образом которого связан комплекс ключевых авторских идей, в произведении («Петр» по-гречески «камень», Иисус Христос, нарекая апостолу Симону имя Петр, именует его камнем, на котором будет основана Церковь). Совпадение имен любимых толстовских героев с именами братьев апостолов Андрея и Симона-Петра выделяет Болконского и Безухова как главных персонажей «Войны и мира», в образах которых заключен глубинный философский смысл[297].
«Говорящие» фамилии у Толстого встречаются спорадически. Обыгрывание Толстым семантики имен персонажей сходно с поэтикой имен у Гоголя и Достоевского, хотя и не является столь же последовательным.
Одним из толстовских произведений, в которых имена персонажей и фамилия главного героя семантизированы и наделены символической функцией, является рассказ «Хозяин и работник» (1895). Первое встречающееся в рассказе имя-символ принадлежит не персонажу, а святому, в день и в ночь после праздника которого происходят описываемые далее события. Затем следует первое упоминание о центральном персонаже – купце Василии Андреиче Брехунове: «Это было в семидесятых годах, на другой день после зимнего Николы. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу второй гильдии Василию Андреичу Брехунову, нельзя было отлучиться: надо было быть в церкви, – он был церковный староста, – и дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику для покупки у него давно уже приторговываемой рощи. Василий Андреич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рощу десять тысяч только потому, что Василий Андреич давал за нее семь. Семь же тысяч составляли только одну треть настоящей стоимости рощи. Василий Андреич, может быть, выторговал бы и еще, так как лес находился в его округе, и между ним и деревенскими уездными купцами уже давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого, но Василий Андреич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячкинскую рощу, и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои семьсот рублей, добавил к ним находящихся у него церковных две тысячи триста, так чтобы составилось три тысячи рублей, и, старательно перечтя их и уложив в бумажник, собрался ехать» (XII; 297).
Зимний праздник святителя Николая (Николы) Мирликийского – 6 декабря старого стиля (19 декабря нового стиля). Часто это время сильных морозов, именовавшихся никольскими. Греческое имя Николай, как и имя брехуновского работника Никиты (в отличие от хозяина уцелевшего после ночи в морозной степи, когда они сбились с пути) содержит корень nоk-, означающий «победа» (ср. греческое слово ). Николай Мирликийский назван тезоименным победе в службе на праздник 6 декабря. И в рассказе Толстого смиренный и простой мужик Никита духовно побеждает надменного горделивого купца Брехунова; Николай-Никола Мирликийский, один из самых почитаемых в народе святых, словно приходит на помощь Никите – почти своему тезке.
Имя Николай обладает символическим смыслом и связано с почитанием святителя Николая, в старом русском варианте – Николы (в народной огласовке – Миколы) Мирликийского (Николая Угодника, Николая Чудотворца). Николай (Никола) Мирликийский особенно почитался на Руси.
Николай Чудотворец в народном представлении – самый добрый святой: «В отличие от некоторых других святых (например, от Ильи-Пророка) и даже в отличие от самого Христа, образ Николы не несет в себе ничего грозного, страшного. Никола это постоянный милостивец русского народа. Ради проявления милости ему приходится иногда обманывать других святых и самого Христа, настолько в народном сознании Никола живет как воплощенная снисходительность к нашим земным несчастьям и как деятельная, практическая любовь и пособничество в нужде»[298].
В апокрифических легендах о святом Николае говорилось о его простом происхождении – из «смердовичей»[299]. Не случайно Платон Каратаев, олицетворяющий в «Войне и мире» народную душу, молится кроме Флора и Лавра (Фролы и Лавры) именно Николе Угоднику (т. 4, ч. 1, гл. XII).
Одна из функций святого Николая – охранитель в пути, а также провожатый душ в рай. Показательны народные пословицы: «Никола в путь, Христос подорожник!», «Бог на дорогу, Никола в путь!»[300] Никола Мирликийский как помощник и покровитель путешественников представлен также в агиографии. Никола Угодник спасает в бурю на море Димитрия, который «имяи вру и надждю велику къ святому Никол». Димитрий плыл на праздник святого Николы, терпя бедствие; оказавшись уже на морском дне, он воззвал: «Святый Николае, помози ми!» – и был изведен святым на берег и оказался в собственном доме. В Сказании о чудесах Николы Мирликийского он «съ плавающими плаваетъ, по пути ходящимъ помощьникъ»[301].
Застигнутый бураном Брехунов тоже пытается молиться Николе Угоднику, но его молитва, являющаяся попыткой своеобразного «торга» со святым, тщетна: «“Царица небесная, святителю отче Миколае, воздержания учителю”, – вспомнил он вчерашние молебны, и образ с черным ликом в золотой ризе, и свечи, которые он продавал к этому образу и которые тотчас приносили ему назад и которые он чуть обгоревшие прятал в ящик. И он стал просить этого самого Николая-чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи. Но тут же он ясно, несомненно понял, что этот лик, риза, свечи, священник, молебны – все это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи» (XII; 336).
«Недейственность» молитвы Брехунова может быть объяснена не только бесполезностью молитв святому как таковой (за этим подразумеваемым в рассказе мотивом стоит отрицание церковного христианства, характерное для позднего Толстого), но и – в символическом, мифопоэтическом плане текста[302] – небогоугодностью моления купца и неприятием молитвы горделивца Николой – покровителем простых и смиренных – таких, как выживающий в буране работник Брехунова Никита[303].
Гордыня – один из главных грехов Василия Андреича, если не главный. Уже незадолго до смерти он рассуждает: «При родителях какой наш дом был? Так себе, деревенский мужик богатый: рушка да постоялый двор – и все имущество в том. А я что в пятнадцать лет сделал? Лавка, два кабака, мельница, ссыпка, два именья в аренде, дом с амбаром под железной крышей, – вспоминал он с гордостью. – Не то, что при родителе! Нынче кто в округе гремит? Брехунов.
А почему так? Потому – дело помню, стараюсь, не так, как другие – лежни али глупостями занимаются. А я ночи не сплю. Метель не метель – еду. Ну и дело делается. Они думают, так, шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись да голову поломай. Вот так-то заночуй в поле да ночи не спи. Как подушка от думы в головах ворочается, – размышлял он с гордостью. – Думают, что в люди выходят по счастью. Вон, Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. Бог и даст. Только бы дал бог здоровья» (XII; 327).
Имя хозяина, очевидно, значимое: по-гречески и – ‘царь’, – ‘царствовать’, – ‘царственный’; таким образом автор указывает на властолюбие и гордыню самоуверенного купца. Отчество Андреич производно от имени Андрей, значащего ‘мужественный’. Соответствие поведению героя здесь ироническое: Брехунов ведет себя во время метели отнюдь не мужественно, а сначала самонадеянно, затем – до неожиданного духовного перелома – трусливо и подло, бросая на верную смерть Никиту. Фамилия Брехунов указывает на ложность жизненной позиции Василия Андреича («брехать» – ‘лгать’).
Символично также имя работника Никиты. Его небесный покровитель – по-видимому, святой мученик Никита[304], и жизнь брехуновского работника была тяжелой и исполненной мучений. По-гречески – ‘способный к победе’. Греч. – ‘победа’, – ‘побеждать, превосходить’. Имя Никита – однокоренное с именем Николай, которое означает ‘победитель народов’. Никита оказывается победителем и над смертью, и над нравственными принципами, над грехами хозяина, который, отогревая замерзающего работника своим телом, жертвует ради него собственной жизнью, как бы сливаясь с ним в одно бессмертное «я»: «И вдруг радость совершается: приходит тот, кого он ждал, и это уж не Иван Матвеич, становой, а кто-то другой, но тот самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его, и этот, тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреич рад, что этот кто-то пришел за ним. “Иду!” – кричит он радостно, и крик этот будит его. И он просыпается, но просыпается совсем уже не тем, каким он заснул. Он хочет встать – и не может, хочет двинуть рукой – не может, ногой – тоже не может. Хочет повернуть головой – и того не может. И он удивляется; но нисколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и николько не огорчается и этим. И он вспоминает, что Никита лежит под ним и что он угрелся и жив, и ему кажется, что он – Никита, а Никита – он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыханье, даже слабый храп Никиты. “Жив, Никита, значит, жив и я”,– с торжеством говорит он себе» (XII; 339).
Таким образом, духовный путь смерти и воскрешения Василия Андреича Брехунова отмечен в толстовском тексте вехами символических имен.
Приложение
Ненужный Толстой: рецепция личности и творчества писателя в год столетнего юбилея[305]
Хотим мы того или не хотим, а нам все-таки никуда не деться и от внимательного прищура старых серых глаз, пристально вглядывающихся в нас из-под нависающих лохматых бровей великого яснополянского отшельника, яростного жизнелюба и яростного религиозного реформатора, гениального художника и упрямого моралиста:
– Ну-ка, что ты за человек?
Игорь Виноградов[306]
Юбилей этот прошел в российской государственной и общественной жизни попросту незамеченным. Ни официальных церемоний, ни вечеров памяти, ни – исключение едва ли не единично – передач на телевидении. Пара-тройка старых кинофильмов по романам и повестям «матерого человечища» на «маргинальном» в телесетке канале «Культура». И это почти все. (Чисто научные мероприятия, конференции и круглые столы, организованные московским и яснополянским музеями Толстого, – не в счет.) Никакого намека на «истерическую пышность»[307] пушкинского юбилея. Тишина. Молчание. Которые как будто бы свидетельствуют, что для современного российского сознания Толстой переместился с книжной полки в музейную экспозицию, если не в запасник. Почему? Только ли потому, что tempora mutantur et nos mutamur in illis? Или у нынешнего небрежения Толстым есть особенные причины?
Утром 20 ноября 2010 года, ровно в день столетней годовщины смерти писателя на станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги, на телеканале «Россия» прошел прямой эфир общественно-политической программы Дмитрия Киселева «Национальный интерес». Выпуск программы – едва ли не единственной передачи, напомнившей о столетней годовщине, – был посвящен теме «Толстовство и современность».
В качестве экспертов на передачу были приглашены наместник московского Сретенского монастыря, ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон Шевкунов, посол Израиля в России Доррит Голендер-Друкер, заведующий Пироговским отделом Музея-усадьбы «Ясная Поляна» Геннадий Опарин и литературный критик и журналист, ведущий телеканала «Культура» Николай Александров[308].
В общем, разговор получился. Правда, скорее вокруг Толстого, чем о нем. Первым был вопрос о причинах отрицательной реакции Русской православной церкви на предложения в канун 100-летнего юбилея снять отлучение с писателя. Ответ архимандрита Тихона, разъяснившего, что писатель сам себя отрешил от Церкви (о чем и свидетельствует синодальный акт 1901 года), был точен, взвешен и споров не вызвал.
Мир был нарушен другим вопросом телеведущего: является ли революция «зоной ответственности» Толстого? Архимандрит Тихон, напомнивший о миллионных тиражах толстовских религиозно-публицистических трактатов, категорично расценил Февральскую и Октябрьскую революции как результат деятельности Толстого: яснополянский мудрец действительно создал новую религию, но ею оказалась псевдорелигия революционного насилия. Толстой «выхолостил из сознания русского народа» нравственно-религиозные истины и социальные ценности («его усилия по разрушению церкви, армии, государства, <…> он во многом разрушил сознание русского народа»). «Радикальнейшее» воздействие Толстого на общественную жизнь России способствовало революционной катастрофе: «внимала ему вся Россия, завороженная…». Оказалось, что «надо различать Толстого – гения литературы и Толстого, который решил стать учителем человечества».
Заступились за Толстого Геннадий Опарин и Николай Александров, заметивший, что уход Толстого – по существу, «предвестие трагедии 17-го года». Толстой указал на симптомы болезни, а не заразил ею Россию, его критика во многом справедлива, но «толстовское послание не было услышано». «Толстой не призывал к разрушению – так были услышаны его слова».
Спор, однако, оказался всё же довольно вялым. Наверное, потому, что все аргументы сторон были уже давным-давно высказаны. Мнение об ответственности Толстого за революцию и даже о глубинном родстве его духа и страсти к насилию, разрушению и упрощению наиболее отчетливо высказал еще в 1918 году Николай Бердяев[309]. В частности, в вину Толтому Бердяев вменяет максималистское отвержение истории, роднящее его с революционной одержимостью: «Исторический мир – иерархичен, он весь состоит из ступеней, он сложен и многообразен, в нем – различия и дистанции, в нем – разнокачественность и дифференцированность. Все это так же ненавистно русской революции, как и Толстому. Она хотела бы сделать исторический мир серым, однородным, упрощенным, лишенным всех качеств и всех красок. И этому учил Толстой как высшей правде»[310].
Между тем, несмотря на всю суггестию и магию бердяевского слова, его оценка роли (пусть даже метафизической) Толстого в революции сомнительна. Проповедь Толстого была обращена к отдельным личностям, а не к массе, и ему, религиозному рационалисту, было глубоко чуждо стихийное начало, питавшее смуту. Что же до прямого воздействия на вождей и вершителей переворота, то главного из них, как известно, «перепахал» отнюдь не трактат «Царство Божие внутри вас» и не роман «Воскресение», а совсем иная книга; и революционные массы «повелись» тоже не на идеи яснополянского старца. И в конце концов, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.
Бердяевский след обнаружился в толстовском выпуске «Национального интереса» и в трактовке оппозиции «Толстой – Достоевский» как «яда и противоядия», принадлежащей архимандриту Тихону, причем, подпав под магнетическую власть буквально понятой мифологемы, священнослужитель заявил, что Достоевский приходил в ужас от антицерковных произведений Толстого и спорил с ним с православных позиций[311]. В действительности автор «Дневника писателя» с автором «Исповеди» не полемизировал никогда – потому что не мог читать антицерковных толстовских сочинений, которые были изданы, а в абсолютном большинстве и написаны уже после смерти Достоевского.
За сорок пять минут телевизионного эфира участники передачи успели рассказать о многом. О перенесенном недавно на земли Толстовского музея камне с родины Хаджи Мурата, на котором выбита надпись на русском и на арабском: «Да упокоит и примирит Всевышний души всех погибших в кавказских войнах». Об израильских сельскохозяйственных общинах – кибуцах, созданных не без влияния толстовских идей. Но ни о самих идеях Толстого, ни о его художественном творчестве не было сказано почти ничего. Справедливо прозвучала финальная реплика Николая Александрова: «Хорошо бы обратить внимание на Толстого – человека огромного духовного подвига».
Однако не обратили. Не вышло. И повинны в том не столько участники беседы, сколько ведущий, очертивший своими вопросами жесткое поле – загон, в котором самому писателю почти не нашлось места.
На первый взгляд, книга литературного критика и писателя Павла Басинского «Лев Толстой: Бегство из рая» стала заметным явлением благодаря присужденной ей первой премии «Большая книга» за 2010 год. Не берусь судить об оправданности премии, но не заметить эту книгу, действительно, было нельзя.
Толстой-писатель Басинского не интересует. Как точно заметил Сергей Бочаров, «в эту сторону, в эту голову автор солидной книги удивительно мало смотрит. Не художник Толстой герой этой книги»[312]. Справедливости ради надо отметить, что и от Толстого – религиозного мыслителя и проповедника тоже остались рожки да ножки. Из всего же литературного творчества присутствует один инвариантный сюжет бегства, лихо опрокинутый прямо на биографию яснополянского старца. Диагностировав у своего «пациента» «синдром беглеца»[313], автор с легкостью необыкновенной обнаружил то же свойство едва ли не у всех героев Льва Николаевича: «Оленин бежит на Кавказ, а молодой Нехлюдов в “Утре помещика” убегает из университета в деревню. Граф Турбин в “Двух гусарах” внезапно появляется в губернском городе К. и так же внезапно исчезает. Блуждает в степи герой рассказа “Метель”. Болконский бежит в действующую армию. Наташа Ростова сбегает с Анатолем Курагиным. Пьер Безухов бродит по полям сражений в разоренной Москве. Анна Каренина уходит от мужа, а Вронский после ее гибели не находит другого выхода, как бежать на сербскую войну. Уходит по этапу за Катей Масловой другой Нехлюдов в романе “Воскресение”. Отец Сергий бежит от земной славы, а император Александр в образе старца скрывается в Сибири. <…> Потерялись в степи купец Василий и работник Никита в повести “Хозяин и работник”. <…> Заблудился на охоте и испытал смертный ужас герой “Записок сумасшедшего”. Пробираясь из окружения, погибает Хаджи-Мурат. И это далеко не полный список бегущих и уходящих персонажей Толстого.
Но есть и последняя форма бегства – самоубийство. Этот путь выбирает третий Нехлюдов в “Записках маркера”, Федя Протасов в “Живом трупе” и Евгений в повести “Дьявол”. Падает под поезд Анна Каренина, а Константин Левин в самое счастливое время думает о самоубийстве» (с. 92).
Воистину все смешалось в книге Басинского: приезд и отъезд героя «Двух гусар» и нормальный, почти неизбежный для дворянина и офицера князя Болконского отъезд в действующую армию – с любовным увлечением Наташи Ростовой и с покаянной поездкой в Сибирь героя «Воскресения»; торговая поездка купца Брехунова и приезд графа Пьера Безухова на поле Бородина, вызванный непререкаемым желанием быть там, где вершится судьба России; оставление университета «другим» Нехлюдовым и самоубийство Анны Карениной, почему-то названное «падением».
Интерпретация и интеллектуальные обобщения – вообще не самая сильная сторона книги. Молодой Толстой безосновательно объявляется атеистом, хотя тут же сообщается о его юношеских молитвах (с. 272). Отказ писателя от замысла романа о Петре объясняется с простотой почти каратаевской: «Петр I просто опротивел ему как личность» (с. 247). Слова Победоносцева в ответе на просьбу Толстого не казнить народовольцев – «наш Христос – не ваш Христос. <…> В вашем показались мне черты расслабленного, который сам требует исцеления» – это, оказывается, скрытая угроза, напоминание о судьбе Чаадаева, объявленного сумасшедшим (с. 281).
Главный предмет – биография и личность Толстого – увидены тоже более чем нетривиально. Басинский неоднократно уподобляет своего беглеца малопочтенным гоголевским персонажам: Толстого, сидящего в каретном сарае в день ухода из Ясной Поляны, – герою повести «Коляска», в которой «уездный аристократ Пифагор Пифагорович Чертокуцкий спрятался от гостей в каретном сарае, но был конфузнейшим образом разоблачен» (с. 22); Толстого, медлящего и колеблющегося с решением о женитьбе, – небезызвестному господину Подколесину. Продолжая рискованные параллели – портрет Толстого в книге напоминает жизнеописание Пушкина, которое мог бы написать его закадычный друг Иван Александрович Хлестаков. Несколько рассказов, как Толстой терял память еще задолго до ухода. Рассуждения о психических странностях в детстве (остригает брови, бежит три версты по дороге, не желая садиться в карету, выпрыгивает из окошка, «имея страшное желание полететь вверх», и теряет сознание…). Объяснение, правда, дается достойное: обостренное чувство независимости, свободы. Упоминание о латентном гомосексуализме Толстого: приводится зафиксированное самим графом признание во влюбленности в мужчин, характерной для него в юные и молодые годы. Здесь же – подозрения Софьи Андреевны, что ее супруга связывают с Чертковым не только дружеские отношения (например, с. 586). И похоть, похоть, похоть…[314]
А чего стоит семейная жизнь, которую лишь саркастический демон мог бы назвать «раем»! Толстой – черствый эгоист, лишающий детей и внуков наследства. «Тряпка» в руках злого демона, «черта» Черткова. Скандальная влюбленность С.А. в композитора Танеева. У мужа – признание в вожделении к сестре жены Тане.
Дважды даются ссылки на медицинские заключения о психическом состоянии графини Софьи Андреевны, причем с первой соседствует тактичное замечание об аморальности и двусмысленности обсуждения поведения супруги писателя (с. 329). Жена, обыскивающая вещи супруга в поисках его тайного дневника, находящая его в сапоге и читающая. Ссоры из-за наследства, борьба за завещание. Булгакову, передающему просьбу графини Софьи Андреевны, Чертков, делая страшную гримасу, показывает язык, а сын Толстого Лев Львович кричит на Владимира Григорьевича: «Ты идиот! Все знают, что ты идиот!» (с. 580). Готовность родных объявить мужа и отца сумасшедшим. Душевная черствость Толстого, «утешающего» супругу, что смерть малолетнего сына Алеши – это хорошо. «То, что осталось после Алеши, труп ребенка, отвозили на санках С.А. с няней. У Л.Н. этот “предмет” вызвал полное равнодушие. Он весь в мыслях и чувствах где-то далеко» (с. 359).
На страницах книги словно чередуются кадры из дешевой мелодраматической фильмы: «С.А. дважды покушалась на самоубийство. Первый раз ее вытащили из пруда, второй – поймали на дороге к нему. После этого она била себя в грудь тяжелым пресс-папье, молотком, кричала: “Разбейся, сердце!” Колола себя ножами, ножницами, булавками. <…> Узнав, что Л.Н. и Маковицкий поехали в Горбачево, велела лакею отправить туда телеграмму, но только не за своей подписью: “Вернись немедленно. Саша”. Лакей сообщил об этом Саше, и она отправила нейтрализующую телеграмму: “Не беспокойся, действительны только телеграммы, подписанные Александрой”. Мать пыталась перехитрить дочь, дочь – мать» (с. 50).
Идут завлекательные «титры»: главка о попытке самоубийства графини Софьи Андреевны названа «Утопленница», а глава о духовном перевороте, испытанном графом Львом Николаевичем, – «Новый русский». Сдержанную информацию источников биограф щедро расцветил яркими красками[315].
Можно возразить: по большей части сведения, приводимые Павлом Басинским, документированы и, по-видимому, достоверны; мало того, многие из них уже упоминались жизнеописателями. Толстой был, действительно, тяжелым человеком, а биография – не житие. К тому же в книге есть не только скандальные подробности и скабрезности. И – наконец – не надо быть ханжами. (На последнее не раз напирает и сам автор сочинения о яснополянском «беглеце».)
Биография великого писателя, конечно, не должна превращаться в словесную икону, однако должна нести в себе отпечаток духовной личности портретируемого. А Толстой под пером Басинского стал мелок. По словам самого автора, «Толстой оказался комком снега, вокруг которого наворачивался грандиозный снежный ком, и это происходило с каждой минутой его перемещения в пространстве» (с. 20). Уход предстал паническим бегством, объяснимым многолетним семейным разладом, тягостной ссорой полубезумного старика с доведенной им до сумасшествия женой; предстал следствием интриг злого духа – Черткова; явился отголоском изнурительной войны из-за завещания писателя, отрекшегося от своих имущественных прав. Духовные искания, несовместимость реальной жизни и проповедуемых идеалов – все это в сочинении Басинского оказалось на десятом месте.
В книге уход Толстого стал паническим бегством, скандалом и крахом. Нужно согласиться: все это тоже было. Но было не только это.
Может статься, я неправ и в намерения автора книги отнюдь не входило сделать Толстого персонажем «Русских сенсаций» и телепрограммы «Ты не поверишь!», но концентрация такого материала столь велика, а акценты на нем так сильны, что происходит неизбежное искажение оптики и смещение масштабов. Возможно, Павел Басинский прежде всего хотел показать Толстого просто человеком, без глянца. Но стараниями биографа Толстой предстал перед публикой «без штанов». Показательна публикация фрагментов книги в «Московском комсомольце», – отрывки из другой биографии писателя массовая газета вряд ли бы напечатала. Впрочем, литературного скандала книга Басинского не вызвала, и в этом нельзя не видеть бесспорного свидетельства, что подобный метод жизнеописания уже не удивляет и не раздражает.
Итоги конкурса на премию «Большая книга» 2010 года оказались необычными по крайней мере в одном отношении. Граф Лев Толстой смог погреться в лучах славы «больших» лауреатов дважды: еще одну премию, третью, получило другое сочинение о яснополянском мудреце – роман Виктора Пелевина «Т.». Впрочем, в действительности к автору «Войны и мира» и «Анны Карениной» пелевинский граф Т. имеет отношение самое косвенное.
В литературно-критической среде это сочинение удостоилось реакции в высшей степени неоднозначной. С одной стороны, роман был аттестован как «пелевинское глумление» над Толстым, ибо «никакой новой литературы, в том числе иронической, колкой, вступающей в полемику с классиком, без настоящего чувства к Толстому не будет. А настоящего чувства к Толстому в книге Пелевина нет»[316]. Андрей Немзер, категорично высказавший это мнение, счел даже сам факт присуждения премии за роман «Т.» свидетельством того, что «мы в моральном распаде». С другой стороны, Наталья Примочкина оценила пелевинское творение весьма высоко, а в выборе Толстого прототипом героя обнаружила глубокий смысл – свидетельство внутреннего родства двух писателей[317].






