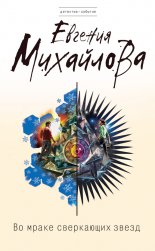Смотритель Вересов Дмитрий

– Как хорошо! А то я думала – Бокс Третий. Знаете, здесь шагу невозможно ступить, чтобы не… Все эти геометриды, махаоны, круглые железные столы, фланелевые пиджаки, пикейные юбки…[33] Я так устала и так хотела бы вырваться…
Вопрос «а почему бы вам не переплыть речку и не сесть в Рождествено на автобус» даже не пришел Павлову в голову. Вместо этого он взял тонкую холодную руку в свою:
– Ах, я знаю, из себя трудно вырваться. У меня, например, совсем не получается. То есть я готов, совсем готов, но как – понятия не имею. Говорят, надо просто начать все делать по-другому? Но я пробовал делать все не так, как привык. Не так есть, не так пить, не так читать, одеваться по-другому, заниматься какими-то совсем-совсем другими вещами… Мыслить и вправду начинаешь немного иначе, но чувства! Чувства никуда не денешь, их не перевернешь, не сменишь, как… одеколон.
– Есть нечто худшее, чем чувства, – печально ответила Тата, и пальцы ее дрогнули. – Есть власть культуры – и ты в ней, как в сетях. Вот я, например, уже давно и прекрасно знаю, что мне никогда не избавиться от образов, которые на самом деле давнымдавно сгорели, сгнили, рассыпались в прах. А кто-то все равно все выходит в сад, и полыхают зарницы, и чем-то горьковатым тянет с полей[34] И что самое ужасное – эта ловушка все продолжает смыкать свои железные челюсти. И тут вся разница в том, кто в какую ловушку попал. Вот вы… Впрочем, раз вы здесь, то вопрос мой неуместен. Лучше задам другой вопрос – почему?
– Я в детстве, до школы еще, жил на Козьем болоте, ну, на Почтамтской, в коммуналке, и весь этот фиолетовый снег вечером на Морской, граненые деревья зимой в сквере…
– Понятно, понятно, – остановила его Тата, – только не продолжайте. – Она как-то нервно посмотрела на высокий берег. – Но вам пора, уже светает.
Павлов торопливо поднялся, хотя был уверен, что просидел на терраске никак не больше получаса.
– Сирин! Сирин! – Однако пес не отзывался. – Послушайте, я без него никуда не поеду, – вдруг решительно сказал он и приблизился к этой загадочной женщине.
– О, господи! – прошептала Тата. – Вы с ума сошли! Давайте поищем вместе.
Но пес так и не отзывался, хотя только что лежал под стеклянным полом террасы, выглядя сверху каким-то нелепо распластанным подобием динозавра.
– Так получилось, само как-то… Я ничего не имел в виду… – как мальчишка, начал оправдываться Павлов, но Тата уже поспешно тянула его к берегу.
– Ступайте, ступайте, никуда он не денется, побегает и вернется… Идите же!
– Да вы что? До города километров пятьдесят! Нет, я никуда без него не уеду! Сяду вот тут и буду ждать! – Он уселся на валун, на который до этого опиралась коленом Тата.
На секунду ее лицо стало таким же бело-серебряным, как волосы.
– Да вон ваша собака, уже на том берегу, видите?
Действительно среди чахлых кустов низкого берега мелькали черно-белые пятна. И Павлов быстро снова разделся и, не оглядываясь, бросился в воду.
Но на берегу он напрасно бегал и звал Сирина – ему отвечала только болотная тишь, а шале на острове – да и сам остров – пропали в ночной августовской мгле.
Павлов с трудом добрался до машины, лег на заднее сиденье и вернулся в город только после того, как рассосались утренние пробки. Как ни странно, подступившая уже совсем близко тоска, словно застыла в своем обычно неумолимом движении. Или было просто не до нее? Очередное исчезновение Сирина, странный дом и еще более странная женщина совершенно поглотили его мысли и чувства. Особенно засела у него в сознании последняя. В ней было то, чего так не хватало ему в большинстве современных женщин: полное отсутствие желания понравиться. Как человек молодой, холостой и с деньгами, Павлов не раз ради любопытства залезал в Сеть на соответствующие сайты и всегда выходил оттуда с ощущением глубокого омерзения. У него никак не укладывалось в голове, как молодые, вполне нормальные и даже привлекательные на вид дамы и девицы пытаются продать себя всеми доступными способами. Из каждого комментария так и кричало одно: ну возьми меня, меня, я лучше той и лучше этой, как угодно, только возьми! И уже ничего удивительного не было после всего этого в циничных реакциях развращенных таким образом мужчин. Разумеется, он понимал, что пропаганда вечной молодости и красоты, так усиленно насаждаемая отовсюду, обращена вовсе не на то, чтобы люди действительно были здоровы и хорошо выглядели, а исключительно для того, чтобы выгодней продаться. Что большинство, как всегда глупое и податливое, давно съело эту приманку и теперь из кожи вон лезет, чтобы соответствовать идиотским стандартам, не имеющим ничего общего с подлинной красотой и с настоящей женственностью. Все эти нынешние бабы подменяют влекущую власть пола легкой доступностью. Этой легкой доступности наслаждения не так-то легко противиться, но все же вполне по силам человеку, тем более что тело – не уникально. А вот противостоять глубокой и темной нерассуждающей власти пола…
Но, похоже, нынче все позабыли о влекущих тайнах бытия, подменив их рублем и плотью. Что ж, похоже и впрямь, как говаривал старина Тютчев, не плоть, но дух растлился в наши дни…[35] И когда толпы молодых девиц превращаются в простые готовые к употреблению овощи, что можно ждать от мужчин? От одной мысли об этом Павлова уже передергивало. Многое можно понять, многое даже оправдать. Конечно же, человек слаб, нестоек, и девушкам ныне, в этот продажный век, ужасно сложно, но… Но не до такой же степени. Павлова неизменно поражала степень, до которой дошло ныне это убожество духа.
А тут красивая женщина вела себя абсолютно естественно, говорила открыто и в то же время об очень личном, не было у нее ни маникюра, ни косметики, ни сногсшибательного загара, зато шел от нее ровный глубинный ток теплой женственности, от которой кружилась голова. «Вот меня и закружило, – подумал Павлов, – должно быть, оттого, что такая естественная женственность чрезвычайно редка в наше время».
Сирин, как ни в чем не бывало, появился на этот раз всего через пару дней, но к этому времени Павлов понял уже окончательно, что влюблен в столь необычно явившуюся ему Тату по уши. Он придирчиво осмотрел пса, глупо надеясь, что обнаружит на нем какие-нибудь знаки того, где тот был. Может быть, он, мерзавец, просто просидел все эти дни у стройных Татиных ног? Но на Сирине, как всегда после его отлучек, не было и намека на странствия: все та же идеально ровная, лоснящаяся шерсть, ни ссадины, ни пятнышка грязи, хотя всю ночь перед его возвращением бушевала сильная гроза с ливнем. – Черт знает что такое! – резюмировал Павлов и собрался сегодня же снова ехать туда, не знаю куда. Он уже давно и безуспешно изучил карту, на которой, кроме странно прямых безымянных не то речонок, не то канав, в этом месте не было изображено ничего. Он даже залез в Google, но и там промелькнула лишь унылая штриховка болот да еще какая-то проселочная дорога, которой он, кстати, нигде не пересекал. Сирина Павлов на этот раз решил оставить дома. Пес оскорбленно выл за запираемой дверью, но тут гнусно затрезвонил междугородний, и вернувшемуся Павлову сообщили о поставке новой партии шуб, которую надо было немедленно принять. А назавтра грянула аудиторская проверка, и еще несколько дней нечего было и думать о том, чтобы куда-то там еще выбираться.
Глава 4
Сквозь нежный прибрежный туман дом казался беспомощно сделанной акварелькой: охряные стены, несколько шатких колонн, с которых, шелестя, осыпалась краска, поющее под речным ветром круглое окно крошечного мезонина, скрипящие от времени перила белого крыльца. Марусе невольно захотелось крикнуть: «Мисюсь, где ты?»,[36] но вокруг было так тихо, что теперь любые слова прозвучали бы совсем неуместно. Розовые пятна солнца кое-где уже лежали на влажном песке. Пока Маруся выливала воду из кроссовок и отжимала футболку и шорты, Вырин уже двумя прыжками преодолел крыльцо и разлегся на веранде, в которой едва поместился.
«Интересно, чье же это имение? – неторопливо обходя дом, подумала Маруся. – Тут, на севере, никто и не строился. Может быть, дача? Но дач так не строили… Да, вот и парадное крыльцо, и словно бы даже след от пушечки. Но размеры, размеры – таких просто не бывает, а если бы и были и так сохранились, то об этом кричали бы давно все справочники. Странно…» Все это было и в самом деле весьма странно. Однако домик стоял и даже пах чем-то давно забытым, читанным только в книгах: то ли пенками со свежих сливок, то ли бельем под нагреваемым на плите утюгом.
Наконец, Маруся осторожно поднялась на веранду и толкнула дверь с веселой рамкой из разноцветных стеклышек.
В крошечных сенцах, темных и ветхих, пахло мышами и почему-то шоколадом. Из них шли две двери, хотя Маруся была уверена, что снаружи дом был никак не больше одних этих сеней. Она долго колебалась, какую же ручку тронуть: гнутую медную или латунную с акантовым листочком, но любовь к античности перевесила, и она толкнула левую. Дверь, шурша, растворилась, и Маруся попала в крошечную комнату с двумя окнами, служившую, вероятно, гостиной: овальный ореховый столик, пара гнутых полукресел, изразцовая печка с шандалами. На столике в беспорядке валялись книги, в том числе и раскрытые. От всего веяло покоем и отрешенностью.
Маруся осторожно подошла к окну, но не увидела ничего, кроме кустов жасмина и сирени, которых, кстати, явно не было снаружи. Или она их не увидела? Но этого просто никак не может быть – она обошла домик со всех сторон, даже касаясь стен руками; никаких кустов вокруг не было и в помине. Странно. Однако кусты шевелились под речным ветерком и даже слабо благоухали. Тогда она, не дыша, села на полукресло, ожидая, что оно сейчас под ней рассыплется. Но штофное сиденье только легко вздохнуло, принимая ее, и Марусе тут же показалось, будто она сидела в нем всю жизнь.
Некоторое время она просидела, как школьница, сложив руки на коленях и ожидая неизвестно чего, но потом взгляд ее невольно скользнул по раскрытой странице.
«…предстал оледеневший человек, маскирующий свое беспокойство, скрывающий сердце под гордыней, а гордыню за „неприсутствием“…»[37] Слова эти были энергично отчеркнуты ногтем. Марусе стало как-то не по себе и от этой фразы, и от тишины, и от непонятных кустов за окнами. Она уже положила руки на подлокотники, чтобы подняться, но сзади послышался звук открываемой двери. Маруся похолодела: никакой двери, кроме той, в которую она вошла, в комнате не было.
– А вы дальше прочтите, дальше, – произнес за ее спиной красивый мужской голос.
Не поворачивая головы, Маруся послушно наклонилась к странице.
«…Человек горящего холода и зачинатель дела, в котором сочетаются расчетливость и необъятность», – прочитала она вслух.
– Вот именно, – голос был печален. – Но и это еще ничего не объясняет. Сидите, сидите, – и в следующее мгновение на втором полукресле перед Марусей оказался высокий, очень худой человек лет под сорок, с поредевшими русыми кудрями, мягкой бородкой и хищными, изящно вырезанными ноздрями тонкого носа.
Он взял ее руку и склонился над ней:
– Артемий Николаевич. Гильо. Однако, несмотря на фамилию, по матери русский столбовой дворянин…
Маруся даже вспыхнула: она всегда хотела когда-нибудь увидеть человека, который мог проследить свою родословную никак не позже, чем с XV века. Но хозяин, видимо, понял ее неправильно.
– Ежели сомневаетесь, можете справиться в Бархатной книге. Ба…
– О, нет, что вы, я верю, верю!
– Продолжаю. Владелец сего именьица, но без душ – однодворец так сказать…
Маруся быстро окинула взглядом его вельветовые джинсы и мятую ковбойку.
– Послушайте, зачем вы разыгрываете этот спектакль? Какое имение, какие души, когда за окном двадцать первый век?
– За окном, между прочим, персидская сирень и валенсийский жасмин. Я хотел было и акацию, поскольку под ней, как известно, никогда не водятся никакие гады, но нигде не мог найти турецкой…
– Хорошо, пусть сирень, но что за понятия? Вы купили этот остров?
– Купил? Нет, его купил, кажется, прапрадед, после того как вернулся с Крымской…
– Тоже ладно, но зачем вы тут изображаете какого-то помещика?
– Я не изображаю – я живу, – усмехнулись под русыми усами совсем молодые еще полнокровные губы. – Да, представьте, жил и живу. Впрочем, простите, я, вероятно, ошибся, и вас совсем не интересует усадебная жизнь и прочие минувшие прелести. В таком случае – покорнейше прошу извинить, – и Артемий Николаевич уже приготовился взять в охапку лежавшие на столике книги.
– А что это за книги? И про кого?
– Лучше – про что. А про то, как все это, – он неопределенно махнул рукой, – ушло. Только вот что ушло сначала: плоть или дух? Вещи или восприятие? Или просто-напросто все в этот мире как явление доходит до некоего предела и становится пародией на само себя? Но… идет ли этот процесс изнутри или его что-то или кто-то подталкивает снаружи? Как, например, этот господин. – Артемий пустил веером страницы другой, закрытой книги, одетой в мраморный самодельный переплет. – Ведь именно с ним вошло в русскую литературу – и, соответственно, в русскую жизнь – нечто новое и блистательное, но в то же время и страшное. И разрушило… И он никогда не будет, как Пушкин, символом и дыханием всего народа… – Маруся слушала эти полубезумные речи, но по спине у нее вдруг пробежал озноб – не от слов, но от какой-то глубинной их истинности. На мгновение ей показалось, что перед ней открылась какая-то черная, холодная и бездонная яма. – Понимаете, еще с самого начала можно было заметить в нем излишнюю виртуозность, чуждую русскому, а потом и пошло-поехало. Эта насмешливая надменность по отношению к читателю, и главное – его тонко-тонко, еще едва уловимо намечающаяся бездуховность. Сначала просто где-то чего не хватало, где-то были провалы – а ведь русскую литературу всегда отличало что-то существенное, то есть требовались не только художества, но и добрые чувства. Да, да, непременно добрые, благие… И – чувства – в первую очередь. Недаром Бунин назвал его «чудовищем»…
– О, господи, так вы это про – Сирина! – вырвалось у Маруси почти с облегчением.
– Разумеется. – Но в следующую минуту пыл хозяина почему-то вдруг угас столь же неожиданно, как и возгорелся. – Впрочем, извините, – несколько смущенно произнес неизвестный мужчина, – ведь я не предложил вам чаю, болван! Утро, туман, да одежда на вас мокрая. Сейчас, сейчас. – Он заторопился и через несколько минут вернулся с подносом, на котором шипела спиртовка с бульонкой и на розовой тарелочке лежали какие-то булочки.
– А я думала – вы принесете самовар, – выдохнула, сама того не ожидая, Маруся.
– Но кто же его, простите, поставит? – искренне удивился Артемий. – У меня слуг нет. Бриоши, к несчастью, тоже не очень свежие.
Однако вкус и чая, и булочек, несмотря на непривычность обстановки, оказался замечательным. Маруся съела все до одной, но дальше слушать речи про нелюбимого ею писателя ей не хотелось.
– А ваша усадьба есть в справочниках? – попыталась она сменить тему. – Сейчас вышли очень хорошие обзорные книги, прямо по районам…
Артемий задумался:
– Ну, возможно, в Алфавитном списке по уездам или в каком-нибудь обзоре помещичьих усадеб… Не знаю, не интересовался. А вам, собственно, зачем?
– Не знаю, – честно ответила Маруся. – У меня душа оттаивает, когда я попадаю в такие углы. Знаете, эти въездные аллеи, отцветшие куртины, старички за преферансом, дети на качелях…
– Знаю, – серьезно подтвердил хозяин.
– У меня ничего этого не было – этого золотого, общестарорусского детства, и я чувствую свою шаткость, неуверенность, словно опоры нет… А когда я попадаю… пусть даже на руины, мне становится хорошо, прочно как-то, спокойно… Мне это очень, очень нужно. Мне говорят, что сегодня мало кому такое нужно, но это неправда, всем нужно, просто они не понимают… – Тут Маруся окончательно сбилась и встала. – Спасибо, я, пожалуй, пойду уже…
Артемий тоже поднялся и положил ей на плечи свои худые, на вид почти бесплотные руки, ощущавшиеся однако тяжело и значительно. От них шел жар, и Маруся невольно посмотрела прямо в серые глаза под тяжелыми тонкими подрагивающими веками.
«Вы нужны мне», – прямо говорили они, и Марусино сердце дрогнуло от жалости и любви. Конечно, трудно жить такому странному, никем нынче не понимаемому, вероятно, свихнувшемуся на прошлом, в общем-то молодому еще человеку. Сидит в своем придуманном мире, как в скорлупе… – Я еще… приду, – прошептала она и опрометью выбежала из гостиной, успев все же заметить в сенцах новую полураскрытую дверь, за которой сверкнул блестящий бок рояля. Совсем смешавшись от увиденного и услышанного, Маруся позвала Вырина, как что-то единственно реальное, но противный пес не показывался и на крик не отзывался. Она с тайным страхом обежала домик, но, кроме голого прибрежного песка, не увидела ничего. Не было ни кустов, ни собаки, а рояль в это крошечное помещение внести было и вовсе невозможно. И, словно спасаясь от самой себя, Маруся с разбегу бросилась в воду.
Она долго плутала лесом, разбила коленку и даже, к своему ужасу, – ибо гонорар должен был прийти только через пару недель – утопила в болоте кроссовку. Наконец, уже где-то часам к трем пополудни, она вышла в придорожный борок, который нельзя было спутать ни с каким другим, и через полчаса оказалась дома. Пса-предателя там не оказалось, но Маруся, как ни странно, не испытывала по этому поводу никакой тревоги или злости. Все-таки именно благодаря ему она попала в этот странный дом и увидела этого непонятного, наверняка ненормального, но такого красивого и удивительного человека. А пес – что? За время, прожитое за городом, Маруся вполне прониклась крестьянским убеждением, что никакая собака в лесу не пропадет. Завтра же она встанет пораньше, переведет свои положенные десять тысяч печатных знаков и уже сама отправиться на остров. Но плавание в утренней реке не прошло для Маруси даром: на неделю она слегла с жесточайшей простудой, так что даже пришлось посылать появившегося Вырина к соседке с запиской в зубах. Меду Марусе принесли, но на ноги она поднялась только к первому Спасу.
Глава 5
Август стоял грозовой, но не было в этих грозах напряжения и духоты; просто по утрам легко дышалось, травы поднимались выше пояса, и деревья постоянно сверкали свежевымытыми листьями. Маруся, еще болея, как-то быстро и складно закончила переводить бесконечные россказни про неподражаемого сэра Эндрю, гонорар вместе с новым заказом ей привезла приятельница, и потому теперь в середине месяца у нее неожиданно образовалось несколько совершенно свободных дней. Несколько раз она уходила с Выриным далеко в поля, но присмиревший в последнее время пес почему-то никуда больше не рвался и вел себя добропорядочным домашним животным. Не добившись толку от Вырина, Маруся сама принялась исследовать все окрестности в поисках того молодого борка, от которого теперь дорога к островку казалась ей простой и ясной. Но борок исчез, словно сквозь землю провалился.
В принципе в этом не было ничего удивительного: по Полужью теперь бесследно исчезали не то что борки, а целые леса, и Маруся сама часто просыпалась от выматывающего душу, как сирена воздушной тревоги, звука пил где-нибудь за Ящерой или Веряжкой. От него было невозможно избавиться, он ввинчивался в нервы, проникал в самую плоть, и потом, стоя порой на платформе и видя, как проносятся мимо в сторону белоглазой чуди[38] вагоны с мертвым лесом, Маруся никак не могла избавиться от сравнения этих товарняков с вагонетками Дахау. Так что, должно быть, нет более того борка, как и не было, а в незнакомом месте найти искореженную тракторами землю и пни в нынешнем августовском буйстве было практически невозможно.
Тогда Маруся стала просто бродить по окрестным лесам наобум. Она открыла для себя много прелестных уголков, обнаружила нетронутый брусничник, как розовой пеной, залитый спеющими ягодами, и даже один раз увидела медведя, с жадностью пожирающего остатки малины. Но ничего похожего на болота, встретившиеся тогда на ее пути к островку, не было и в помине. Наконец, она решила прибегнуть к народной магии: хоть это и было весьма неудобно, надела левый сапог на правую ногу, воткнула в отворот куртки иголку и отправилась искать такое место, чтобы там рядом с молодой жизнью новой поросли обязательно стояли бы деревья, уже приговоренные к смерти, и лежали бы мертвые, как гробовой доской, покрытые мхом стволы.
Часа через два она все-таки нашла нечто подобное – своеобразное лесное кладбище с уже засохшими ночными красавицами, которые, как большинство красавиц, в глубокой старости становятся особенно страшными. Здесь было прохладно, а качающиеся стволы терлись друг о друга и скрипели, вызывая мурашки по всему телу. Вырин, устроившись под вывернутым корнем полусгнившего дерева, свернулся в кольцо и периодически тихонько рычал, нервно вертя кудлатой головой. Марусе стало вдруг жутко не по себе, ибо точно так же, как собака, она чувствовала свое полное ничтожество и бессилие в этом диком и недружелюбно поглядывавшем на нее мире. Быть может, человек деревенский, с детства выросший на сказках и в лесах, и способен органично войти в подобное пространство, но литературной женщине, тридцать лет прожившей в огромном, пусть, правда, и тоже мифическом городе…
Маруся сжала пальцами иголку и поспешно забормотала нечто невразумительное о том, что ей непременно нужно выбраться отсюда, и чтобы полноправный хозяин леса помог ей выйти на нужную дорогу:
– Сгинь, сгинь, обернись, красной шапкой поклонись… Лист против сердца, рябину на хребет, угроз нет и просьб нет… выведи до петухов меня, травой до груди да лесом до пня…
Слова были совершенно бессмысленными, но, произнося их, Маруся все отчетливей понимала, что именно в таких местах и рождалась у русского человека его безнадежная лесная вера, не ушедшая даже с православием. Какой-то живой трепет разливался по лесу, и, когда где-то вдалеке вдруг промелькнуло что-то ярко-красное, она даже не удивилась и не испугалась. Зато вскочил Вырин, но, вместо того чтобы с лаем броситься вперед, спрятал хвост между костлявых задних лап и как-то боком потрусил к еловым зарослям.
– Вырин! – обиженно крикнула Маруся. – Как не стыдно?!
Но пес уже скрылся среди низкой, почти черной завесы. Когда же Маруся снова повернулась в сторону сухого болота, то увидела, что к ней, ловко прыгая по кочкам, приближается невысокий старичок в широкополой красной шапке и с корзинкой в руке.
Трудно современному человеку поверить в реальное действие простонародного заговора, но Маруся уже почти не сомневалась, что перед ней действительно лешак, гаркун, ляд, вольный или – как там называют его еще. От растерянности она даже разжала пальцы, все еще сжимавшие иголку. Старичок остановился и, щуря небольшие глаза над облупившимся носиком, стал смотреть на Марусю с большим любопытством.
– Овечья морда, овечья шерсть… – еще машинально прошептала она.
Тогда старик звонко расхохотался:
– Так вы меня… Меня! За лешего приняли?! – Старик смеялся так, что выронил корзину, из которой вывалились на траву роскошные боровички. – Вот ведь история! А надо было бы, надо! Может, раз в жизни такое человеку и выпадет, чтобы его искренне – и за лешака! Эх, я бы вам такого лешего сыграл – внукам рассказывали бы!
– Извините, – только и пролепетала Маруся, некстати вспомнив, что, кроме всего прочего, и стоит она в сапогах навыворот.
– Что ж тут извиняться. Оно лешего-то и вправду было бы полезно при нынешней вакханалии напустить. А то вчера к Замостью ходил – а там и места не узнать, все вырублено. И сколько ни кричал, ни доказывал в управлении культуры, чтобы хоть здесь унялись, – все втуне.
Упоминание управления культуры, к тому же в сочетании со словечком «втуне» Марусю сразу успокоило, хотя и задало новые загадки.
– Уж простите, я никак про лешего не подумал, тем более слыша, как вы зачем-то поминали давно упокоившегося Самсонушку. Зачем, думаю, и почему? – Маруся повертела головой в поисках виновника, но противного пса и след простыл. – Да и места эти не его.
– Что значит «не его»? – уже окончательно пришла в себя Маруся.
– То, что он тут лишь обязанности свои исполнял, долг нес, так сказать, а место ему, конечно, куда южнее, кореннее. Здесь же места наносные, нехорошие, ненашенские. Я вам признаюсь, что и сам, будучи по роду службы хранитель и представитель, все-таки как-то не того… не уверен. Вас как зовут?
– Маруся. Мария, разумеется.
– Вот-вот. И лицо у вас хорошее, русское – что вам делать на этой-то стороне? Ваше место – там. – И старик махнул рукой непонятно куда. – Выйти сможете?
– Наверное.
– Ну и идите с Богом. А будете рядом, заходите чайку попить, поговорим еще о Вырине, а заодно уж и о Сирине тоже. – И, не слушая Марусиного ответа, старик повернулся и бодро зашагал прочь, подскакивая на кочках.
«Дачник какой-нибудь из университетских гуманитариев. Они там всегда любили почудить да и поизображать из себя, а на старости лет и подавно», – подумала Маруся, но старичок еще долго не шел у нее из головы. Постояв еще немного в раздумьях, она направилась прямо в ту сторону, в которую будто бы как-то неопределенно махнул рукой старичок, и, не плутая более, вернулась домой, решив впредь не трогать уже всю эту странную народную магию, не давшую ничего, кроме стертой ноги. Правда, явно не захотевший встретиться с болотным старичком Вырин после этого похода опять исчез, и это исчезновение вкупе с его странным поведением в лесу все-таки утвердило Марусю в существовании некой силы, которую, впрочем, можно назвать как угодно: хоть лешим, хоть университетским профессором на отдыхе.
Назавтра был Второй Спас, и три с половиной бабки, обитавшие в Бекове, давно уже слезно молившие Марусю отправиться с ними в ближайшую церковь, то есть в Рождествено, наконец-то превозмогли ее непонятное упрямство. Они почему-то свято верили в то, что новая городская насельница может одним движением руки остановить попутку, а то и автобус. Ехать в переполненную модную церковь Марусе не хотелось: уже несколько лет, еще живя в городе, она полюбила отмечать этот почти языческий праздник где-нибудь в крошечной сельской церквушке. Там, где разнообразие выложенных на столы и полы плодов так славно сочетается по цвету с простыми старыми иконами и где в светлой службе читается живое благословление всем земным радостям. Она любила этот странный, ни с чем не сравнимый запах воска и яблок, поздних цветов и накрахмаленных до синего хруста старушечьих платочков, запах прощания, слившегося с надеждой.
А в Рождествено явно понаедут городские эстеты, станут изображать набоковских гостей и испортят всю прелесть воистину деревенского праздника. Однако, в тысячный раз упрекнув себя в неуемной и неуместной гордости, Маруся согласилась и уже в половине седьмого тряслась в автобусе, зажатая с обеих сторон скрипящими кочнами капусты и дыша розовобокими яблоками.
Впрочем, теперь она уже не жалела о поездке, решив, что как раз в Рождествене-то и можно будет спросить у старожилов и о таинственном острове, и о странном его обитателе, а заодно уж и о чудаковатом «профессоре».
Вокруг красной церкви плескалось разноцветное людское море, в сотни раз умноженное и отраженное красками принесенных даров. Священник, видно, уже давно кропил горы огурцов, брюкв, яблок и появившихся на таких праздниках не столь давно арбузов, дынь и даже авокадо с манго. Достояв службу до того самого места, когда, по идее, весь храм должен единым дыханием отчитать «Символ веры», а на самом деле едва подшепетывает двум-трем старухам, Маруся решила выйти, в очередной раз упрекнув себя за то, что так и не удосужилась выучить эти красивые и простые слова. Она уже осторожно проталкивалась сквозь толпу к выходу, когда до ее слуха вдруг донесся шепот двух мальчишек лет по десяти, которых сюда явно загнали какие-нибудь прабабки. Разговор этот чем-то насторожил ее.
– Да ну, все говорят, что там жуть какая-то, и огромный пес сторожит. Загрызет еще на фиг!
– Дурак ты, Валька! Сегодня что?
– Говорят, Спас…
– А больше ничего не говорят? Эх, ты, лето в деревне прожил, а ни черта не знаешь! – Соседняя бабка, секунду назад казавшаяся ушедшей в молитву, тут же, не изменяя благостного выражения лица, больно ущипнула юного богохульника за щеку.
– У, злыдня! – огрызнулся тот, но продолжил: – Так вот, бабка Антонова говорит, что сегодня еще и гороховые разговины!
– Чего-чего?
– Того! – Он опасливо покосился на соседку. – Историю знать надо! – Он сладострастно испытывал терпение товарища никак не меньше полминуты. – Можно лазать по всем чужим гороховым полям и жрать вволю. А там, я сам видел, во-о-от такое поле и горох жирный-прежирный. Наверное, тот псих в шляпе с ленточками откуда-нибудь из-за границы привез, здесь такого нету, я уж везде все обшарил.
Второй мальчишка согласно кивнул, и они тоже стали пробираться к выходу. Маруся, застывшая было на месте во время этого заговорщицкого перешептывания, двинулась за ними. Огромная собака и псих в шляпе с лентами, хотя и не очень правдоподобно, но каким-то непонятным образом связывались у нее с потерянным в лесах островом и его обитателем. А мальчишки – всегда народ ушлый и знает порой куда больше, чем взрослые, тем более в делах, касающихся чего-нибудь непривычного и таинственного.
Парочка юных заговорщиков зайцами перескочила шоссе и помчалась по правому берегу в сторону ляд.[39] Маруся, проклиная стертую ногу и так и не купленные новые кроссовки, поспешила за ними в то и дело спадающих старых голубых босоножках. Однако она быстро забыла про все неудобства, поскольку с детским восторгом вдруг почувствовала и себя тоже героем своих переводов. «Сэр Эндрю туже запахнул вишневый плащ и бесплотной тенью помчался вдоль берега зеленого Арно к Понто Веккьо…»
Мальчишки быстро свернули влево, и Марусе пришлось продолжить погоню по лабиринту дорожек, видимо лет сто назад бывших парковыми, а теперь превратившихся в лесные. Вьетнамки пришлось взять в руки и скользить по слежавшейся хвое уже босиком. Парк незаметно, но быстро переходил в лес, и Маруся вдруг и в самом деле совершенно отчетлив поняла, что это и есть тот самый уже как будто бы навсегда потерянный ею борок. Правда, на сей раз он выглядел как-то уж слишком правильно и картинно: матово синела голубика, сверкали сталью бочажки, забытыми свечками стояли непонятно откуда взявшиеся здесь люпины, а над всем этим скользили рои бабочек всех размеров и оттенков, от лилового до розового и черного. На секунду отвлекшись на созерцание этого пиршества духа – ибо назвать скопище бабочек пиром плоти у нее как-то не поворачивался язык, – Маруся потеряла из виду обе синие спортивные курточки своих неожиданных проводников.
Поначалу она даже не расстроилась, а обрадовалась: дорога теперь и так ясна, а бегать босиком по лесу – занятие все же не из приятных. Но, пробродив вокруг с полчаса, она так и не нашла ни болотца, ни тропки к озеру. Оставался единственный ориентир в виде горохового поля, которого, правда, в тот раз она не видела.
Перестав бессистемно метаться из стороны в сторону, Маруся действительно очень быстро вышла на край желто-зеленого пространства уже с заметными проплешинами, над которым витал сытный и смачный дух поспевшего гороха. Прислушавшись, Маруся различила и чавкающий хруст – но ни собаки, ни жути, ни, тем более, человека в шляпе с лентами здесь не было и в помине.
Тогда она медленно пошла по самой опушке, стараясь не спугнуть воришек, но поле все не кончалось и не кончалось. Судя по солнцу, давно миновал полдень, стихли редкие птицы, а кузнечики в горохе, вероятно, не водились. Стояла глухая тишина, давно неприятная человеку городскому, давно забывшему о слиянии с природой и во всякой земной тишине чувствующему только подвох и опасность. Маруся тоже занервничала и уже несколько раз вспомнила об оставленном дома Вырине: все-таки с собакой, открытой другим мирам, в лесу чувствуешь себя куда надежнее. И тут, словно в ответ на ее мысли, по кустам леса прошуршало что-то большое и быстрое.
За время, прожитое в Бекове, она, к счастью, успела растерять многие городские предрассудки и знала, что летом медведя и кабана слышно издалека, рысь, наоборот, не услышишь, а волк сыт. Словом, бояться в лесу в это время можно либо змеи или, и даже скорее всего, человека, а поскольку это было не то и не другое, Маруся тут же упала в гороховые заросли и почти неслышно поскребла сухую землю, надеясь, что животное, привлеченное этим мышиным звуком, так или иначе выйдет на опушку.
Действительно, через пару минут из кустов наполовину посунулся роскошный немецкий дог с вываленным от жары языком. На какое-то мгновение жуткая мысль о бешенстве пришла Марусе в голову, но пес стоял совершенно спокойно, и она усилием воли прогнала ее. Однако даже секундный испуг погнал адреналин, и над полем промчался тот самый запах страха, который чувствует любое животное. Дог тревожно повел носом, но в карих глазах его появился не азарт, а, наоборот, недоумение и смущение. Пес судорожно зевнул и втянулся обратно в кусты, после чего до слуха Маруси донеслась торопливая и нетаящаяся поскачка. Несомненно, именно о нем говорили вездесущие мальчишки, и он действительно охраняет это поле. В разум собак Маруся верила и, чувствуя себя невиновной в грехе воровства, спокойно поднялась и пошла дальше, несмотря на появившееся вдруг чувство голода, не став рвать стручков. Она шла краем поля, огибая сиреневые, весьма декадентски поросшие изумрудным мхом валуны, думала о своем и совсем потеряла ощущение времени. По небу побежали тучки, а потом горизонт и вовсе затянулся мрачной пеленой. Однако ощущения близкого дождя не было, и гороховое поле все не кончалось. Никаких признаков мальчишек тоже не было видно.
Маруся устала и уже решила было повернуть обратно, как над полем вдруг промелькнуло что-то цветное, нездешнее. Поначалу ей показалось, что это просто облачко бабочек, которых по сочиненной за океаном традиции, здесь действительно развелось множество, но, приглядевшись, она увидела, что над изжелта-зеленой путаницей растительности проплывает плетеное канотье с развевающимися алыми лентами. «Бред, игра воображения, – мелькнуло у Маруси, – чересчур напереводилась». «И, нырнув в первую попавшуюся лавчонку на Гренцио, сэр Эндрю купил столь распространенную на каналах шляпу гондольера с падавшими на плечи атласными лентами…»
Однако, приблизившись к ней совсем близко, словно давая возможность удостовериться в своей реальности, шляпа вдруг стала быстро уплывать вдаль.
– Артемий Николаевич! – громко крикнула Маруся и рванулась в густые переплетения, оказавшиеся почти непроходимыми.
Но догнала она его лишь тогда, когда он уже стоял на берегу острова, и белый его фланелевый костюм был совершенно сух.
Глава 6
Павлов лениво пил кофе в своем так называемом рабочем кабинете – крошечной комнатенке без окон, заваленной образцами меха, бумагами, вероятно деловыми, обрывками канатов, пустыми папиросными пачками и старыми дисками. Ему нравилось иногда посидеть здесь, чувствуя себя кем-то иным, не таким, каким он был в квартире, на яхте, в постели. И сейчас он намеренно неторопливо тянул кофе, несмотря на то что из зала слышался какой-то подозрительный шум. Аудит, слава богу, прошел без особых неприятностей, денег пришлось выложить не так много, как он предполагал, и тетка, согласившаяся после выполнения всех формальностей сходить с ним в «Рыбу», оказалась вполне вменяемой и даже симпатичной. А вообще-то бухгалтерия и бухгалтеры наводили на Павлова иррациональную тоску; он не мог понять, как молодые и красивые женщины могут тратить время на копание в безжизненных и, по сути, бессмысленных цифрах.
«Нет, будь я женщиной и окажись в ситуации, что надо заниматься бухгалтерией, я лучше пошел бы на панель или в дворники», – всегда приходил он после таких размышлений к одному и тому же выводу и был уверен, что заниматься этой мертвой работой могут только люди, у которых напрочь отсутствует творческое начало. Поэтому он всегда относился к бухгалтерам женского пола с определенной долей жалости, даже отчасти соболезнуя. Да и название-то одно чего стоит!
Павлов в сотый раз попробовал слово на вкус, надеясь, что после милого ужина с милой аудиторшей что-то изменится. Но в конце концов только сплюнул, как от попавшей в рот шершавой бумаги или дрянной сигареты.
– Сереж, выйди, пожалуйста! – раздался кокетливый голосок продавщицы, разгильдяйством хозяина совершенно избалованной и не соблюдавшей субординации.
– Кофе не дадут спокойно попить… Появишься на работе в кои-то веки, и то не дадут отдохнуть… – бурчал Павлов, который терпеть не мог разбираться ни с документами, ни с покупателями.
В зале, полутемном по случаю того, что солнце попадало на эту сторону проспекта только после полудня, а искусственное освещение летом Павлова раздражало, обе продавщицы наблюдали за тем, как невысокий посетитель придирчиво рассматривал данную ему женскую шубу ярко-красного меха. Надо сказать, делал он это виртуозно: нырял, выворачивал и встряхивал ее так, словно это была его собственная шкура. Павлов даже загляделся, и на миг ему показалось, что перед ним не пожилой невзрачный человечек, а матадор с быком.
– Вот так уже минут двадцать колбасится, – громким шепотом сообщила продавщица, а вторая поддакнула:
– И ведь за километр видно – денег нет.
– Ну почему же? – хмыкнул Павлов, удивляясь, как глупые девки до сих пор не развили нюха на нестандартных покупателей. Откуда только такие берутся?! Однако он тут же вспомнил, что у одной из них был университетский диплом русистки, а у второй экономистки, и почти со злостью сказал: – Да, может, я ему сам заплачу за подобное действо.
Девки обиженно и демонстративно ушли в подсобку.
Павлов еще некоторое время с удовольствием понаблюдал за манипуляциями деда, но потом в глазах у него зарябило от красного мелькания.
– Простите, так вам понравилась шуба?
Мелькание прекратилось, словно только и ждало этого вопроса.
– Хороша, только вот, думаю, по лесу в ней будет ходить не очень-то удобно: слишком много нефункциональных деталей, понимаете ли.
– По лесу?
– Ну, по долам, по холмам, – неопределенно махнул загорелой рукой покупатель. – А с другой стороны: красная – это то, что надо. Даже не думал, что найду когда-нибудь такую. Красные девки, красное крыльцо… Только ведь это совсем не то, что обычно при этом думают. Красное – это не красоты знак, а предупреждения, огонь, который может разгореться и все пожрать, не остановишь. – Он поднял на Павлова свои небольшие глаза неопределенного цвета, от чего тот почему-то смутился. – Это в глобальном, так сказать, смысле.
– И что же, вы хотите купить эту шубу, чтобы служить, так сказать, семафором? Я тоже в глобальном смысле, – без тени усмешки уставился на странного посетителя Павлов.
– В общем – да, угадали. Ну и еще есть обстоятельства.
– Но шуба – женская…
– Вижу. Мне все равно. То есть не совсем все равно, но мужской такой ведь не найдешь?
– Давайте я вам закажу, – вдруг брякнул Павлов. – Подороже, конечно, будет, но… А, ладно. Давайте мне свой телефон, и через месяц шуба ваша. И без всяких там лишних прибамбасиков.
В ответ покупатель прикрыл глаза и зашевелил губами, словно что-то подсчитывая.
– Нет, месяц – это многовато. Не успеется, – наконец, решительно изрек он. – Давайте-ка побыстрее, дней этак через десять. Тогда согласен. Пишите. – И он продиктовал Павлову какой-то областной телефон.
– И вы не спрашиваете, сколько это будет стоить? – не выдержал все еще не совсем все понимавший хозяин магазина.
– А это неважно. То есть – для вас – неважно. Нус, до встречи. – И покупатель исчез из зала, будто бы его никогда тут и не было. Шуба, тем не менее, оказалась снова на вешалке.
Павлов потер глаза тыльной стороной ладони. Старикан точно не подходил к стойкам. Или он так увлекся разговором? Но какой уж тут особый разговор? Или это он успел сделать, когда посмотрел на него своими не то прозрачными, не то, наоборот, какими-то разноцветными глазами? «А вот так незаметно и начинается алкоголизм…» – вдруг подумалось ему, но на самом деле это было просто ловким финтом сознания, ибо с помощью привычных формул объяснить что-то из ряда вон случившееся все-таки проще всего.
Тем не менее в тот же день Павлов позвонил и заказал красный мужской полушубок с большими карманами и на пуговицах, после чего поставщик, и так относившийся к нему со странной смесью любопытства-презрения-осторожности, окончательно уверился в том, что «этот чувак» точно не в себе.
Целых десять дней Сирин вел себя тише воды ниже травы, лизался, как щенок, никуда не пропадал и смотрел на Павлова с обожанием, которого молодой человек так давно ждал от своего нового друга. Словом, это были упоительные десять дней с преданностью собаки, открыто заинтересованными взглядами женщин и даже звонком Ольги.
– Послушай, я чувствую, с тобой что-то не то, – как всегда спокойно и откровенно сказала она после привычного трепа «кто и как». – У тебя появилась женщина?
– Нет, но я видел нечто подобное.
– Где?
– А разве так мало мест, где подобных можно увидеть?
– Разумеется, мало. К тому же нужно слишком плотно накидывать сеть и иметь упорство. А у тебя ни того ни другого.
– А везение?
– Согласна. Но тебе всю жизнь и так везет: в делах и вообще. Слишком много везения не бывает, а потому не лучше ли посчитать все это просто предупреждением? – Красная шуба на мгновение мелькнула у Павлова перед глазами. – Правда, будь поосторожней, это я тебе как друг говорю. – Бесплотное Ольгино тело скользнуло по его рукам и растворилось тенью в заброшенном шале. – Может, не стоит пытаться увидеть ее еще раз?
– Да я пока и не пытался, – промямлил Павлов, тут же осознав, что именно этим и только этим отныне и станет заниматься.
– Вот и хорошо. Ты, Сережка, человек все же очень… открытый… Нет. Ранимый? Ну, в общем, не совсем этому миру принадлежащий, поэтому с тобой всякое может случиться, а мне не хотелось бы…
– Приходить на похороны?
– Нет – потерять тебя… Потерять ведь по-разному можно. Словом, хватит разводить эту мракотень. Просто я прошу тебя – не пытайся специально ничего повторять, ладно? Поедем лучше в Ялкалу,[40] что ли? Давно хотела посмотреть, во что превратилось это капище.
Однако еще неделю назад отозвавшийся бы на подобный призыв с радостно дрогнувшим сердцем теперь Павлов лишь вежливо поблагодарил. И Сирин при этом вдруг восторженно лизнул ему коленку.
Но вот Павлову, наконец, доставили заказанную им шубу. Он набрал номер, трубку кто-то снял, но долго не говорил, и Павлов некоторое время с любопытством слушал непонятное переплетение голосов.
– Да это какая-то violet de bureau…[41]
– Но вы же понимаете, что, чем радикальнее русский человек в своих политических взглядах, тем консервативнее в художественных…
– Народ, три группы! уже полчаса под горой мается…
– Дети, la-bas dans la montagne![42]
– Но, vraiment, Voldemar…[43]
Потом где-то раздался звук фортепьяно, и словно бы зашелестела листва.
Павлов с любопытством слушал эту какофонию чужой жизни, пытаясь понять, какое же отношение может иметь к ней старик, собиравшийся ходить по лесу в красной шубке за тысячу долларов, но мысли почему-то уплывали, и оставалось лишь какое-то сладкое томление не то духа, не то даже и плоти.
Наконец в трубке послышался чуть хрипловатый голос чудаковатого покупателя.
– Шуба готова и… могу даже привезти, – вдруг опять вырвалось у Павлова. – С вас «штука».
– Добро, – ответил покупатель. – Привозите. Значит, сначала до Сиверской электричкой…
– Я на машине.
– Ах, да, я же так и думал. Значит, по Киевскому до не нашей[44] Выры, там перед мостом налево…
– Как до «не нашей»?
– О, господи, извините, замотался тут. Конечно, просто до Выры и налево, только смотрите, у меня петух драчливый, и пес ваш – ведь наверняка дог, а? – спасует точно, так что вы его лучше в машине оставьте… – Павлов окончательно растерялся при упоминании о Сирине, и на том конце провода тут же этим воспользовались. – Ну, вот и все, вот и все. – В трубке запищало. А когда Павлов стал снова набирать номер, чтобы спросить, кого, собственно, искать в этой почему-то «не нашей» Выре, ему отвечало бесконечное «занято», а Сирин как-то виновато поджал хвост. – Ладно, разберемся, поехали! – И они вышли на улицу, где Павлов, наконец, после того как вприпрыжку вслед за псом преодолел четыре лестничных марша, сообразил, что человек, живущий в Выре, запросто мог видеть, как месяц назад он подобрал пса у музея. Говорят, они в деревнях всегда все видят… «Ну да, да, конечно… и потом он специально проследил за мной и притащился в мой магазин… Чушь какая!» Но не успел Павлов додумать этой мысли, как Сирин, первым выскочивший на пустынную улицу, вдруг махнул не к машине, а в сторону Семеновского плаца и через полминуты скрылся, несмотря на возмущенный крик и команду «назад». «Неужели петуха испугался, гад?» – с обидой подумал Павлов, но, погрозив пустому углу улицы свертком с шубой, бухнулся в машину и поехал, плюя на осточертевшие ему хуже горькой редьки ПДД.
Павлов добрался до места без всяких помех, удивившись – да и то машинально – странной табличке, встретившейся ему неподалеку: «Осторожно! Туман!» Тумана, однако, никакого не только не было и в помине, ибо стоял дивный августовский день, но и не предполагалось, потому что дорога проходила не болотами или речками, а самой настоящей возвышенностью. Павлов ехал по обезлюдевшему поселку, внимательно приглядываясь, где свернуть, но никаких поворотов видно не было, зато впереди слева у темно-красной церкви плескалось разноцветное людское море. «Экое идиотское место», – в десятый раз подумал он, вспоминая, как в прошлый раз здесь же пытался найти какого-нибудь вменяемого прохожего, и как мальчишка плел ему что-то про какого-то Сев Севыча, гоняющего чаи или кофеи, и как затем появился надменный Сирин.
И вот он опять тут, и опять начинаются какие-то непонятки. Однако сверток с красной шубой был совершенно реальным, и потому Павлов упорно разворачивался и снова начинал искать поворот. Когда же он уже сбился со счета, и огромные тополя начали мельтешить так, что мутился ум, из ивовых кустов обочины появился тот самый покупатель, причем в хорошем костюме и внезапно сверкнувших на солнце дорогих часах.
– Вот и славно! – взмахнул он как-то по-игрушечному ручками, останавливая машину. – Чего тянуть-то? Давайте сразу и опробуем, что ли?
– Что опробуем? Вы хотите сказать… Но сейчас же лето…
– Кому как, – пожал тот плечами. – Ставьте-ка машину здесь, – он ткнул пальцем в невидимый за кустами тупичок, – доставайте шубу, и пошли.
Заинтригованный вне всякой меры, Павлов деловито исполнил все то, что сказал ему этот странный мужичок, и пошел на другую сторону шоссе за нелепой фигурой в красном.
Шуба моталась у Павлова перед глазами и резала глаза, как огонь, а старик болтал нечто уже совсем невразумительное:
– Что-то поздненько вы, поздненько… Несколько запоздали, голубчик. Не ожидал. Вот и пришлось, так сказать… Ну да ладно, удивительного-то, в общем, в этом мало: сторона ваша смурная, живого человека совсем задушила северными ересями, чувства заглохли, не говоря уже о нюхе и духе. Разум все пожрал – да только разум этот выморочный, ничего общего с жизнью не имеющий…
Павлов слушал эти речи, уже ничего не понимая, хотя ничего нелогичного в них вроде бы и не говорилось. Более того, в перерыве между всеми этими междузаметиями старик успевал весьма образно и грамотно рассказывать о величаво проплывавших мимо них местах:
– Парк в приречной своей части всегда был дик и дремуч, порой сюда даже лоси захаживали, которые, конечно же, всегда намного предпочтительнее праздных дачников. А цветов было сколько! Видите, скабиоза! Ох, давно-давно не видал! И, разумеется, бабочки: евпетиции, катокалы, болории, сатириды…
– Вы энтомолог?
– Что? Ах, ну да, в некотором смысле. И ботаник, и зоолог, и архитектор, и астроном, – старик радостно рассмеялся, а парк тем временем уже превратился в лес, причем лес парной, темный, болотистый. – Видите, шуба-то здесь как годится! – довольно потирал руки покупатель, заказанное «манто» пока, правда, так и не купивший. Его действительно было очень хорошо видно в этих краях даже тогда, когда он отбегал за каким-либо грибом или растением. – Брусничку любите? – неожиданно поинтересовался он.
Павлов сразу же ощутил во рту глянцевую кислинку и кивнул.
– Вот и отлично, тут есть один брусничник – сказочный! Год на год, конечно, не приходится, но я сейчас сбегаю на разведку – и, бог даст, попируем. Вы присядьте пока вон тут на полянке.
Старичок усадил Павлова на сухой мшанник, пахнущий солнцем и смолой, и в следующее мгновение его красный сполох метнулся влево.
Ждать вороватого старика Павлов перестал уже через полчаса. Поначалу он хмурился и злился, а потом долго хохотал на весь лес: провели, как мальчишку, деревенского дурачка. И ведь предупреждала же его умница Ольга – и пусть она говорила о таинственной Тате, знак все равно был дан, знак из тех, которых мы не хотим ни видеть, ни слышать, ни даже обдумывать. Павлов растянулся на щекочущем шею мху, и в голову полезли не совсем уместные в нынешнем его положении мысли о смысле жизни, об истине и о бессмысленности человека, который каждый день приближает себя к смерти и знает это, и при всем при этом преспокойненько живет, как будто ничего не происходит. Потом он стал думать о Тате, о том, каким образом достался ей этот дорогущий дом на острове, и еще о том, что, и подумать даже страшно, полюби она его, ему, пожалуй, и нечем будет ей ответить в высоком человеческом смысле, ибо исчерпает он себя с ней за месяц-два. Но вот ему пришлось оторваться от всех этих невеселых размышлений. Небо потемнело, и надо было выбираться.
Павлов, не торопясь, побрел вдоль опушки леса. Сначала он внимательно присматривался к сторонам света, но вскоре ему это надоело, и он просто свернул в ту сторону, куда сбежал старик. К его удивлению, скоро он действительно вышел на брусничник, весь переливавшийся от жемчужно-розового до багряно-жгучего, и в этом пламени не сразу заметил злосчастную шубу. Она не была сброшена впопыхах, а как-то по-хозяйски висела на суковатой палке, как на плечиках. Ситуация начинала зашкаливать.
Павлов осторожно и почти суеверно подошел к пламенеющему меху, тихонько шевелившемуся от ветерка. Ему становилось все больше не по себе. Зачем вся эта история? Кто этот сумасшедший? Куда он привел его и зачем? Куда пропал сам и почему? Вопросов появлялось все больше, а ответов не возникало вовсе. А вокруг тихо и властно гудел лес, но молодая поросль с трудом пробивалась сквозь деревья, приговоренные к смерти. Павлов нерешительно ощупал как-то слишком явно оттопырившийся карман шубы и неожиданно обнаружил там какие-то предметы. Он вытащил их на свет Божий и окончательно растерялся: это был щегольской носовой платок, еловая шишка и что-то сухое и атласистое, оказавшееся самым настоящим звериным ухом.
И в тот же момент где-то неподалеку завыла собака. Павлов был вовсе не робкого десятка, спокойно плавал в шторм, когда большинство отсиживалось в бухтах, мог запросто подраться на улице с парой-тройкой гнусных юнцов, ходил ночью по кладбищам и вообще считал себя человеком уверенным и практически в любой ситуации знающим, что нужно делать и как себя правильно вести. Даже с приступами своей необъяснимой тоски он все-таки кое-как, но справлялся. Однако сейчас он ощутил свое полное ничтожество и бессилие вкупе с предательским холодком, тоненьким ручейком струившимся вдоль позвоночника. Надо было что-то делать, на что-то решаться.
Павлов положил обнаруженные вещи обратно в карман и решил пойти прямо на собачий вой, руководствуясь тем распространенным в среде городских жителей заблуждением, что собака всегда выведет к человеку. Однако он шел, а животное все оставалось на том же расстоянии, что и прежде. Он прибавил шагу, потом побежал, но ничего не изменилось. Наконец, он попал в необозримый черничник и на этом свободном пространстве успел заметить, как далеко впереди в кустах мелькнула здоровая рыжеватая дворняга, и вой, кстати сказать, весьма разнообразный, с фиоритурами и обертонами, прекратился. За узкой полоской деревьев, где исчез пес, виднелся просвет – это было небо, уже налившееся тяжестью северного августовского вечера.
Павлов бегом рванул туда, пятная джинсы налившимися в последнюю меру ягодами, и, продравшись сквозь кусты, выскочил на высокий речной берег. На островке посередине темнело строение. Сердце у него радостно вздрогнуло, но когда он присмотрелся, то увидел, что это всего лишь старое полуразвалившееся здание, с остатками каких-то колонок у кособокого крыльца.
«Что за ерунда? Неужели тут на каждом островке кто-то живет? Впрочем, тут-то как раз, скорее всего, никто и не живет… – Но, словно отвечая его мыслям, в развалюхе вспыхнул и замерцал розоватый огонек. – Ага, наверняка местные маргиналы, вроде наших на Марсовом, – почти обрадовался Павлов, всегда раздражавшийся от вида бомжей, жарящих сосиски у вечного огня под защитой гранитных могил. – Надо до них добраться и спросить, как выйти к шоссе, а, в крайнем случае, можно и заночевать. Брать у меня нечего, а денег я им и сам дам». – И, окрыленный таким решением, Павлов скатился вниз, на ходу стягивая толстовку, чтобы добраться вплавь, но у самого берега увидел такую же старую, но вполне целую лодку с одним веслом. Это была удача, ибо лезть ночью в августовскую воду – удовольствие небольшое даже для яхтсмена. Павлов привычно прыгнул в лодку и ловко повел ее, стараясь попасть в течение.
Строение на острове быстро приближалось и казалось все более удручающим: ступени, заплетенные паутиной и осклизлым мхом, осыпавшаяся белая краска, как ядовитый порошок, сгнившая крыша – все это напоминало жилище настоящей Бабы-яги. Павлов уже представил, какая внутри вонища и грязь, как лодку совсем недалеко от острова вдруг закрутило течением и понесло прочь к противоположному берегу. С одним веслом даже при всем его опыте бороться было бесполезно, и Павлов решил, что, зная теперь течение, от другого берега он запросто доберется до острова другим путем.
Наконец, лодка мягко ткнулась в низкий берег. Он выпрыгнул, чтобы развернуть ее, на мгновение распрямился и обомлел: перед ним на острове сверкало зелено-лиловыми огнями Татино шале. Павлов изо всех укусил себя за предплечье и вспомнил, чо совершенно точно не пил уже два дня – да и тогда пил вполне качественный «платиновый» «Стандарт», причем в весьма умеренных дозах. Из руки закапала кровь, но шале не исчезло, наоборот, над рекой плеснулись и затихли звуки какой-то фортепьянной пьесы. На миг встало перед ним лицо Ольги, почему-то в тот момент, когда она так расчетливо и одновременно страстно отдавалась ему в заброшенном доме, но сопротивляться не было сил, и Павлов вновь погнал лодку к острову.
Он втянул ее на берег у знакомого валуна и неслышными шагами, с замирающим сердцем двинулся к прозрачному кубу, изливавшему свет и мелодию. Тата уже поспешно спускалась со стеклянной терраски навстречу ему и торопливо поднимала на затылок рассыпавшиеся пепельные волосы, особенно белые в ночи.
– А я думала, вы уже не придете. – Она легко положила свою руку в его и не пожала, а лишь едва пошевелила пальцами, как засыпающая рыбка, отчего по всему телу Павлова морской волной прошло желание. Однако. Пронзительное это ощущение тут же уснуло, как и ее ладонь. – Впрочем, видите ли, сегодня у нас…
– Ваш муж дома?
– О, нет! Какой муж и при чем тут муж? Ведь сегодня… праздник, а он всегда оставляет возможность… двойственности. Я очень, очень рада вас видеть, но не удивляйтесь, если…
– Знаете, я сегодня уже с утра так наудивлялся, – ответил Павлов, садясь за стеклянный стол и все-таки удивляясь, что он совсем не холоден. – Скажите, а что было на этом острове до вашего дома?
– Ничего, разумеется.
– А старика в дорогом костюме вы сегодня поблизости не видели?
– Я не понимаю, о чем вы, Сережа.
– Послушайте, но ведь в прошлый раз вы все понимали сразу, а сейчас мне кажется, эта паутина культуры, о которой мы говорили, затянулась уже опасно туго. Этот старик говорил о бабочках, как сам Ви-Ви,[45] честное слово! И при этом – красная шуба! – Тата накручивала на палец прядь волос у виска и смотрела на Павлова не то с жалостью, не то с удивлением, не то с любовью. – Но я-то ведь не сумасшедший историк культуры, не литературовед и вообще не особый любитель русско-американских писаний.
– Вы ведь пришли с того берега, – медленно и как бы нехотя произнесла она.