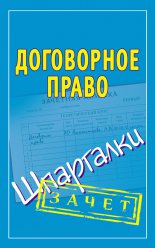Ироническая трилогия Зорин Леонид

– Мои заслуги на шахматной ниве давали мне право на эту мечту, но депутатская комиссия ее умерщвила и закопала. Оставь надежду туда входящий! В сравнении с депутатской комиссией барак усиленного режима – навеки потерянный парадиз.
Хрипловатый мельхиоровский голос уже обретал трубную звучность. Не за горами был львиный рык.
– Я был анафемски предупредителен. Со мною рядом был мой ходатай, пламенный почитатель Каиссы, Аркадий Данилович Шлагбаум, доктор наук и лауреат. Личность настолько почитаемая, что власти в знак особой любви хотели даже дать ему членство в Антисионистском комитете. Намеренье не было реализовано, ибо по странному совпадению Шлагбаума стало сильно тошнить вплоть до резей и острых колик в желудке.
Мельхиоров набрал воздуха в легкие и продолжил правдивое повествование.
– Сначала мы долго сидели в очереди. То и дело входили свежие люди. И был их первый вопрос: кто последний? И каждый раз, слыша эти слова, я содрогался – под их мелодию минула вся моя долгая жизнь. И Шлагбаум, этот барс астрофизики, мамонт мудрости, гладиатор дискуссий, содрогался солидарно со мной. Прошел весь день, и лишь ближе к сумеркам мы были допущены в ареопаг.
Минута кульминации грянула, Учитель яростно зарычал:
– Сикамбр, если б ты только видел эту взбесившуюся мясорубку, заправленную коллективным разумом! Самую мерзостную фигуру являл председатель этого сборища, сутулый щетинистый кроманьонец, бренчащий медалями, как монистами. Мне стоило только взглянуть на него, чтоб безошибочно определить его природу и происхождение. Сын слобожанки и ахалтекинца со всеми следами тяжелого детства.
– Ахалтекинца? Но это же конь?
– Само собой. Разумеется, конь. Коня-то я и имел в виду. Когда Шлагбаум ему приводил непобедимые аргументы, он сразу же наливался кровью и говорил: «Даю отлуп». После чего излагал свои. Ни грана логики, ни буквы закона – лишь ненависть ко всему живому. Этим же качеством отличалась грудастая злобная старуха. Когда-то она видела Ленина, но более – ни одного мужчины, способного ответить ей взглядом. Я сразу понял: по этой груди никогда не ступала рука человека. Ты представляешь, какие миазмы скопились во всем ее естестве? Впрочем, все были один к одному. Никто из них не мог примириться с тем, что я получу две комнаты. У председателя был заместитель, преданно на него взиравший, одна из тех человеческих тварей, которые могут существовать единственно в чьем-то заднем проходе. Естественно, с его точки зрения, самое страшное преступление – чего-нибудь пожелать, захотеть, кроме своей режимной пайки. Был и еще один носорог, заслуженный табурет на пенсии. Но нет, я оскорбил табурет. Всякий предмет одушевленней этой красноречивой скотины. Отвратнее всех себя проявил какой-то вокалист, бывший тенор, некогда выступавший в опере. Он попросту исходил слюной. Когда сексуальное меньшинство влечет к социальному большинству, рождается гремучая смесь. А кроме того, все они вместе заводились, когда вступал Шлагбаум. Эти интернационалисты со стажем испытывают удивительно остро этническую несовместимость. Шлагбаум, возможно, и приобвык, но старого русского интеллигента вроде меня они отравили! Битый час они стряхивали на мою голову фекалии своего интеллекта. Причем вес первых, легко догадаться, был в обратной пропорции к весу второго. Поверь, я всласть надышался азотом! Единственный раз я там побывал, и больше ноги моей там не будет. Меж тем уже через две недели они должны выносить решение.
Помедлив, я осторожно спросил:
– Чего же вы хотите? Судиться?
– А хоть бы и так! – сказал Мельхиоров. – Мое положение отчаянное. Но в очередь я больше не стану. Я обречен в ней быть последним. Поэтому при первой возможности, завидев ее, я убегаю большими прыжками кенгуру. Самое дьявольское изобретение осчастливившей нас Системы. Именно в этих очередях она превратила нас в животных. В очереди стоят пресмыкающиеся.
– Пресмыкающиеся не могут стоять, – я попытался унять лавину.
Но Мельхиоров проигнорировал эту редакторскую правку.
– Человек не может стоять в очереди, – сказал он со страстностью Галилея. – Тем более в очереди к депутатам.
Я произнес возможно мягче:
– Учитель, не стоит вступать в контакты с нашим отечественным правосудием. Особенно вам с вашей тонкой кожей. Я часто втолковывал моим клиентам: законы поглощены инструкциями, инструкции поглощаются судьями. Благо развязывают им руки. Не следует так говорить юристу, но все же разумнее оставаться в границах исполнительной власти, не отдаваясь власти судебной. Естественно, коли не будет выбора, мы обратимся с вами к Фемиде, но этого лучше бы избежать.
– Что делать? – негромко спросил Мельхиоров. – Прости за этот свежий вопрос. Я не из тех, кто просит пощады, но пресыщенность общим унитазом достигла критической отметки.
– Мне нужно обдумать ситуацию, – сказал я, стараясь скрыть неуверенность, – прошу вас дать мне несколько дней.
Я тщательно перебирал варианты возможных действий, но все отверг. Мой опыт подсказывал: первое дело – ухватить решающее звено. И не только решающее, но поддающееся. Советская жизнь меня научила, что в каждой стене бывают щели. Я должен понять, на кого надо выйти. Все прочее – это лишь трата времени.
Изучив дислокацию, я решил, что мне необходимо пробиться к Анне Ивановне Пономаревой. Ее секретарша мне сообщила, когда меня примут – число и час, – и я отправился на Лужнецкую набережную. Там размещалось спортивное ведомство.
Я шел по гудящему коридору, прислушиваясь к обрывкам фраз. Сколько подобных коридоров я навидался за эти годы, сколько наслушался диалогов! Мало-помалу они сливались в единый образ, в единый звук – истеблишмент не любил различий и утверждал свой общий стиль. Но здесь ощущалась своя начиночка – из учреждения все же не выветрилось густое дыхание стадиона. Мне то и дело попадались плечистые молодые люди, плечистые молодые женщины и пожилые здоровяки. За всеми, или почти за всеми, угадывались их биографии – кто бился, точно барс на «поляне», кто отстучал костями «в калитке», кто долго наматывал круг за кругом, пока наконец с него не сошел. Всем им по-своему посчастливилось – в спорте остались на новых ролях. Маленькими или крупными боссами. Не то что скисшие неудачники – одни спились, другие увяли, третьих Его Величество Спорт сожрал и даже костей не оставил.
Блондинка – ноги с могучими икрами – окинула секретарским взглядом пришельца из параллельного мира и медленно проплыла в святилище. Там, не щадя себя, денно и нощно трудилась вершительница судеб. Вернувшись, девушка объявила, что Анна Ивановна меня ждет. Я вошел в кабинет Пономаревой.
Сидевшая за массивным столом женщина средних лет поднялась и плавно тронулась мне навстречу. Я удивился такой учтивости. Обычно руководящие лица подобным образом выражали свое уважение к посетителю. Усаживались рядком на диване или в креслах, подчеркивая тем самым равновеликость обеих сторон. Но я был обыкновенным просителем, вернее, ходатаем по делам – знак внимания мне был непонятен.
Я искоса взглянул на нее. Цветущая козырная дама с внушительным разворотом плеч, что было, как я уже убедился, фирменной маркой этой конторы. Черты были несколько грубоваты, однако достаточно привлекательны. Чиновничья деятельность подсушивает, но опыт подсказывал мне, что в юности Анна Ивановна была хоть куда. В ней было бесспорное, ярко выраженное демократическое обаяние. Должно быть, оно послужило фундаментом ее впечатляющей карьеры.
Но самое странное – я был уверен, что мы с ней когда-то уже встречались. Что-то бесконечно знакомое мерцало в ее коричневых глазках, напоминавших дубовые желуди.
– Ну что? – спросила она насмешливо. – Не признаешь? На себя не похожа?
– Вот это сюрпризец, – сказал я негромко.
– Выходит, не знал, к кому идешь? А я-то, умница, сразу смекнула. Не может быть таких совпадений. И имя, и отчество, и фамилия. Не говоря уж о роде занятий.
Она основательно изменилась с тех пор, как предстала мне в первый раз свежим непочатым калачиком сальской выпечки, степного обжига. И все-таки это была она.
И Анна Ивановна, в свой черед, меня изучала, неспешно разглядывала, хотела узнать того молодца, которому некогда поднесла (тот ли я подобрал глагол?) свое незапятнанное сокровище.
– Ну что же, хорошо матереешь, – сказала она. – Теперь ты мужик.
– А ты расцвела, – ответил я в тон. – Уже не ромашка – махровая роза.
Лесть моя была незатейлива, но Анна Ивановна чуть зарделась.
– Ужас, какая я была провинциалочка. За то и досталось.
– Да, – я кивнул, – была умилительна. Помню – увидел: сидит Аленушка. Скламши ручки и сжамши ножки.
Эти слова ее распотешили. Она снисходительно посмеялась. Потом озабоченно проговорила:
– Нынче для девушки девичья честь – живо от девичьей чести избавиться.
Это сказала никак не Аня, это сказала Анна Ивановна, ответственная за нравственный облик вверенной ей спортивной массы.
– Все правда, – я солидарно вздохнул, – нынешним до тебя как до неба.
– А ты и не понял, не оценил, – произнесла она с укоризной. – Такую девушку бортанул.
Я согласился:
– Был молод и зелен. Но ты не права. Оценить – оценил.
Этот патрон угодил в десятку. Память о своей дефлорации, как видно, была для нее священна.
– Что верно, то верно. Любились на славу. Конечно, я тебе благодарна. Нужно признать – твоя должница.
Я щедро сказал:
– Свои люди – сочтемся.
Она потрепала меня по щеке. Я мягко привлек ее к себе. Она неуверенно освободилась, опасливо покосившись на дверь.
– А знаешь, я маленько похвастаюсь. Вот-вот и защищу диссертацию.
Я восхитился.
– Ну ты у нас – сила!
Выяснилось, что, невзирая на бремя своих государственных обязанностей, она уже успешно заканчивает заочную аспирантуру Академии общественных наук. Ей даже выделили личную комнату в общежитии на Садово-Кудринской, чтобы семейные обстоятельства не отвлекали ее от работы. На финише нельзя расслабляться – уж это она знает с тех пор, как бегала средние дистанции. Что делать! Не ей привыкать к нагрузкам. Вся жизнь – сплошное преодоление. Но надо расти, нельзя останавливаться.
– А как на это смотрит твой муж?
– С пониманием. Сам под завязку занят. Бывает, что сутками с ним не видимся. Пономарев – генерал милиции.
Она вернулась к своей диссертации. Я чувствовал, что это и было ее дитя, предмет ее гордости. Впрочем, уже одно название говорило само за себя – «Нравственный кодекс советских спортсменов».
Я рассказал ей о Мельхиорове. Она закручинилась – не в подым! У разнесчастной Лужнецкой набережной просто ничтожный лимит жилья. Если б мой мастер был хоть гроссмейстер. Просто не знает, что и сказать.
С мягкой улыбкой я отвечал, что даже и десяток гроссмейстеров не стоят одного Мельхиорова. Все они вышли из Мельхиорова, словно из гоголевской шинели. Как на Атланте, на нем стоит вся наша шахматная школа.
Медленно гладя ее ладонь, я рокотал, что она, разумеется, мыслит как государственный деятель. Но, помня с незапамятных пор ее беспримерную доброту, а ныне узнав о ее анализе нашего нравственного кодекса, я не испытываю сомнений в том, что ее золотое сердце подскажет ей правильное решение.
Алея, как горизонт в час рассвета, она сказала с лирической дрожью:
– Умеешь, стервец, баб уговаривать.
Я удивленно развел руками – просто не знаю, как реагировать на незаслуженную хвалу. Но моя постная физиономия вряд ли ввела ее в заблуждение, тем более что я ее обнял.
Она с хрипотцой шепнула:
– Не здесь.
И, поймав мой вопросительный взгляд, выразительно усмехнулась:
– Квартиры, братец, за так не дают. Бесплатный только сыр в мышеловке.
Я понял, что за моего подопечного мне предстоит рассчитаться натурой.
После недолгого раздумья она решила, что мы увидимся у нее, в общежитии академии. Почему предпочла она соединиться под сенью общественных наук, а не в моем холостяцком приюте, мне не до конца было ясно. То ли боялась, что генерал пошлет следить за своей супругой какого-нибудь динамовца в штатском, то ли хотела остаться хозяйкой – я не углублялся в детали.
В назначенный час я был на Кудринской, неподалеку от Планетария. В будке восседала охрана. Старший, полистав свой реестр, выдал мне пропуск, сделав на нем надпись: «Для совместной работы». Я поднялся по темноватой лестнице. На этом греховном пути мне встретились два аспиранта – приветливый негр кофейной африканской расцветки и смуглый афганский человек. Вот здесь их начиняют взрывчаткой нашего передового учения и запускают в их дальние страны – из искорок там возгорится пламя. Я прошел по большому тенистому холлу, свернул в гостиничный коридор и постучал костяшками пальцев в пронумерованную дверь. Мимо чуть слышно прошелестел хрупкий миниатюрный вьетнамец.
– Можно, – услышал я ее голос.
Комната была небольшой, а обстановка вполне аскетичной. Стол, холодильник, шкаф, телевизор, кроме того – кресло и стул. Кровать не широкая, но просторная – крепкое надежное ложе. Все условия для совместной работы.
Она спросила:
– Ну, как добрался?
– Бдительно тебя охраняют.
Она прыснула и начала раздеваться.
Стараясь от нее не отстать, я мысленно сравнивал Анну Ивановну с Аней, и сопоставлял ту и эту. Бегунья на средние дистанции несколько утратила форму, но все же смотрелась совсем неплохо. Мой сальский колосок, разумеется, потяжелел, но это была добротная урожайная тяжесть.
Она тоже оценивала меня. Похоже, что осталась довольна.
– Смотрю, ты послеживаешь за собой.
– Так, для порядка, – пожал я плечами. – Гантельки, контрастный душ, отжимание.
– И хватит с тебя. Спорт – вредное дело. На стадионе тебе не ломаться, а я, даст бог, медаль присужу.
Я отозвался:
– Будем надеяться.
Прижавшись ко мне, она шепнула:
– Так, говоришь, охраняют меня? И есть от кого. Разве не правда? Ну, воры всегда хитрей сторожей.
– Так, значит, я – вор?
– Неужели нет? Даром, что ли, родители учат: чужую копну не молоти!
Если они меня и учили чему-нибудь этакому (в городском варианте), то их ученье мне впрок не пошло. Я молотил чужую копну, не ведая угрызений совести. Два забега на среднюю дистанцию привели ее в грустно умиротворенное, созерцательное состояние духа. Прильнув головой к моей груди, она ностальгически шепнула:
– Первенький мой…
И грустно добавила:
– Забыть не могу, как ты мне рассказывал, что мама велела тебе сторониться девушек из города Сальска.
– Да, – вздохнул я, – а я ее послушал.
Когда пришла пора мне отчалить, она сказала:
– Дай-ка свой пропуск. Отмечу тебе. А то не выпустят.
– Ты напиши, что работу мы сделали.
– И так поймут. Тут серьезные люди.
И впрямь, охрана, удостоверясь, что пропуск отмечен, сказала отечески: «Все в порядке. Можете следовать». Я вышел из кузницы идеологов в густой муравейник Садово-Кудринской.
Я бережно намекнул Учителю, что перспективы его неплохи. Когда он узнал, что я зашел со стороны Лужнецкой набережной, он только горестно рассмеялся: лишь чистый, как певчая пташка, лирик может толкнуться в этот гадюшник. Теперь ему ясно, что он обречен.
Я кротко заметил:
– Там видно будет.
Через неделю раздался звонок. То был потрясенный Мельхиоров. Он прохрипел:
– Сикамбр, ты гений. Ты – хитроумный Одиссей. С тобой говорит индивид с ордером. Почтительнейше снимаю картуз. Немногословные англичане так говорят о таких, как ты: «Он из атторни стал барристером». Твой правовой интеллект всемогущ. Еще раз повторяю: шапо!
Должен сознаться, я был смущен. Не знаю, кто заслужил эту оду. Во всяком случае, не интеллект. Но Мельхиоров был в ажитации:
– Две комнаты! Совмещенный санузел. Есть и прихожая для вешалки. Территорию не окинуть глазом. Раиса Васильевна даже зажмурилась. Мою признательность, широкую, как море, вместить не смогут жизни берега. За несколько дней мы приберемся, и я приглашу тебя на пианство.
Я был благодарен Анне Ивановне. На сей раз появление женщины, бесспорно, принесло мне удачу. Однако через несколько дней мне позвонила Раиса Васильевна. Илларион Козьмич занемог, он бы хотел со мной повидаться. Она просит записать новый адрес.
Когда я катил по московским улицам, было уже совсем темно. Редкие тусклые фонари еле заметно освещали грязную вату талого снега. Душа моя ныла, а сердце скрипело.
Я вошел во вновь обретенное гнездышко. Оно было крохотным, власть не расщедрилась. Его еще не успели обжить, и домовой в нем не поселился. Мебель была расставлена наспех.
Бесшумная Раиса Васильевна меня проводила к Мельхиорову и тут же оставила нас вдвоем. Он полулежал-полусидел – подушки стояли почти отвесно. Лицо его стало еще худее, еще уже, и клюв старого ястреба теперь выделялся еще отчетливей. Он был небрит больше обычного, рябины его как будто попрятались в обильной темно-сизой щетине. И даже всегда молодые глаза, как показалось мне, поседели.
– Думал позвать тебя на новоселье, – сказал Мельхиоров, – а пригласил на макабрическое действо. Но мне хотелось тебя увидеть.
Я задал ему дурацкий вопрос о самочувствии. Он усмехнулся.
– Хвастать нечем. Но все-таки я не теряюсь. Я убедил Раису Васильевну, что водка на орехах – надежнейшее и безотказнейшее лекарство от отложения солей. С тех пор каждодневно я получаю две ложки, и мы оба довольны.
Я выразил полную уверенность, что вскоре он одолеет недуг. Он вяло качнул белой ладонью:
– Да, я бессмысленно не сдаюсь. Вроде комара в октябре.
(Тут меня посетила мысль, что комару суждено было стать навязчивым образом Мельхиорова, который он пронес через годы.)
– Тем более, – добавил Учитель, – когда благодаря твоим хлопотам я начинаю новую жизнь.
Я скромно сказал, что искренне рад: теперь голова его освободилась, и мысль опять готова к полету.
Он удовлетворенно кивнул, сказав, что я должен держать в уме один из важнейших уроков шахмат: может быть, самое главное в партии – сменить направление агрессии.
Потом он спросил меня о Богушевиче. Я подтвердил ему, что Борис еще работает на «Свободе» и призывает нашу общественность смелее идти путем перемен.
– А Саня Випер? – спросил Мельхиоров.
– Випер теперь какой-то прораб. Не то перестройки, не то духа. Во всяком случае, очень активен.
– Вот как? Что ж, каждому свое.
– Отец мой тоже вроде него, – пожаловался я Мельхиорову. – Хмель гласности помрачил его разум. Каждый очередной оракул выводит его на путь спасения.
– Эффект плацебо, – вздохнул Мельхиоров. – Дают витаминную таблетку, сказав, что она снимает боль. И ведь снимает – люди внушаемы. Не осуждай его, мальчик мой. Пусть даже деятельная старость еще смешней, чем ленивая юность. Просто напомни ему при случае, что говорящие не знают, а знающие не говорят. Так утверждал один китаец, который был не глупее нас. Надеюсь, сам ты не забываешь, что спрятаться – это не средство, а цель. Не доверяй российской свободе, ибо чем выше она взберется, тем будет больней загреметь в неволю. Не изменяй себе, сикамбр. А стало быть – не валяй дурака.
Я сказал, что этого не случится. Не зря же я его ученик.
Немного помедлив, он произнес:
– Я не из тех, кто кичится опытом. Он – не свод твоих знаний, а счет твоих дуростей. И все же прими стариковский завет: при всей трезвости не вздумай откладывать то, что считаешь действительно важным. Некий пайщик весь век собирал себе книги – «будет что почитать на старости». А дожил до хладных лет, и выяснилось: строчку прочтет – и клонит ко сну. Так оно всегда и случается.
Он признался, что последнее время все чаще думает обо мне.
– Видишь ли, я не имел детей, – сказал он доверительным тоном. – Возможно, что в этом есть свой смысл. По крайней мере, никто не вспомнит. Ведь память может и подвести, зато забвение безотказно.
Я пробормотал, что напрасно он думает о людях так жестко.
Он ответил, что здесь нет осуждения. Уборка – это естественный акт. Убирают жилье и тогда вытряхивают ненужные вещи, ненужные книги, ненужные письма, бумаги, справки. Вот так же идет и другая уборка. Вытряхиваешь из своего обихода ненужные лица и адреса. Он знает, что вскорости его имя вместе с его телефонным номером будет вычеркнуто из разных памяток и записных книжек знакомых, просто-напросто за ненадобностью. Возможно, они уже это сделали. Ему и теперь нечасто звонят. В принципе это вполне понятно.
Он улыбнулся, хотя и с усилием:
– Узнаю тебя, жизнь. Но не принимаю. Все думаю: а что же в ней было? В конце концов, одни только шахматы. Но и они выходят в финал.
– Вы так думаете, Илларион Козьмич?
– Я так думаю, – подтвердил Мельхиоров со столь знакомой мне милой важностью. – Финал может затянуться на годы, при фарте – на несколько десятилетий. Но это уже ничего не меняет. Все-таки добрались и до нас. Сколько веков мы уходили от этого дерьмового мира, спасались от этой вечной погони и так гениально его дурили, так ловко прикидывались чудаками – знали, что чудаков щадят. И вот эти монстры сообразили, что мы их обманывали и – озверели. Нас вытащили из стен монастырских, где в наших партиях – наших молитвах мы исповедовались друг другу, где мы таились от этой сволочи, от правил ее нечистой игры. Сперва они действовали подкупом. Самых талантливых обуздали богатством, признанием, сделали звездами, национальными героями, на деле превратив в гладиаторов, которые рвут друг друга на части под возгласы черни, ей на потеху. Тайна исповеди теперь нарушена. Она им враждебна. Как всякая тайна. Тайна объявлена вне закона.
Он шелестел, но в этом шорохе, в этом отлетающем голосе уже поднимался тот трубный звук, который всегда был так персонален, уже клокотал мельхиоровский рык. Мне стало страшно, что он не выдержит.
– Засранцы, они достали и шахматы, – горестно шуршал Мельхиоров. – Но этого быо им недостаточно. Мало того что они их вытащили под самые мощные прожекторы, заставили нас играть в их игры. Они посягнули на тайное тайных – на мозг, на последний приют человека, его последнюю цитадель. И если раньше до нас добирались скрытно и медленно – мы стояли в самом конце этой смертной очереди, – то уж теперь мы ее открываем, взламывать мозг начинают с нас. С нас начинают его оккупацию – клетку за клеткой, клетку за клеткой. Компьютеры – это танки прогресса! Они вдавливают в чрево планеты живую жизнь живого духа. И в этот раз мы – первые в очереди, человечество нам дышит в затылок.
Я попросил его успокоиться. Это была смешная попытка, которую он сурово пресек.
– Начнут с перебора вариантов. Потом варианты отменят вовсе, навяжут единственно верный путь, единственно правильное учение. Партии превратятся в табии. Мы – кролики для эксперимента, и наша клетчатая доска стала трагическим полигоном. Обессмысливание всей популяции будет однажды завершено. Людей построят в одну шеренгу, заставят шагать под одну команду – мозг станет плоским, безжизненным стендом, способным лишь принимать сигналы и беспрекословно их исполнять. Возможно, что мы это заслужили своим холопством, жестокостью, завистью, своей ошеломительной тупостью, возможно, что мы себя исчерпали, возможно – страшно произнести! – что мы этого сами хотим, и все же, все же какое счастье, что я успеваю опять увернуться, что я опять успеваю спрятаться до воплощения этого Замысла, который и был мечтой Сатаны. А шахматы, мои дивные шахматы, стали его победным оружием, решающей гирькой, склонившей весы в финальной схватке Дьявола с Богом.
Он помолчал и усмехнулся.
– Теперь ты понял? Я не боюсь. У всех у нас тайный роман со Смертью. Сначала он достаточно вял, но в некий час набирает силу, жизнь становится нестерпимой, и ты произносишь сам: «Смерть, выручи!» Есть такая расхожая фраза: «Надежда умирает последней». Вздор. Я умру еще до нее. Не страшно. Мне шестьдесят восемь. Как пишут спортивные корреспонденты: «Эта партия завершилась на шестьдесят восьмом ходу». И – Felix opportunite mortis! Счастлив, кто умирает вовремя. Хотя, разумеется, и обидно, что мало я прожил в новой квартире, которую ты для меня отстоял.
Я почувствовал, что сильно волнуюсь.
– Учитель, – сказал я, – все обойдется. Вы будете жить. Нам всем на радость.
Он насмешливо посмотрел на меня и сказал:
– Сенсация! Поп яйца снес.
Я осторожно улыбнулся. Он рассмеялся и объяснил:
– Это такой палиндром. Не пугайся. Попробуй прочесть справа налево. То же самое, что слева направо. Все едино, мой мальчик, все едино! Спасибо тебе, что пришел. Иди.
Я чуть слышно сказал:
– До свиданья, Учитель.
Он внимательно меня оглядел смелыми седыми глазами.
– Прощай, сикамбр. Держись за трубу.
Спустя три дня Мельхиоров умер.
В летние дни девяносто первого держава все еще пребывала в аудиовизуальной горячке. Период длительной летаргии сумел-таки накопить в ее недрах шизофреническую энергию. Запасы оказались громадны.
Я тоже отдал дань лихорадке. Правда, голубому экрану я предпочел мой старый приемник, когда-то прошедший сквозь руки Випера. По крайней мере, не созерцаешь многих великолепных лиц. Тем не менее если б Вера Антоновна узнала о моем увлечении, она бы уверенно заявила, что я оказался не безнадежен.
Фатально, но именно игры с приемником вернули проснувшуюся гражданственность в ее исходное состояние. Однажды, странствуя по эфиру, я вдруг набрел на Марию Плющ.
Она была диктором радиостанции. Я не берусь судить и рядить о столь специфической профессии. Каждый возделывает свой сад. Но в голосе этой невидимки таился некий манкий секрет. Голос был так богат оттенками, так многокрасочен и щедр, что заменял саму Марию. Была в нем особая доверительность – о чем бы она ни сообщала и с кем бы она ни говорила, с политиком, рокером, акушеркой – она беседовала со мной.
Суть этого странного диалога была мне решительно безразлична. Я, словно в дачном гамаке, покачивался на знакомой волне. То было победой звука над смыслом. Я принимал условный сигнал, который будто спускал с поводка мое разогретое воображение. Отчетливо видел ее лицо и различал все ее стати.
Конечно, я хорошо понимал, что дама, которая вещает, пряча при этом свои черты, имеет немалые преимущества перед любою телезвездой. Она оберегает загадку. Это же нужно делать и мне.
Разумные мысли! Но проку в них чуть. Ограничители не в почете. Даже и трезвый человек испытывает против них раздражение. Мои связи помогли моей цели – я свел знакомство с Марией Плющ.
Я был наказан и – по заслугам. Не то чтобы мне предстала медуза. Напротив, вполне недурна собой, румянолица и черноброва. Но почти сразу же мне был явлен сокрушительный командирский нрав. Амбициозной категоричностью она мне напомнила Зою Вескую, но если непримиримая Зоя была радикальной социалисткой с сочной прудоновской начинкой, то сладкоголосая Мария – стойкой подвижницей феминизма. При первой же встрече она подчеркнула, что женщина может решительно все, ну а мужчина – остальное. И только. Я согласился, что это так, однако добавил, что остальное тоже имеет известную ценность.
Она фыркнула:
– Сексистский стилек.
Эти два слова я слышал часто. Почти любое мое замечание сопровождал такой комментарий.
Она просила меня соблюдать безукоризненную корректность, не называть ее «дорогой», помнить, что за подобный эпитет в цивилизованной стране сажают на скамью подсудимых. О том, что ей приходится быть предметом разнузданных домогательств, нечего даже и говорить.
Я сказал ей, что в этом не сомневался. Она небрежно махнула рукой – одно дело об этом догадываться, совсем другое – пройти сквозь строй. Чего ей не пришлось испытать? Разве только не били шпицрутенами.
– Кто же были эти подонки?
Она угрожающе ощетинилась.
– Не дать ли вам явки и адреса?
Я даже удивился, узнав, что Мария Гавриловна была замужем. Брак ее, впрочем, длился недолго.
– Муж был идиот. Я жила невостребованная.
Я выразил ей свое сочувствие и предложил меня навестить. С горьким всеведеньем усмехнувшись – другого она и не ждала, – она приняла мое приглашение. Едва кивнув, прошлась по квартире, критически ее изучая. Сначала забралась с ногами в кресло, потом постояла перед тахтой, сверля ее рентгеновским взором. Проинспектировала и ванную, пощупала мой махровый халат. После чего саркастически бросила:
– Типичная берлога самца.
Впрочем, бывала она в ней часто. При этом не дожидаясь зова. Истинная либертарианка не ждет, когда ее позовут. Меня даже несколько озадачивала целенаправленность наших встреч. Когда однажды я предложил ей сходить на прогремевший спектакль, она мне живо дала понять, что выпавший ей свободный час не станет тратить на культпоходы.
При этом она неизменно терзалась по поводу моей бездуховности. И впрямь, к чему ей ходить в театр, она с успехом творила свой – я был назначен на роль плебея, который топчет аристократку. Со вкусом она со мной обсуждала мои очевидные несовершенства.
Естественно, я старался понять, что же ее ко мне привязывает. Она отвечала неопределенно либо с надменным ликом отмалчивалась. Изредка, впрочем, не то страдальчески, не то патетически бормотала:
– Если б не эта бабская слабость…
Мне вспоминались слова Мельхиорова о том, что феминизм – не теория, он в сущности иммунный гормон, рожденный сегодняшней амазонкой в борьбе со склонностью к нимфомании. Учитель всегда тяготел к системности.
Смиренно и грустно я ей покаялся, что притомился на сладкой барщине. С презреньем она дала мне вольную. Я и на этот раз унес ноги.
Мое беспросветное холостячество сильно травмировало отца. Он повторял, что в сорок шесть лет уже пора мне определиться. Горько, что я не ищу ничего, кроме очередных впечатлений. Конечно, я мог бы ему сказать, что вековечный страх рутины лежит в основе любого поиска, но наша дискуссия завела бы в метафизический лабиринт – мы из него не скоро бы выбрались. Я лишь заметил, что образ жизни – в каком-то смысле лицо судьбы. Возможно, есть некая неизбежность в том, что живу я именно так. Он кипятился и уверял, что всякий передовой человек не ссылается ни на внешние силы, ни на собственную природу, ни на генетику, ни на рок – он осуществляет свой выбор. Я соглашался: да, разумеется, но этот выбор детерминирован. Отец хватался руками за голову: какая младенческая уловка – вот так уклониться от личной ответственности.
Он, безусловно, меня любил, один только он на всем белом свете, и я это хорошо понимал, но, думаю, что на этом же свете не было еще двух людей, столь непохожих, как я и он. И дело тут не в череде поколений, ни даже в этом фатальном отталкивании сына от своего отца, которое, верно, берет начало в таинственную минуту зачатия, просто-напросто мы были сработаны из разнородного материала. Должно быть, неведомый мне Шутник всласть поразвлекся, когда вдруг выбрал в мои родители энтузиаста.
В последнее время он был невменяем. Не так давно оформилось сборище, этакий элитарный клуб, в котором московские златоусты оттачивали языки и предлагали наперебой свои проекты расцвета отечества. Не знаю как, но отцу удалось проникнуть на вече свободолюбцев, где пенилось вольное русское слово. Отец возвращался оттуда в угаре, молитвенно твердя имена новых мыслителей и профетов. Сейчас он пребывал в эйфории от дамы по фамилии Веникова. Однажды он позвонил поздно ночью. Он просто захлебывался от возбуждения.
– Сегодня я познакомился с ней, – крикнул он после первой же фразы.
– Искренне радуюсь за тебя. Но и сочувствую Вере Антоновне.
– Ну, у тебя одно на уме. Послушал бы, как она нынче выступила. С таким подъемом, с таким огнем. Просто невероятная женщина. Такая яркость и сила мысли! Действительно светлая голова. Я выразил ей свое восхищение. Слово за слово, и что же ты думаешь?
– Секунду. Ты взял у нее телефон?
– Уймись наконец. Она тебя знает! Когда выяснилось, что я твой отец, она буквально затрепетала. Просила тебе передать привет.
– Как зовут ее?
– Арина Семеновна.
– Ну, разумеется. Где же ей быть? Эпоха нашла ее и затребовала.
– Ох и умна, – повторил отец.
– Да, этого у нее не отнимешь, – я громко зевнул.
Отец встревожился.
– Ты, верно, лег? Извини, пожалуйста. Надо было дождаться утра.
– Не страшно. Я тебя понимаю.
Вздыхая, я погасил ночник. И чем она его проняла? А впрочем, лишь расхожие мысли и, кстати, лишь расхожие фразы имеют влияние на умы. Поскольку наши умы – ленивы.
Дня через два она позвонила.
– Белан, это ты? Говорит Арина. Свела знакомство с твоим отцом.
– Я знаю. Он от тебя в восторге.
– Он – необыкновенно живой, мобильный, мыслящий человек.
– Что и говорить…
– Ну а ты? Не киснешь?
– Держу себя в рукавицах.
– Женился? (Я внутренне напружинился. Такие вопросы всегда – прелюдия.)