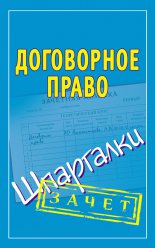Ироническая трилогия Зорин Леонид

Плутон разжалован из планет. Планетой в Системе стало меньше.
Сколько трагизма заключено в книге, не оставляющей следа.
Предсмертный вздох поэта: «Я оплакал еще не все, что хотел и то, что я должен был оплакать».
В пору борьбы с космополитизмом французскую булку переименовали. Ее назвали тогда «городской». И что-то она потеряла во вкусе.
23 апреля 1616 года. Черный день литературы – умерли Шекспир и Сервантес. Оба.
Истинно высокую цену имеет беспричинная радость.
Как все же остро чувствовал Ницше! «Истинная проза пишется только перед лицом стиха».
Часто вспоминаю, как Шкловский уверял мня, что Пушкин женился на Гончаровой оттого, что Натали напоминала Ризнич. Есть нечто пронзительное в этой догадке.
Пилат был болезненно чистоплотен. То и дело умывал руки.
Пора уже подвести черту, подбить бабки и слить водицу.
«Вершать». Он написал «вершать», самодержавный, верховный наш грамотей. И не посмел ни один редактор исправить эту абракадабру.
Трудно даже вообразить, как невыносима жизнь завистника. Но внушать зависть немногим легче.
Если б актеры могли понять, как для них важно, жизненно важно, любовное отношение к слову. Столь долгая жизнеспособность Малого театра в значительной мере покоится на этой традиции.
Когда вспоминаешь, с каким исступлением коммуно-советская система реагировала на самое пустяковое разномыслие (не говоря уже о свободомыслии), с каким ожесточением судила Синявского и Даниэля, ссылала Бродского, преследовала Амальрика – жертвам несть числа, – так ясно, что в истоке этой истерики был жестокий комплекс неполноценности.
Диалог.
– Как точно сказал Пушкин: «И в мрачных пропастях земли».
Дама: Это он – о шахтерах?
Диалог.
А. Знакомьтесь. Это моя жена. На сей раз – последняя.
Б. Еще одно последнее сказанье.
Талант автора не вмещался в отведенную ему территорию книги. Он захлестнул ее, и книга пошла ко дну.
Сальвадор Дали был безжалостен. Он сказал: «Талант – в яйцах. У женщин их нет».
Совет на все времена дал Толстой: «Потрудись». Мудрее не скажешь – и оправдание, и спасение.
Чем дальше, тем сильней убеждение, что драматургия – арена молодости. Подобно тому как однажды пьесы вытеснили из моей жизни стихи, так проза отодвинула пьесы. Все правильно, все закономерно. Шоу со мной не согласился бы, но ведь его произведения в закатные годы были конвульсиями интеллекта, его затухающими извержениями. Страсти, нерва, драйва в них не было.
Знаменитая балерина дает интервью. На вопрос репортера из желтой газетки, почему позволила снять себя обнаженной и распространять эти снимки, отвечает с горделивым достоинством: «Мне нечего что-либо скрывать».
Для большого поэта нет прозаизмов, канцелярита, нет выбракованных слов. Одухотворяет все, к чему прикоснется. (Думая о Бродском.)
Хейзинговский homo ludens может быть применен к самым несхожим меж собой индивидам. Истинно многогранная дефиниция. Играют все, но у каждого – своя игра.
Какое население – такое и правление.
О это чувство, всегда, неизменно являющееся в последний час: ты не успел сказать самого главного!
Совершенно удивительные стихи Дмитрия Быкова: «А я побреду назад, / Где светит тепло и нежаще / Убогий настольный свет – / Единственное убежище для всех, /Кому жизни нет».
Как только стал немного взрослее, дал себе железную клятву: «Сделаю все, чтобы жизнь моя ни единою гранью своей не совпала с политическим классом».
Единственное назначение церкви – быть тихой, несуетной, сосредоточенной, далекой от всех кровавых торжищ, мистически связывать личность с вечностью. И что же она с собой сотворила? Столетия религиозных войн. Одна бесконечная, непрекращающаяся Варфоломеевская ночь.
Один-единственный раз в своей жизни и Сталин не смог не изумиться сверхчеловеческому терпению отдавшегося ему народа.
В агрессии все-таки заключено некое творческое начало. Наш Лермонтов был не зря агрессивен.
Всем теориям, системам, дискуссиям – цена, в конце концов, невелика. Трагедия в том, что жизнь нельзя выиграть, ее можно только проиграть.
Графомания – способ продлить свой век. В этом и кроется его оправдание.
Человеку должно повезти дважды – вовремя родиться, вовремя умереть.
Пьесы идут, книги выходят, жизнь уходит. Jedem das Seine.
Грустное дело – дожевывать жизнь.
Точная деталь наполняет мысль жизнью. Салтыков-Щедрин: «Когда одной рукой я поднимаю завесу будущего, другой рукой – зажимаю нос».
Искусство на службе идеологии такой же нонсенс, как безногий бегун.
Народ больше человека, но человек умнее народа.
Человека можно убить, но нельзя изменить.
Бедные писатели. Сколько сил и огня, чтоб утвердить преходящее, защитить неоправдываемое, призвать к недостижимому.
Все вечные истины обречены на забвение.
Ипполит Тэн охарактеризовал эпоху Великой французской революции коротко, но безжалостно: «Никогда еще не говорили так много, чтоб сказать так мало».
Мир стоит на несоответствиях. У наших отечественных националистов партийный гимн был «Интернационал».
Главную формулу своей «Цитаты» я выразил неточно. Вот как должна была она звучать: «Жизнеспособна мертвечина».
Характер даже важней дарования. Гений – это талант, помноженный на характер.
Любимые слова Толстого «Делай что должно, и пусть будет что будет». Сколь ни странно, это девиз ордена тамплиеров.
Оставьте любви ее сады, оставьте семье ее огороды.
Ученый пишет: «История человечества укладывается в семь-восемь миллионов лет». Восхитительно! Миллионом больше, миллионом меньше – тут точность необязательна.
Еще Павлов установил, что слова в советской России подменяют действительность.
Разницу между «быть» и «стать» точнее всех определил Фихте: «Быть свободным – ничто, стать свободным – это небо».
Герцог Медичи точно выразил несентиментальность: «Нет такой заповеди, чтобы прощать нашим друзьям».
Оптический обман воспоминаний способствует смягчению нравов и размягчению мозгов.
– Литература и цензура – две вещи несовместные.
– Но ведь внутренняя, твоя собственная цензура необходима.
– Нет. Должна быть не внутренняя цензура, а внутренняя культура.
Чаадаев мыслил жестко: «Мы принадлежим к тем… которые не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру». Ильин выразился мягче: «История России есть история страданий и скорби».
Непогрешимый Перикл нашел истинное счастье во грехе с Асиазией.
Когда хотят облагородить хамство, его называют искренностью.
– Потом будет видно, какой ты есть, – хозяин тайги, человек-мажор, индиго или дырка от бублика.
Принадлежу не племени, а роду. Род человеческий имею я в виду.
– И вот представьте, дверь отворяется и входит такой синеглазый вятич. Русый волос, румянец по всей щеке – просто герой родной словесности, истинная мечта патриотки.
Литература в одиночке.
Тюремные скупые строчки.
Сатирический реквием на поминках отечества.
Если задуматься, то ирония и есть та последняя соломинка, за которую держится утопающий.
Хотите, чтоб я сказал торжественней? Последняя линия обороны.
Суслов сказал Василию Гроссману, что его роман «Жизнь и судьба» можно будет издать через двести лет. Что он вкладывал в эти свои слова? Так как партия утверждала, что ведет Россию не назад, а вперед, из этого следует, что роман Гроссмана найдет свое место в разумном обществе, а сегодняшнее никак не подходит под такое определение.
И вновь: «Voluntas superior est intellectu» (Воля превыше разума.) Не вчера это понято.
Мальчики не могут привыкнуть к тому, что они уже старики. Старцы до сей поры удивляются тому, что они остались мальчиками. Люди до самой своей кончины старательно играют во взрослых. Никто не может, не смеет привыкнуть к реальности, не хотят, не желают, бесплодно отказываются стареть. Никто не способен на смирение, не постигает природы вещей, не принимает движения времени, неоспоримых правил игры. Суть человеческой трагедии в несоответствии Воплощения Замыслу. В недостижимости образца. В безвариантности финала. Мертвые знают конечную истину, памятники продолжают спор.
Александр Сергеевич тяготился своим громадным мятежным умом. Исходным звериным чутьем понимал, что поэзия должна быть глуповата. Конечный вывод мудрости земной у автора «Фауста» убийственно плоский. Автор обязан сочетать мудрость вершины и силу почвы. Чувство без чувственности блекнет.
Художество сводит концы и начала, уравновешивает полюса. Сила может обойтись без насилия. Насилию сила необходима. Истина – небу. Правда – земле. Кажется, это Лец заметил: «Безграмотные вынуждены диктовать».
Старость предоставляет всего лишь два варианта ожидания: метафизический покой и обреченное сопротивление. Прислушайтесь к своей первосути и сделайте необходимый выбор.
Гигантов подводит гигантомания. Горы обычно плодят мышей. «Конечный вывод мудрости земной» так, как он сформулирован в «Фаусте» вызывает неясное, смутное чувство. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Что ни говори, а пафос и мудрость не уживаются друг с другом.
Парадокс не всегда кратчайший путь к истине, зато он всегда привлекает внимание. Поэтому он в такой цене.
Настоящий мудрец не знает страха. Он обладает достаточным мужеством, чтобы понять, что род человеческий все же не наделен бессмертием. Но жестокая неизбежность не избавляет нас от обязанности прожить отпущенный срок талантливо, смело и, прежде всего, благородно. Это и есть и назначение, и оправдание столь даровитой и столь мятущейся популяции.
Скандинавы в одиннадцатом веке были свободными людьми. Квислинг при всей поддержке вермахта был обречен на поражение.
Быть с большинством надежно и трезво. Быть с меньшинством достойно и тяжко.
Тот, кто выигрывает жизнь, часто проигрывает судьбу.
Культ величия – религия карликов.
Не все государственники – карьеристы. Но все карьеристы – государственники.
У Истории учеников не бывает.
В иронии – бездна очарования, в трагедии – глубина бездны.
Mortui vivas docent. Мертвые учат живых. Не случайно учителя переворачиваются в могилах – мы очень плохие ученики.
Похвальная характеристика: способный муравей.
Кто знает нынче литературу, звучавшую на языке Гильгамеша?
Памятники спасителям всегда скромны. Пантеоны и мавзолеи могильщикам всегда величественны.
В первоистоке творчества всегда есть простодушие. Без него трудно взяться за дело.
Если государство – театр, репертуар его, безусловно, определяет трагикомедия.
Словесность должна сохранять лицо даже когда слова обесцвечиваются.
Знамя, к несчастью, в руках знаменосцев.
И Ахматова, и Бродский всегда подчеркивали, как первостепенно «величие замысла». Не случайно Мелвилл однажды заметил: «Чтобы создать великую книгу, надо выбрать великую тему».
Все большие писатели честолюбивы. Все ищут спасительную тропу, которая уведет от забвения.
Время открытых страстей миновало. Теперь их прячут и гримируют. Век философии соразмерности.
Эпитет двадцать первого века – интеллигибельный. Выразительно. Интеллигент, обреченный на гибель.
Телефонный диалог.
– Доброе утро.
– Рад вас слышать.
– Не радуйтесь. У меня к вам дело.
«Надо жить и исполнять свои обязанности». Так кончил Фадеев свою главную книгу. Вспомнил ли он эти слова перед тем, как оборвать свою жизнь?
Замечательное по точности определение Бердяева о том, что в истории реализуются не реалистические, а радикальные утопии. Не потому ли люди, с ней встретившиеся, чаще всего исчезают из мира?
Из сочинения выпускницы: «Анна Каренина не встретила ни одного настоящего мужчины и поэтому легла под поезд».
На чем основан конфликт поколений? Новые люди воспринимают сумасшедший дом как реальный мир.
Авангард не может быть в большинстве по определению. Прежде всего, авангард человечества.
Немировичу-Данченко, чтобы воплотить свою мечту, спеть свою лебединую песню – поставить «Три сестры», – в 1940-м понадобилось определить чеховский шедевр как «мужественный оптимизм». Без этой жизнеутверждающей бирки поистине гениальный спектакль не обрел бы законного права на жизнь и официальное признание. Надо было как-то барахтаться.
Древние Микены погибли из-за того, что фактически обходились без армии. Горестный урок пацифистам.
Как известно, пожизненное заключение значительно страшней смертной казни. Но и на воле долголетие – непомерное испытание. Уйти вовремя – большая удача.
Еще одна ипостась новизны – мода на старые имена и отмененные названия.
Планета Земля оказалась избранницей – стала обиталищем Разума. Именно он ее уничтожит.
Первосуть человеческой трагедии – одиночество невыносимо, общность – жизнеопасна.
Можно – отступить. Можно – сделать шаг в сторону. Нельзя – упасть на колени.
Поднимаясь, опираешься на надежду. Спускаться приходится без опор.
Однажды писатель воспоминаний должен стать писателем размышлений. Иначе беды не миновать.
Что побудило Хемингуэя, едва достигшего шестидесятилетия, пустить в себя пулю? Я нахожу лишь один ответ: отчаянье от своей исчерпанности, боязнь превращения в автопародию. Однако сделав себя героем созданной им литературы и ощутив, что больше не может соответствовать ни этому образу, ни этому стилю, он понял, что должен поставить точку. Свинцовую точку. И он это сделал.
В чем сила Чехова? Все понимал. Писал так же, как жил – без иллюзий. В чем его драма? Все понимал. Жил так же, как писал – без иллюзий.
О, эта первородная жажда, это извечное стремление если уж вовсе не обнулить, то хоть бы уполовинить смыслы!
Pour vivre hereux, vivons cach – чтоб жить счастливо, надо прятаться. Все мудрецы это понимали, и никому из них не хватило мудрости воплотить это в жизнь. Садились за письменные столы и исповедывались, исповедывались.
На лике отчего пространства мы научились подмечать
И горделивость самозванства, и обреченности печать.
Жизнь нельзя считать удавшейся, если запаздывает смерть. Эстетика биографии предполагает своевременный финал.
На чем основывается героизм раба? На презрении к своей рабской жизни, которой можно не дорожить.
Героизм свободного человека – это совсем иной героизм.
Томас Манн говорил, что талант – это веселая тайна. Ох, не всегда она весела. Зощенко, Пастернак, Мандельштам… Всем им достался кусок истории, когда художество корчилось на наковальне идеологии под молотом коммуносоветской цензуры.
Писатель – эпопейщик.
«Заметки графомана» – куда ни шло. Скромно и весело. «Исповедь графомана» – звучит трагически. Все равно что – предсмертное письмо.
Пушкин (устами Сальери) назвал нас чадами праха. Но мы еще и дети страха.
23 февраля 2013.
Два важных урока в моей жизни. Ролан Быков очень переживал, даже укорял меня за то, что я согласился на то, чтоб роль Пушкина в «Медной бабушке» исполнил Олег Ефремов. Он сказал об этом в своем радиомонологе. Закончил он его так: «Но в его (т. е. в моем) кабинете на стене висит мой портрет! Мой портрет в этой роли».
Вторая история. Звонит Алексей Герман – надо посоветоваться. Приходит, рассказывает, что будет снимать фильм «Двадцать дней без войны» и хочет пригласить на главную роль Юрия Никулина. Прав ли он? Может быть, Волков (артист Театра на Малой Бронной) точнее?
Я заколебался. Сказал: «Боюсь, что зритель, видя Никулина, невольно воскресит образ Балбеса (который принес Никулину оглушительную популярность)».
Герман все же пригласил Никулина. Какое счастье, что он не прислушался к моей опаске!
Если в истории с Быковым и Ефремовым меня все же оправдывает то, что выбора не было: Быков – Пушкин был директивно запрещен властями, то в истории с Никулиным оправданий мне нет. Обнаружил банальную склонность к стереотипу. Надолго я запомнил тот день. Вот мысленно вспоминаю его в другой день, когда в Питере хоронят Германа.
Не говори: жизнь была мгновенной.
Скажи просто: жизнь – была.
Удача – призрак, счастье невозможно
И лишь одно забвение надежно.
У литератора родина та, на языке которой он думает.
Никто так успешно, изящно, так цельно не прожил такую почти мгновенную, короткую сорокалетнюю жизнь, как смог прожить ее Антон Павлович.
Неужели краткость ее входила в условие этой безукоризненности?
Удивительно, какую отцовскую заботу о русской литературе ощущал совсем еще молодой Пушкин. Его удручала почти девственная нагота ее жанров. И он один заполнил лакуны. Он дал ей сказку, балладу, поэму. Он дал ей лирику, миниатюры, стансы. Он дал нашей прозе рассказ и повесть. Драматургии он дал трагедию, драму, прекрасные диалоги. Он был и критиком, и публицистом. Он поднимал целину, он сеял. Он строил нашу словесность как дом, как Петр – русское государство. Удивительно, как молодой человек ощутил ответственность патриарха.
Отечество скорее островное, нежели континентальное понятие. У Пушкина и близких ему по духу людей оно было Царским Селом, при этом и Царское Село было обозначением лицейского сообщества, уместившегося в тридцати аскетических кельях.
Для многих людей двадцатого века островом – отечеством был русский язык, это была их родина, в которую они репатриировались из коммуносоветской жизни. И родина эта находилась в постоянной осаде выпавшего ей времени, которое штурмовало и размывало этот остров. Ибо оно создало свой язык. Язык аббревиатур, протоколов, резолюций и заявлений. Язык газетных передовиц, заполненных анкет и доносов.
Можно было сколько угодно перечитывать письмо Карамзиной ее младшему сыну, где она, описывая смерть Пушкина, писала, что «имела горькую сладость принять его последний вздох». Снаружи, и не только снаружи – вокруг бушевала совсем несхожая, другая лексическая стихия: «в целях обеспечения укрепления политпросвещения обеспечить распространение обучения» и тому подобное.
Это была прививка мощнейшая – еще только несколько лет назад лидер сената (употребим это слово), прибыв на погребение короля Марокко (так сказать, «принять последний вздох»), прочувствованно произнес на траурной церемонии: «Мы не могли не посетить этого мероприятия». Так по-новому, современному, была интерпретирована «горькая сладость последнего вздоха». Под стать этой прозе была и поэзия: «Это чувство каждому знакомо В светлый день, смиряя сердца дрожь В кабинет секретаря обкома, Как на встречу с совестью, войдешь».
Не убежден, что век двадцать первый окажется более милосердным к пушкинской тени, осада острова продолжается, правда с иного направления. Мне уже пришлось слышать из уст ученой и эрудированной телеведущей, что «Пушкин – это устойчивый бренд».
Не успев таким образом разжать железные клещи мероприятий и постановлений, наш остров встречает новый вал, и кто осмелится предсказать судьбу языка, зависшего между консалтингом, менеджментом и мониторингом?
И все равно русский язык наше отечество. Мы в него возвращаемся из лексики, окружавшей нас на протяжении десятилетий. Именно эта навеки любимая и островная родная земля все же спасет нас как от канцелярской, так и от постмодернистской атаки, долговечной она не может быть по определению, однажды отхлынет. Что бы то ни было, мы вернемся в ее полноводное пространство, как на обетованную землю.
Старая притча о мудреце, вместившем всего в одну строку всю долгую мировую историю: люди рождались, люди надеялись, люди страдали и умирали».
Можно было обойтись и одним словом: ТЩЕТА.
Нет, неспроста впечаталась в память одна одобрительная фраза, произнесенная на ходу одной насупленной старой теткой: «Лаконизм у вас в кишках». За долгую жизнь в литературе наслушался и похвал, и брани. Прочно забыл и то и другое. А эти несколько слов запомнил.
«Мне должно действовать» каждодневно, настойчиво напоминал себе Пушкин. Как это характерно для гения! Ему все кажется, что он мало, непозволительно мало сделал.
В сущности бунт – это жажда реванша. Начинается с обиды Карандышевых.
Дальнейшее в значительной мере зависит от мощи и уровня ярости. Тому Карандышеву, который был подсмотрен и написан Островским, не хватило всеобъемлющей ненависти и одержимости Шикльгрубера.
Ленин понял, что он «провалился» (по его собственному признанию), на полстолетие раньше страны, находясь на гребне победы. В значительной мере это прозрение и подорвало жизнеспособность.
– В политике не бывает эстетики.
– Почему же? Вспомните Талейрана. Он не был обделен этим качеством.
– В чем, по-вашему, оно проявлялось?
– Вспомните хоть его цинизм. Он был изощренно элегантен.
Нет более безжалостной казни, чем запаздывающая смерть.
Чем больше и объемнее дар, тем большей требует он концентрации.
Бывает счастливое мгновение, когда внезапно блеснувшая мысль летит не ввысь, а стремится вглубь. Так вызревает Постижение.
Чем больше выпадаешь из жизни, тем чаще ворошишь свою память.
2013 г. Итак, я написал о Безродове. Я не браню своего героя. В эпоху свинца и колючей проволоки у него был ограниченный выбор, чтобы остаться человеком и не погибнуть в юные годы.
«Божественная комедия в том, – сказал торжественно и назидательно, – что Данте замещают дантисты».
Большие люди – все-таки люди. В этом их сила, в этом их слабость. Варлам Шаламов – большой писатель и безусловно мощный характер. И все же до конца своих дней не мог смириться с тем, что Солженицын успешней, чем он, сумел конвертировать свой опыт перенесенных страданий. Он то и дело возвращался к неугасавшему тайному спору. Однажды назвал А.И. дельцом.
Сегодня вспомнил о литераторе, до срока покинувшем этот мир. Его пожирали неутоленные тайные страсти – при этом так яро, что рано свели его в могилу. Кто-то сказал: «Докомплексовался».
Старость – отрезвление выигравших и утешение проигравших. Первым она напоминает, что им недолго торжествовать, вторым – что им недолго томиться.
Ночь. Чуть слышен зов томительный паровозного гудка. Все черней и сокрушительней Неизбывная тоска. Обязательство просрочено И обязанностей нет. Господа, со мной покончено. Вот и все. Тушите свет.
Короткое грозное слово «судьба» родилось от союза двух слов – «Суд Божий».
Он ощутил, как на гаснущий мозг хлынула мощная струя света, словно затопившая тьму.
«А вот и Белый Коридор», – успел он подумать, и в тот же миг сознание его расщепилось.