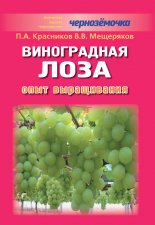Русский струльдбруг (сборник) Прашкевич Геннадий

Сегодня вечером с Люси, доисторической костенуркой, будут полковник СС в черной форме, советник Муссолини – в оливковой. Еще богатый и удачливый дизайнер из Нью-Йорка и даже мальчишка-комсомолец, с которым давным-давно, много веков тому назад, она провела ночь перед своим первым и последним боевым заданием.
Само собой, мама.
Седьмого я пока не видел.
– Вот кто жаждет подарка!
Я изумленно посмотрел на костенурку.
Нет, она не читала моих мыслей. Просто увидела распространительницу спринт-лотереи – молоденькую, длинноногую, соблазнительную. У студентки точно не было денег на лекарства, правда, и болезней не было. На мир она смотрела с высоты своего возраста, то есть с некоторой завистью, но снисходительно. С ее точки зрения – я и столетняя костенурка родились в один день. Какая разница? Самка гиббона, самец гиббона. Она страстно мечтала всучить нам пару своих дурацких лотерейных билетиков. Вся цвела, улыбалась, нежные ямочки круглились на щечках, темные пряди красиво падали на виски.
- Пляшет на одной ножке
- довольный торговец рисом.
- Обманул умного человека на четыре кулака.
– Выиграйте машину!
Она обращалась ко мне.
– Спасибо. У меня уже есть машина.
– Ну, выиграйте квартиру в Москве, – посмотрела она на Конкордию Аристарховну.
Костенурка улыбнулась еще благожелательнее, чем я:
– Спасибо. У меня уже есть квартира в Нью-Йорке.
– В Нью-Йорке! – студентка зачарованно уставилась на костенурку.
Впрочем, восхищение в ней мешалось с неким смутным тайным неодобрением. Квартиру в Нью-Йорке нужно иметь молодым и веселым, считала студентка, чтобы хватало сил бродить по бродвейским театрикам и пить капучино. Ну, не важно, что пить. Там будет видно. И отгонять взглядом черных веселых похотливых афроамериканцев. Зачем такое старым бабушкам и дедушкам? Студентка этого искренне не понимала. Зачем квартира в Нью-Йорке такой милой глупой старушке? Дать ей комнатку в доме инвалидов, и вся недолгая. Наверное, эта бабка, уважительно подумала студентка о Конкордии Аристарховне, своего богатого американского мужа задушила своими ухоженными тоненькими лапками.
Она завидовала. Она страстно завидовала.
Она еще не понимала своей силы. Ей в голову не приходило, что красивые длинные ноги в девятнадцать лет от роду значат гораздо больше, чем хорошая квартира в Нью-Йорке, когда тебе валит уже… ну, не важно… мысль понятна… Длинные молодые ноги – лучший рычаг. Такими ногами самого Архимеда можно лишить точки опоры.
Ну, так помогите ей, подмигнула мне Конкордия Аристарховна.
И почему-то вдруг вспомнила, что у нее самой дома сгорел электрический утюг. Не проблема, конечно, нет, но утюг был небольшой, тяжеленький, с надежным разбрызгивателем. Я так и увидел эту удобную маленькую вещь.
- …засыпая, я вижу вновь, что балконная дверь чуть приоткрыта.
– Хотите новый утюг?
Костенурка улыбнулась.
– Ой, у вас день рождения? – догадалась студентка. И радостно затараторила, раскладывая на столике свои билеты: – Купите бабушке штук десять билетов. – Понятно, она обращалась ко мне. – Когда билет не один, какой-нибудь обязательно выиграет!
Она осуждала костенурку.
Вида, конечно, не подавала, но осуждала.
Зачем такой богатой старой бабке утюг? – думала она. – К ней, наверное, приходят девчонки из соцслужб. По-настоящему ничего, конечно, не выгладят, но ведь она, наверное, и платит немного. Раскольникову утюг был нужнее, вспомнила студентка. Или топор? – засомневалась она. На лекциях об этом что-то упоминали. А бабке-то утюг зачем? Гладить желтые кружевные ночнушки? Ну, ладно, сама решит, – великодушно решила студентка. У стариков все – как в последний раз.
– Крайний справа, – указал я.
Студентка получила свои маленькие деньги, но не отошла от столика.
Она хотела увидеть, как бабка вскроет билетик и увидит, что ни хрена ей не досталось. Хватит с нее! Сколько можно? У нее же квартира в Нью-Йорке! Студентка внимательно следила за тонкими пальцами Конкордии Аристарховны, но костенурка не торопилась.
– Вы не будете вскрывать билетик?
– Зачем? – вмешался я. – Там выигрыш. Электрический утюг.
– Да ну! – не поверила студентка. – Как вы можете знать такое?
– Вы забыли? Я обещал электрический утюг Конкордии Аристарховне.
– Конкордии Аристарховне? Ой, какое имя! Это же так революционный броненосец назывался!
Костенурка замерла.
Такого она еще не слышала.
Студентка так откровенно хотела порадоваться предполагаемому ее пролету, что Конкордия Аристарховна улыбнулась и острым лиловым ноготком нежно сняла фольгу. Студентка, конечно, обрадовалась ее неожиданному выигрышу, но как-то фальшиво. И я сразу увидел все ее возможное будущее. Красота ведь не каждого спасет. Беременность на третьем курсе… брошенная учеба… самка гиббона, самец гиббона… двое в одной клетке… Конечно, беременности можно было избежать, но для этого надо не билетиками спринт-лотереи торговать, а иметь надежного богатого друга. А таких нынче мало. Костенурка, несомненно, прониклась внезапным корпоративным сочувствием к студентке.
- …в нашей юной стране был каждый счастлив вдвойне.
– Пока выбьешься в люди, локти искусаешь, правда?
– Ага, – подтвердила студентка. – Свои. Чужие не даются.
– Ну, что вы медлите? – посмотрела на меня костенурка. – Раз уж вы так настроены, сделайте подарок девушке.
– Ага! Сделайте! – подтвердила студентка.
Конечно, она не верила нам, но почему этим жалким старикам не подыграть?
- Ах, Рио-Рита!
Старики любят врать.
Так девушка думала про нас.
- …в нашей юной стране был каждый счастлив вдвойне.
При этом студентка все равно надеялась на какое-нибудь, ну, даже на маленькое чудо, хотя прекрасно понимала, что второй раз подряд электрический утюг вряд ли выпадет. Да и зачем ей утюг? В общаге такая штука всегда найдется. В юной голове, украшенной красивыми веселыми прядями, металось множество пестрых красивых мыслей. Старики врут, они постоянно врут, делать им нечего, но может иногда… Это все, конечно, ерунда, болтовня, старческий бред, старики только и делают, что чешут зубы, но вдруг хорошие туфельки? А? По-настоящему хорошенькие, на стипендию такие не купишь. Впрочем, какие туфельки в спринт-лотерее? Бонус бы… Тысяч на двадцать… В отдел дамского белья… Студентка мысленно представила несколько изящных, почти невесомых вещиц, дура, она еще не понимала, что, получив такой подарок, залетит уже на втором курсе. Но чудесные видения так и метались в ее веселом, взбудораженном мечтаниями мозгу. Торт, например. Она явственно видела гигантский торт на углу в кондитерской – килограммов на десять! Угарный торт! Половину общаги накормить можно.
Или квартира в Москве.
Она даже испугалась. У меня бак потек.
Я посмотрел на студентку. Потом на лотерейные билеты.
Она их жадно перемешала. Пальцы у нее были красивые, не хуже, чем у костенурки, только молоденькие и длинные, и на одном царапинка, тоже красивая. А вот маникюр на мизинце начал расслаиваться. Не то качество. Билеты, лежавшие на столике, все были пустые, кроме одного, невзрачного и помятого, лежащего с краю. Его уже не раз отталкивали – именно из-за помятости.
Квартира в Москве…
Может, она и не поедет в Москву…
Но какие перспективы, черт меня побери!
Я уплатил, и пододвинул мятый билет по столику к студентке.
– А почему этот?
– Потому что он с выигрышем.
– Ой, а мне его надо здесь открыть?
– Не обязательно, – засмеялся я. – Откройте дома.
«Ой, а вдруг там денежный приз! Вдруг там пять тысяч рублей?» – мелькнуло в маленькой голове. Конечно, она ничему такому не верила. Но гуси уже вовсю кричали в ее красивой головке. Она удалялась, презрительно покачивая удлиненными бедрами, показывая нежную полосочку голого незагорелого чудесного тела между низким поясом джинсов и светлой кофточкой.
– Она выиграет?
Я кивнул. Конечно.
– А пойдет это ей на пользу?
– А вот чего не знаю, того не знаю.
4.
– Тогда я тоже сделаю вам подарок.
– А что вы можете мне подарить? – удивился я.
Я читал ее мысли. Она была уверена, что знает. Я сразу поскучнел. Они все меня достали. Одна якобы знала, как меня зовут, другая знала, где моя тетрадь, третья догадывалась, как мне следует жить.
Один я ничего не знал.
- Ах, Рио-Рита!
Чтобы не сойти с ума, следует умерять желания.
Я помахал рукой, чтобы официантка принесла еще чашку кофе.
Костенурка с любопытством рассматривала меня. Как редкую экзотическую бациллу. Не знаю, насколько опасную, но взгляд ее был сосредоточен. Все ее бывшие эсэсовские полковники, фашистские советники, красные комсомольцы и нью-йоркские дизайнеры оценивали сейчас меня.
- …выхожу один я из барака, светит месяц, желтый,
- как собака,
- и стоит меж фонарей и звезд башня белая – дежурный пост.
Оранжевый цвет любил Последний атлант. Ему одному я привык верить. В отличие даже от главврача, вытащившего меня из могилы, даже от Коры, даже от капитана милиции Жени Кутасовой, Последний атлант никогда не сожалел о моей потерявшейся тетради.
- …в небе – адмиральская минута, и ко мне из тверди огневой
- выплывает, улыбаясь смутно, мой товарищ, давний спутник
- мой.
Последнему атланту нравились такие аллюзии. Он всегда мог представить себя кем угодно, пусть даже лагерником. Полет фантазии ему не мешал. В отличие от доктора Григория Лейбовича, он действительно знал, что когда-то на Земле существовала другая цивилизация.
- …он профессор города Берлина, водовоз, бездарный дровосек,
- странноватый, слеповатый, длинный, очень мне понятный
- человек.
Никто, кроме Последнего атланта, не хотел мне простить того, что я однажды возник ниоткуда. Так сказать, спустился с небес. Подразумевалось, наверное, что если бы меня скачали из Интернета, черт побери, то на хард-диске должен был остаться хоть какой-то след.
- …в нем таится, будто бы в копилке, все, что мир увидел
- на веку.
- И читает он Марии Рильке инеем поросшую строку.
- Поднимая палец свой зеленый заскорузлый, – в горе и нужде,
- «Und Eone redet mit Eone», – говорит Полярной он звезде.
Доисторическая леди не спускала с меня внимательных понимающих глаз.
- …что могу товарищу ответить я, делящий с ним огонь
- и тьму?
- Мне ведь тоже светят звезды эти из стихов, неведомых ему.
- Там, где нет ни время, ни предела, ни существований, ни
- смертей,
- мертвых звезд рассеянное тело – вот итог судьбы твоей,
- моей.
Костенурка печально наклонила голову.
- …светлая, широкая дорога – путь, который каждому
- открыт.
- Что мы ждем? Пустыня внемлет Богу и звезда с звездою
- говорит.
Я вдруг пожалел, что вышел из дома. Так получается, что куда я ни приду, количество загадок множится.
– Вы много читаете?
– Да нет, наверное, – ответил я.
– А что читали самое последнее?
– Да так… «Триста актов»…
– Мне следует покраснеть?
– Да нет. Бухучет всего лишь.
– Может, для ваших дурацких игр большего и не надо?
Я не протестовал. Умная доисторическая леди. Прожила интересную жизнь. Все помнит, а у меня – и прошлого нет, и будущее аморфно.
– У меня когда-то был брат, – негромко произнесла Конкордия Аристарховна.
Я даже оглянулся. С таким, как у нее, лицом спросишь на рынке табуретку, так еще и бонус всучат – намыленную веревку.
– Брат спас меня…
Я кивнул. Я слушал.
– Мой брат был майором НКВД…
Костенурка внимательно следила за моим лицом.
– Однажды он не вышел на службу. Это уже в конце тридцатых. Был у него любимый зеленый чемоданчик – для командировок. При обыске тот чемоданчик не нашли, но на письменном столе под мраморным пресс-папье лежала записка: «Ухожу из жизни». Странно, да? Уйти из жизни с зеленым фибровым чемоданчиком. Через много лет я нашла записку брата в одном закрытом партийном архиве. «Не считаясь с жертвами, нанесите полный оперативный удар по местным кадрам, – цитировал он поразившее его указание шефа. – Да, могут быть случайности. Но лес рубят – щепки летят». Мой брат не хотел принимать тезис о летящих щепках. Он не был пай-мальчиком, но указания наркома его ошеломили. Он не хотел, не нашел в себе сил считать, что эффективность работы преуспевающего чекиста подчеркивается именно количеством арестов. А те слова «железного наркома» много раз цитировались. Вы, наверное, уже поняли, мой брат был выдвиженцем Ежова. Когда Николая Ивановича выдворили из НКВД и перекинули в наркомат связи, брат понял опасность и отправил меня на Западную Украину.
– И этим спас?
Она неопределенно вздохнула.
– Ладно. Рассказывайте. Как ваш брат?
– Конечно, записке не поверили. Ориентировка на брата попала на все пограничные пункты. Установили слежку за близкими и дальними родственниками. Убегать от смерти никому не возбраняется, правда? – она улыбнулась. – Но куда и как можно бежать от верной смерти?
– Может, в сторону верной любовницы?
Конкордия Аристарховна улыбнулась:
– Сразу видно, вы привыкли играть?
Я притворился непонимающим. Она напомнила:
– А эта ваша игра. «Нет плохих вестей из Сиккима».
И вдруг спросила. Странно спросила:
– Ваши герои, они дойдут до Шамбалы?
– Не знаю. Должны. В каком-то смысле.
– Вы же автор!
– Дизайнеры и разработчики тоже влияют на тактику.
– Да ну, – не поверила она. – «Разработчики»… Жрут водку, не читают книг, китайцы и шерпы для них одинаково желтые. Вы что это, всерьез? Когда это пьяницы указывали нам путь в страну счастливых?
– Даже банда уголовников может построить коммунизм, если им хорошо платить.
– Это вы сами придумали?
– Да нет, прочитал где-то.
– Но почему Сикким? Почему?
– Да просто захотелось закольцевать один известный сюжет.
– Какой именно? – заинтересовалась костенурка.
– «One Hand Clapping».
– «Одинокий аплодисмент»?
– Да. Я о романе Берджеса. Англия пятидесятых. Но это не важно. Игра всегда условна. Мне хотелось чего-то близкого к реальности, понятное людям понимающим, чувствующим. Молодой Говард торгует подержанными автомобилями. Тут можно эффектно показать гонки на старых тачках, – машинально отметил я. – А жена Говарда по имени Джанет работает в продуктовом магазине. После многих не очень удачных попыток прочно встать на ноги Говард задумывается о бессмысленности своего существования.
– Вы это серьезно? Разве компьютерные игры такое передают?
– Хочу попробовать.
– А-а-а…
– Этот Говард отличался фотографической памятью. Эта особенность однажды помогла ему выиграть в фотовикторине десять тысяч фунтов. Как вам такой расклад? Это не какой-то там электрический утюг, – мягко уколол я костенурку. – Делая удачные ставки на скачках, Говард увеличил выигрыш до восьмидесяти тысяч, и теперь в его голове созрела мысль: взять от жизни все, что можно купить за деньги, а затем вместе с Джанет покончить с жизнью.
Костенурка вежливо поджала губы.
Наверное, не любила намеков на конечность жизни.
– Для полноты ощущений Говард заказал одному своему знакомому поэту стихи, в которых была бы отражена его пессимистическая философия, и отправился с Джанет в кругосветное путешествие. А по возвращению раскрыл жене свой замысел. Но Джанет, полюбившая мир, который вдруг оказался таким большим и разнообразным, уже не хотела участвовать в подобном социальном протесте. Защищаясь… Да, защищаясь, она убила супруга… утюгом…
– Чувствуется перекличка с одним известным русским писателем…
– Потом, спрятав труп мужа в сундук, Дженет ответила на нежные чувства некоего поэта, ранее скрываемые им, и начала жизнь с новоиспеченным супругом. Однако поэт, давно отравленный пессимистической философией Говарда, скоро сам начал поговаривать о тщете сущего…
– И Джанет опять взялась за утюг?
Мы рассмеялись. Костенурка подвинула ко мне конверт.
– Это мне? Что там? Неужели фотографии Шамбалы?
На этот раз доисторическая леди не улыбнулась.
– Неважно. Вам понравится.
– Но сегодня у вас день рождения.
– Это неважно. Я хочу напомнить вам…
– О чем?
– Об истории.
– Мои интересы лежат в стороне.
– А что вы помните о своих интересах?
– Я не о науке. Ею пусть занимаются Ойлэ и Паша.
– Пустышки, – вежливо заметила костенурка.
– Мои друзья, – вежливо напомнил я.
– Они не учитывают закон октав.
– А я учитываю?
– Конечно.
– С чего вы такое взяли?
Она рассеяно провела пальцем по краю кофейной чашки:
– Тот карлик… Помните, вы рассказывали… Он постоянно болел… Мне интересно, доберется он до Шамбалы? Удастся ему спрыгнуть с колеса?
Я покачал головой.
– Он умрет. На соляной плите, брошенной на могилу, красноармейцы высекут семь слов: «Я же говорил вам, что я болею».
Конкордия Аристарховна покачала головой:
– Впечатляет. Но интересоваться надо историей, а не анекдотами.
– А я всегда считал, что история – это один сплошной томик анекдотов?
– О нет! – она положила на стол узкие руки. – О, нет, Сергей Александрович. Текущая история – это коллективное восприятие тех или иных концепций. Слышали о таком? Как текущие события будут поданы в учебниках, в популярных книгах, даже в детективных романах или в ваших дурацких компьютерных играх, так историю и будут воспринимать. При любой власти существует кучка преданных, на все готовых специалистов. Они умеют работать. Они кропотливы, как вы. Ничего не помнят, ничего не понимают, но активно формируют учебники, то есть формируют коллективное восприятие. Франко и Сталин, Гитлер и Рузвельт, Путин и Буш, для них нет никакой разницы. Они могут любого деятеля подать как национального героя или международного негодяя. И все-таки, Сергей Александрович, история реальна. Как красиво ни подавай пресловутую альтернативу, истинная история вылезет наружу. По крайней мере, пока существуют такие неудобные люди, как я, – печально улыбнулась она. – Меня не спрятать. Я вылезу из любого мешка. Я ни на кого не похожа, потому что отчетливо помню разные детали прошлого. Возможно, в сплетнях и в пересказах я выгляжу смешной, но мое прошлое реально.
На этот раз я улыбнулся несколько натянуто.
Я читал мысли Конкордии Аристарховны, она их и не прятала.
Собственно, утром она действительно ждала меня. Не знала, приду ли, но ждала. У нее была причина ждать – конверт, лежащий сейчас передо мною. Как правило, по утрам ходят в дорогие кафе только бездельники. Она смотрела на меня без особой надежды. Наши подарки мало что означают, еще реже они помогают тем, кто их получает. Она не верила в будущее девушки, только что выигравшей квартиру в Москве, но какая разница? Она хотела понять, на что я способен. Она хотела разбудить меня, ткнуть носом, как щенка, в собственную лужу. Другое дело, что я все еще не понимал, где и как мог так сильно нагадить? Костенурка явно знала о многих моих прегрешениях, и досада боролась в ней с поистине дьявольским терпением.
– Что в этом пакете?
– А вы посмотрите.
И улыбнулась:
– Я знаю, вам не нравятся намеки на ваше прошлое. Но тут ничего не сделаешь. Надо терпеть. В Нью-Йорке у меня есть приятельница – такая же старая черепаха, как я. Она не любит покупать старые вещи. И знаете, почему? Ее раздражает все, что появилось на свет задолго до нее.
Я не стал уточнять, о ком она говорит.
Сотрудники НКВД, модные дизайнеры, итальянские фашисты, эсэсовские полковники, комсомольцы с Западной Украины – центр мира все равно занимала Конкордия Аристарховна. Расслаивающееся время. Она вдруг заговорила. Брат у нее был! Нет у нее никаких претензий ни к бывшим мужьям, ни к любовникам, судьба всех рассудила. А вот брат… Когда стали брать ставленников «железного наркома», он не захотел ждать… Польская граница, румынская…
Но ведь он не дурак. Он мог бежать на восток, правда?
Костенурка не спускала с меня мутноватых, когда-то зеленых глаз.
Попробуйте перезапуститься. Тонкие морщинки густо иссекали мраморную шею чудесной доисторической леди. Попробуйте перезапуститься. Пусть мой брат доберется до какого-нибудь сибирского поселка. Пусть он уйдет в сторону Алтая и Монголии. А? Что тут такого? Что вам стоит?
- …я был знаком с берлинским палачом, владевшим топором
- и гильотиной.
- Он был высокий, добродушный, длинный, любил детей, но
- выглядел сычом.
Это тоже из оранжевой книги, подаренной мне Последним атлантом.
Не думаю, что брат Конкордии Аристарховны сильно походил на палача… но все же сотрудник НКВД. Правда, они тоже разные были. С другой стороны, брат Конкордии Аристарховны дослужился до майорского звания.
- …я знал врача, он был архиерей, я боксом занимался с езуитом.
- Жил с моряком, не видевшим морей, а с физиком едва не стал
- спиритом.
Может, брат Конкордии Аристарховны был не самым плохим сотрудником НКВД, но при чем здесь я? Ежова ведь расстреливали его же ставленники.
- …была в меня когда-то влюблена красавица – лишь
- на обертке мыла
- живут такие девушки, – она любовника в кровати задушила.
Да нет, никаких намеков. Не подумайте, ничего такого. Братьев полагается любить. Все у нее складывалось. Вкусный кофе… Вот девушке-студентке сделали приятный подарок. Она еще немного поговорит и отправится пить чай со своими любимыми покойниками.
– …однажды я видела Ежова.
Жизнь баловала доисторическую леди.
Она встречалась с дуче, фюрер давал разрешение на ее брак с полковником СС.
А еще она, оказывается, видела наркома Ежова. Понятно, до тех печальных событий.
– Я виделась с ним в Москве, – уточнила она. – Он пригласил моего брата, и разрешил мне придти с ним. Николай Иванович был маленького роста, брат старался не стоять рядом с ним. Дешевый костюм, синяя сатиновая косоворотка. Это меня поразило. Правда, перед этим я видела Николая Ивановича в мундире генерального комиссара госбезопасности, а там золотая звезда на красной петлице. Это же маршал. И еще. Николай Иванович любил петь. У него оказался чудесный баритон – не очень сильный, но верный. Правда, пил он гораздо больше, чем пел. Мой брат рядом с ним выглядел франтом. Воротник и обшлага гимнастерки обшиты малиновым кантом, френч из настоящей шерстяной ткани, нагрудные карманы и шесть пуговиц-застежек.
- …но как-то в дни молчанья моего над озером угрюмым
- и скалистым
- я повстречал чекиста. Про него мне нечего сказать – он был
- чекистом.
– Принесите коньяк.
– Как обычно? – спросила официантка.
Я никогда не заказывал у нее коньяк утром, но кивнул: «Как обычно».
Мне требовался полный апгрейд. Костенурка это поняла и откинулась в своем удобном кресле. Быстрым движением она коснулась пуговичек на кофточке. Самыми кончиками длинных пальчиков – весело и легкомысленно (как делала, наверное, и пятьдесят лет назад). Конечно, кофточка разошлась. На шее, на фоне чудесных, густо переплетающихся морщинок (ничего с этим не поделаешь) я увидел потемневшее серебряное ожерелье с подвеской из трех сплющенных пуль. Калибр 6,35. Подойдут к «Вальтеру» и к «Браунингу».
- …засыпая, я вижу вновь,
- что балконная дверь чуть приоткрыта,
- и кисейную тюль в окно, где пыльный июль,
- выдувает капризный сквозняк…
Я молчал.
- Ах, Рио-Рита!
– Возьмите конверт. В нем листы, выдранные из вашей тетради.
– Те самые? Но как? Почему они у вас?
Она внимательно, без улыбки, посмотрела на меня:
– Прошлой ночью я сказала вам, что мы больше не встретимся.
Я непонимающе смотрел на нее.
Она негромко рассмеялась:
– У меня не получилось.
И произнесла:
– Я – Кора.
Отступление
Апрель 1939: золотой фазан
(листы, выдранные из тетради)
* * *
- Сегодня, милая Альвина…
Майор Каганов не торопил события.
Он ждал телефонного звонка. Умение ждать – чувство профессиональное.
Ненавижу философов! Майор молча смотрел на профессора Одинца-Левкина. Говорят, раньше он носил семь длинных волос под шапочкой и каждый месяц менял кольцо на указательном пальце. Ну да, астральное влияние. Он и на вопрос о социальном происхождении ответил, что «происходит от Адама». На измождено-наглом лице огромные жемчужные пустые глаза. Как две склянки эфира. К черту философов! Они только объясняют мир, а мы хотим его изменить.
- Ах, Рио-Рита!..
Кирпичные стены, мутные стекла, такие толстые, что железные решетки можно не ставить. Не должны решетки смущать прохожих. А музыке не укажешь. И вообще, зачем жалеть время, если оно в любой момент может кончиться? Оно как кровь. Майор Каганов ждал звонка. Чем скорей позвонят, тем проще будет принять решение. На самом деле профессору Одинцу-Левкину в голову не приходит, как сильно его жизнь сейчас зависит от некоего короткого телефонного звонка. Даже не стоит начинать игру с археометром. Заманчиво, но не стоит. Четкий круг вписан в пересекающиеся треугольники. Двенадцать окрашенных в разные цвета вершин образовывают еще один круг. Планетарные символы, музыкальные ноты, еще один круг, разбитый на двенадцать секторов по числу зодиакальных домов, обозначенных отдельными цветными щитами. Причудливые буквы ваттанского алфавита, а рядом буквенные эквиваленты на ассирийском, халдейском, самаритянском, латинском языках. Наверное, профессор ответил бы на любые вопросы, касающиеся будущего, но это же слабость – спрашивать о своем личном будущем. Не стоит перегружать сознание. Поскользнуться легче всего на пустяке, на арбузной корке, на выброшенных во двор картофельных очистках. Отправлюсь ли я в каменистую пустыню или поставят меня к стенке – как ни странно, ответы сейчас зависят исключительно от ожидаемого телефонного звонка. Нашим юристам стоило бы обдумать новую статью, подумал майор. Такую статью, которая не оставляла бы никаких лазеек врагам народа. Пятьдесят восьмая – она, конечно, достаточно емкая, и все же не охватывает всего многообразия вражеских уловок…
Майор с интересом следил за профессором.
В исключительных (необходимых) случаях виновным следует считать любого, кто хотя бы раз в жизни держал в руках сумму, превышающую некую, заранее определенную законом. Возраст и пол не должны иметь значения. Окончательный итог важнее частных ошибок. Начнут возникать проблемы у лиц, постоянно имеющих дело с большими суммами? Конечно. Но решение напрашивается. Всех кассиров следует объявить спецами, защищенными законом. Их можно одеть в специальную форму, поставить под постоянный контроль, обязать ежедневно отчитываться перед коллективом.
Мы будем есть паштет из дичи и пить французское клико.
Да, именно так! Мы! Будущее за коллективом. Это нужно разъяснять всем.
Ученый профессор, вечно колеблющийся, но ищущий и находящий опору в умном и дружелюбном сотруднике НКВД, – разве не к этому мы должны стремиться? Живой организм здоров и весел, когда охотно откликается на команду «смирно». В этом смысле профессор Одинец-Левкин, конечно, соцвред. Нужно подержать его в боксе, пусть подышит гнилой пылью, мертвой тишиной. Он привык к ветрам и к простору пустынь, гор, степей, пусть вдохнет ужас замкнутого пространства.
А из бокса его доставят кабинет.
«Раздевайтесь!»
«Совсем раздеться?»
Они всегда так спрашивают.
Удивительно, они всегда так спрашивают.
Сержант Дронов только пожимает плечами: конечно, совсем.