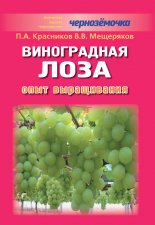Русский струльдбруг (сборник) Прашкевич Геннадий

Честно говоря, раньше и не думал о том, водятся ли в Сибири домовые. Они, в сущности, как русские старички – русый волос в скобку, тельце в пушку. Но в снегах дикуют. Увидят кого, любопытствуют: «Ты пришел?»
Ответишь: «Ну, я».
«Что видел?» – спросят.
«Ну, многое видел».
«Что слышал?»
«Тоже многое».
Тогда садись, чай пей.
И вообще, что нам домовой, если только и делаем, что бегаем от посланного на нас военного немца? Летом на самом быстром месте реки, где вход сразу в три стремительные протоки, немец специально выставил заметный шест с веткой на верхушке, отклоненной в одну сторону. Как бы особенный указатель – куда плыть. Поймал Семейкиных лазутчиков, выглядывавших путь, все у них выведал и тут же повесил.
А указатель с быстрого места не убрал.
Семейка больше не сомневался: свои указывают.
К счастью, первой пошла лодка всего с двумя гребцами.
Пронесло ее под каменистыми утесами, потом лихо развернуло и стало бить о заднюю сторону тех же самых утесов – разворачивающимся, пенным, кипящим, как в котле, течением.
В другой раз вышли к опасному перекату.
В таких местах кормщик вообще, не отрываясь, должен глядеть на стрежень.
Как начнет река цвет менять, как пойдет выкидываться длинными серыми струями, так нужно править в сторону, где пена темней. Кто ж знал, что хитрый немец выставит на скалу голую дикующую девку? Развеселили ее белым винцом и вытолкали на скалу: вот спляши для вора!
Хорошо, Семейка успел дать кормщику по голове, чем привел в чувство.
Все лето военный немец грамотно гонял воров по сендухе. Уходили от него и сушей, и водой, но немец затевал все новые хитрости. Один раз по неизвестному волоку перетащил лодки и незаметно вышел Семейке в тыл. Ударила пушка – ядро страшно сдавило воздух. В другой раз едва ушли с зеленого островка, на котором неудачно решили отсидеться. Если по-русски, то и отсиделись бы. Слали бы вестников друг к другу, переругивались, переманивали людей. А немец – нет! Немец не хотел терять времени. Все три его пушки враз ударили по острову, калеча редкие деревца, которым еще расти и расти.
Какой тут домовой? Какой валенок?
Не присядешь, не отдохнешь, того смотри, набегут стрельцы!
Это только по словам глупого дьяка Якуньки получалось, что военный немец преследует якобы не воров, а его лично – казенного дьяка, за то, что тот спер у немца нож. «Вот утони я, – хвалился наглый Якунька, – немец и остановился бы. А так не отстанет. Ни за что. Зиму пересидит в острожке, а летом все одно – догонит».
«Так может, тебя утопить?!
«Ты что! Ты что!»
Летом было, отбивались в устье реки.
Снизу и сверху выскочили лодки. На них – стрельцы.
Одноногий немец многому научил стрельцов. Будто всю жизнь так делали – лезли на борт злые, ножи в зубах, дым от пистолей. Запах крови и страха прогнал с берегов птиц, рыбы ушли. Часть царских холопов сбросили в воду, пусть придут в чувство в ледяной воде, другую часть оттолкнули в лодках шестами. Немец на одной ноге стоял на борту своего севшего на мель коча (тем и спаслись), кричал обидное.
Семейка довольно морщил побитое оспой лицо. Не в последний раз! Еще вмажем! Пусть мы тут в комарах, в тусклой сендухе, зато все в соболях, а молодой царь по палатам ходит в худом борошнишке. Ишь, военного немца на нас послал! А может, уже и нет настоящего царя. Поговаривают, что подменили настоящего царя в Голландии. Вместе с глиняной трубкой. Теперь Россию, как кочергой, со всех сторон шурудит одноногий немец – черт! ада подкидыш! Твердо решил Семейка: оживем к весне, обманным путем подпалим все немецкое стойбище. Чтоб ни один стрелец не ушел.
В который раз вспомнил про Алевайку.
Оставил чудесную девку другу приказчику.
Слезно просил, прощаясь: «Храни девку! Я у тебя припас беру, пищаль, зелье пороховое, а ты, ладно, пользуйся девкой, пока нет меня. Девки без внимания портятся. Оставляю трехсвечник с зеркальцем, пусть смотрится. Обману немца, побью его – вернусь».
Думал, так и будет, только одноногий переиначил.
Войдя в острог, беспощадно сжег избы установленных розыском воров, разметал их строения. Друга приказчика – за тесную дружбу с ворами – повесил на невысокой ондуше. На ней шишечки, как узелки, много навязано. А девку Алевайку, лицо лунное, рогатые брови, возит при себе как приманку.
Когда-то родилась Алевайка от веселого удинского казака.
Потом казака зарезали дикие шоромбойские мужики, а мать дикующая умерла.
Получились у Алевайки длинные глаза и лицо тугое, как гриб – земная губа. Совсем молодой приютил у себя девку Семейка. Вырастил. Дышит туманно и совсем никого нигде не боится.
В этом даже немец убедился.
Однажды рассказал ей про голову человека, поднесенную одной царевне на блюде, так Алевайка весело оживилась, подвигала рогатыми бровями: «Такое хочу».
«Да зачем тебе?»
Пожаловалась: «Семейка меня оставил одному приказчику».
«Так я ж повесил приказчика».
«Теперь Семейку хочу».
Когда казенный дьяк передал это Семейке, тот губы сжал плотно.
Господь знает, что кому подсказать. Конечно, нехорошо: у немца одна нога, а живет с чужой девкой, нас называет ворами, гоняется с пушками. А все потому, что в Разбойном приказе жестокий князь-кесарь настрого приказал нанятому за деньги немцу сыскать того Сеньку – сибирского вора и разбойника. Захватил нечестивец многие сумы медвежьи с мяхкой рухлядью, считай, вся прибыль ясачная ушла меж пальцев. Без всякого снисхождения приказал князь-кесарь повесить прямо при дороге.
В длинных низких переходах Разбойного приказа коптили свечи.
Скрипели перьями сумрачные дьяки и приказные, боялись, что их тоже пошлют в Сибирь. Пройдет азиат в халате, проскрипит за окном обоз с пропалой рыбой. По стене зеленые пятна – плесень, с улицы – блеянье, мык. Под такой шум князь-кесарь Федор Юрьевич приказал привезти вора Сеньку в Москву в железной клетке, чтобы показать всему народу.
А с чего началось воровство?
У казенных анбаров в Якуцке стоял в карауле служилый человек по фамилии Семейка Козел. С ним был Лазарь, этот вообще без фамилии. Отошел Лазарь в сторону, а тут посыльный от воеводы. Потребовал выдать у караульного Козла припас для какого-то залетного гостиного гостя. «Давай ключи!» Торопятся. Чуть не в драку. Казаки два года ничего не видели, а этому – сразу!
Идти за ключами Семейка отказался.
Гостиный гость вызвал своих людей, пригрозил именем стольника и воеводы Пушкина Василия Никитича, а Семейка все равно отказался. «Вот не пущу к анбарам, – сказал, – никого не пущу, пока нам, служилым, не выплатят содержание! И хлебное, и соляное, и денежное». Самого воеводу, явившегося на шум, ухватил за груди, отпихнул прочь.
Конечно, набежали воеводские люди.
Отбившись обухом, Семейка снова схватил стольника и воеводу за груди, поволок из сеней на крыльцо. А там уже десятники, промышленники, гостиной сотни люди. «Не дадим себя больше бить! Уйдем, – закричал Семейка, – в сендуху!» Прямо в лицо обомлевшему воеводе крикнул: «До смерти тебя, может, не убьем, но длинные руки пообломаем!»
Взяли припас и три коча.
Хорошие кочи. Проверенные.
В каждый погрузилось почти по двадцать человек.
Днища округлые, не страшно войти и в льды – выдавит наружу, как яйцо.
На палубах – кочка, специальный ворот, с помощью которого снимают судно с мели. Канаты – ноги – от борта до высоких мачт. Уже через три дня, спускаясь по реке, разгромили встречных воеводских людей. Еще через три месяца – у богатого промышленника Язева, возвращавшегося с Алдана, обобрали паруса и снасти. Младшему Язеву, схватившемуся за нож, сломали руку. А там добрались до ясачной рухляди. Много чего взяли за два года вольницы.
Если бы не немец…
Этот – прижал…
Глубокой осенью прошли старую Голыженскую протоку и остановились в глухом месте. Поставили четырнадцать изб и баню. Вместо стекол натягивали на крошечные окошечки налимью кожу, вместо дверных ручек привязывали ремешки. Умудрились вытащить судно на берег – почистили обросшее днище, залатали квадратный парус, сменили мачту. Приходили дикующие в меховых рубашках – омоки и одулы. Дивились. Кричали с того берега: «Нанкын толухтат!» («Теплого дня!») Их спрашивали: что у них есть такого особенного? Отвечали: ничего особенного, только горшки. Хвосты собольи замешиваем в глину, прочные получаются.
Вот дождемся весны, обойдем снегами городище немца, ударим первыми! Черного ефиопа, про которого, сторожась, рассказывал дьяк Якунька, пустим в прорубь, пусть налимы удивятся. Всех побьем, кого найдем в городище. Остальных простим. Среди снегов город поставим с веселыми заставами. Кругом весь в рогатинах и высоких сигнальных башнях, чтоб никакой немец не пришел. Сибирь велика. Сибирь богата. От рыбы кипит река, зверя много. Такой веселый построим вертоград, чтобы даже месяц в небе всегда будет без ущерба! Дикующих привлечем.
Якунька охотно подхватил:
– Ими торговать будем.
– Молчи, дурак! У немца научился?
– Да ты что? Ты что? – рвался Якунька. – Я просто по небогатому уму.
– Ты скажи, где немец ногу потерял?
– Говорит, ядром оторвало.
– А мне говорили, заспал в теплом зимовье, – не поверил Семейка. – Лежал пьяный на печке, а нога и выскользни в приоткрывшееся окошечко. Стоял мороз сильный. Далеко ли до греха. Вот и отморозил ногу, валяясь на горячей печи.
7.
В разгар самых лютых морозов перед острожком, занятом стрельцами, снова стали появляться дикующие. Совсем бесхитростные. Одно у них на уме: «Что видел? Что слышал?» Сильно дивились отпечатку деревянной ноги. Дивились, почему у рта мохнатые (так русских называли из-за бород) рубят избы, ведь удобнее ставить урасу. И ондушу – печальное дерево – зачем валят? Чтобы вырасти выше человека, ондуше много лет надо. Качали головами: избы все равно упадут. Лето придет, мерзлота ходить начнет, как болото, – упадут.
Бесхитростные, дивились.
И немец тоже дивился, привыкнуть не мог.
Считается, что приходишь в совсем новые места, что никто до тебя сюда не заглядывал, пустыня от края до края, а на третий день в особенно пустом месте нашли старое костровище. Промерзлые угольки, пенек рубленый. Дикующие подтвердили: одно время приходил тоже бородатый, мохнатый у рта, брал соболя. Взамен ничего не давал, только дрался. Пришлось зарезать.
Немец такое считал справедливым.
Девке Алевайке рассказал, как в южном море под звездами за такое вот («за казну королевскую») за борт бросил на веревке человека ногами вверх, чтобы захватывал жадным ртом воду. Спорили, сумеет ли ухватить хоть раз рыбу?
Алевайка широко раскрывала глаза.
Слушала немца, а обижалась на Семейку.
Мучил ее вопрос: сколько денежек взял за нее Семейка?
– Майн Гатт! У боцмана Плесси на плече обнаружили знак дьявольский. Алое кольцо и как бы черная роза с кровью. Спрашивали по-доброму: откуда знак? А он не знал. Ну, повесили.
Алевайка широко раскрывала глаза: страсть!
Ходила к дикующим. Те чувствовали родство. Протягивали руки.
И к немцу протягивали, чтобы убедиться, что он тоже человек. Вот идет, оставляет круглый след. На деревянной ноге нельзя ходить по снегу, а он идет, подпрыгивает, как птица или как шаман. Вот привел в сендуху стрельцов в шапках. Зачем? Сгинут. Дикующим в голову не могло придти, что потому и дали немцу стрельцов, чтобы не вернулись в Москву. Когда-то убежали с литовских рубежей, государь справедливо решил: зачем нам такие? Злые, ничему не верят. Но на дыбу в Разбойный приказ никак не хотят. Обещают: «Привезем вора Сеньку в клетке».
Морозы.
Немец томился.
Магнитная игла, как привязанная, указывала в сторону глухой протоки, занятой ворами – Семейкиными людьми.
И Аххарги-ю томился.
Сайклы резало от сияния чистых снегов.
Всего ничего – до этой проклятой Голыженской протоки, но не погонишь людей просто тычками. А сигналы сущности-лепсли именно оттуда шли. Девка Алевайка даже успокаивала. Вскормлена русской бабой, потому в сердце – жалость. Например, очень жалела повешенного: считала, что повесили не совсем по делу. Да и не успела вытрясти из него, что там взял за нее Семейка?
На самого Семейку тоже сердилась: вот оставлял ее приказчику только на год, а сам где? Всю ломало от любопытства: что за нее взял? Сильно бы обиделась, если б мало. От надоедливых мыслей ласкалась к немцу, как зверенок. Искала особенного взгляда, ждала весны. В нечаянном жесте, в словечке оброненном вдруг проскальзывало в военном немце что-то непостижимо знакомое. Так по сендухе идешь и видишь: все обычное – болотца, озерца. По бережкам травка растет – вышиной в четверть аршина, листы круглые, стебелек тонок. И вдруг – гриб особенный. Или звезда встанет так, что больно уколет сердце.
Прижимая руки к теплым грудям, прислушивалась к скрипу снега.
Думала (так сканировал сознание девки Аххарги-ю), что у рта мохнатые совсем как звери – охотятся друг на друга. Хотела немца и одновременно хотела, чтоб вернулся Семейка. Понимала, что так не бывает. Среди ночи проснется, а невидимый ефиоп посапывает в углу, как черный мальчик в тулупе. Темно, смутно. В сердце обида. Зачем такой большой мир? Откуда приходят и куда уходят у рта мохнатые? Отчего летучая мышь носится так, будто в том ее личная заслуга? Наконец, для чего ее, нежную Алевайку, одноногий гладит по черным прямым волосам, а государевых приказчиков берет да вешает?
Семейка на глухой протоке думал примерно так же.
Кругом страна такая, что со страху одного дня не проживешь.
Когда в страхе уходили от немца через горы, олешки на перевалах ломали ноги, падали в ледяные щели. За пазуху заткнув теплые рукавицы, Семейка горячо дышал на озябшие пальцы. Уйти от стрельцов, иначе всех перебьют. Морозный туман плыл над снегом. От мехов щеки горели. Дым костров, теплые звериные оболочки. А ночью из светящегося морозного тумана – взгляд. Странный, попробуй пойми. Будто из нежного кристаллического тумана в инее смотрит лицо – со всей полнотой власти и грозного величия.
Падал снег – пушистая вода.
Под ногами становился твердым.
Военный немец копытил ногой снег, пытался догнать казаков.
Семейку обещал лично ободрать кнутом, голого выставить на лед протоки, облить водой, чтобы красивая стеклянная статуя стояла недвижно до весны, утверждая безвыходность любого греха.
Правда, и Семейка не дурак.
В свою очередь обещал отстегнуть дерзкому немцу деревянную ногу и принародно сжечь на его же собственной спине. Ишь, явился бляжий сын, подкидыш ада, взгляд водянистый.
А Якунька нашептывал: немец не простой.
Сам де рассказывал по дороге в Москву, что не с одного вора кожу спустил.
Англичан якобы вешал на реях. Португальцев жег, заперев в трюме барка. Топил голландцев. Про испанцев – только рукой весело махал. «Майн Гатт! У марселей отдали по одному рифу, спустили стаксели, грот-тресель взяли на гитовы, ни один галеон не ушел». А теперь шел себе уже по Сибири – так и несло паленым. Сжигал всех, кого находили нужным. Иногда маленький ефиоп ласково спрашивал: «Абеа?» («Ну, как ты?») и мешал сабелькой угли под ногами привязанных к ондушкам людей.
Ада подкидыш.
Серой от него несло.
Конечно, Господь, создавая живое, заранее знал, кто кому пойдет в корм. Но ведь тоже – как? Немец, к примеру, летом поймал одного Семейкиного человечка, прочел ему невнятно что-то вслух по бумажке и привязал к сухому стволу над большим муравейником. Ну и пусть, ну и оставь, коль так дело решилось, не ставь свечей из человечьего жира, как в аду. А ефиоп нет, будто так надо, голыми розовыми ладошками рылся в муравейнике, сердил насекомых.
Аххарги-ю этому радовался: никакого разума!
Радовался, что скоро вытащит друга милого контробандера нКва с уединенного коричневого карлика. Знал теперь точно: разумное от неразумного если что и отделяет, то единственно чувство красоты – вне всяких инстинктов. Вот дикующие, например, любят одиночество. Для них простор всего дороже. Сендуха большая, уйдут за горизонт – забывают семью. Если потом встретят – начинают жить, как с новой. Олешки мекают, крутит пурга. Чучуна – совсем дикий человек – выскочит. Дикующий на корточках сидит у небольшого костра, в глазах туман. Говорит: «Вы, русские, как чайки на нашей реке. Вы никогда сытые не бываете».
«А вы государя совсем не кормите. Много государю задолжали».
«Где же нам столько взять? У нас бескормица».
«Ох, не сердите Господа!»
«А это кто?»
Немец указывал рукой в небо.
Дикующий поднимал взгляд, ничего не видел.
Чесал голову, круглую, как тундряная кочка: «Мы над таким не думаем».
Объяснял: «Наша еда вокруг сама на ногах ходит. Наша еда постепенно сама растет, пока мы спим». Вот и получается: как развить разум, если все силы уходят на преодоление холода? Как развить разум, если все силы уходят на преодоление голода, наводнений, обжигающих вихрей? Разбойник Семейка (сканировал Аххарги-ю) тоскует о веселом светлом вертограде. Чтобы все там жили, как в сказке, и березы были – золотые. У Семейки руки по локоть в крови, а он хочет ставить чистые избы, выписывать из России девок. Они ж там непостижимой красоты.
Не разум, нет. Не разум еще.
Так, химические помутнения сознания.
С некоторых пор Аххарги-ю отчетливо начал улавливать сигналы сущности-лепсли. Гибкое время сладостно изгибалось в предчувствии великих перемен. Симбионтов с Земли теперь будем вывозить целыми трибами! В неразумности своей красота иногда возникает даже от неосмысленных движений. Вон водоросли медлительно волнуются, они думают разве? Вон белка стрекочет на печальной, закрученной ветрами ондуше. Разве сердце у нее? Сложно перепутан живой мир, напитан темными инстинктами. В будущих вереницах веков, может, и блеснут какие частицы разума, но пока – суета, смута, простые химические затемнения.
Всех выставить на торги!
Семейку. И одноногого. И девку их.
Как особенно красивых и страшных зверей.
В сущности, неизвестно, что страшнее: лютый тигр, который совсем без разума, одни клыки, или такой вот слабый человек на морозе, размахивающий сабелькой, дающий полную волю темным инстинктам? Аххарги-ю сам видел, как пьяные стрельцы в острожке напоили казенного козла белым винцом. Тот побежал решительно – физически веселый козел, потом упал.
Какой в том разум?
8.
У печи девка угрелась.
Гибко тянулась к отставленной деревянной ноге: «Дай почищу».
«Не надо», – отталкивал немец.
«Я с тобой разговаривать боюсь», – жаловалась девка.
Аххарги-ю от таких противоречивых слов совсем сбивался.
Адаптор садился, зябко несло чужой информацией. Эфир забивало сигналами самых разных времен. Звон, треск, шипение.
«Если скучно стало вдруг, позвони скорее, друг. Приглашу тебя к себе, не забудешь обо мне».
И тут же: «22 года, рост 170, грудь 3. По знаку – Водолей, глаза серо-голубые, цвет волос русый».
Бесстыдно делились в лужах амебы, в океане самки трилобитов сбрасывали тугие панцири, может, для пущего удобства, дриоптек непристойно метался по зеленым веткам, обирал с ног клещей – все были счастливы без перерыва. Так что неправильно, совсем неправильно попал на уединенный коричневый карлик контрабандер нКва, друг милый. Никакого тут разума, на Земле. Аххарги-ю теперь жадно ловил сигналы сущности-лепсли. Сам бы двинул к той уединенной протоке, но ведь убьют ефиопа – все потеряешь. Красота, она, может, и спасет мир, но сугробы пока – в желтой человечьей моче, в мертвом ужасе.
9.
Ближе к весне Семейка выслал в сторону немца лазутчика.
Тот не вернулся, а беглый дьяк Якунька совсем утвердился во мнении, что сердитый немец идет отобрать у него нож.
Ломало льды, стреляли, кололись льдины.
Посланные вниз казаки Еким да Харя вернулись с рассказом о некоем новом острожке, поставленном в узкой части реки.
Оказывается, немец время зря не терял. Две пушечки, поставленные на яру, легко остановят любой коч, побьют борта ядрами. А берегом тот острожек никак не обойдешь. Сендуха гола, как ладонь, по ноздреватому весеннему снегу не пробежит даже олешек. Ближе к весне, кстати, и дикующие враз пропали, будто поняли, что опасно теперь ходить вблизи у рта мохнатых: наверное, драться будут. Однажды только встретили глупого тундряного старичка. Сидит на пеньке в кукашке. Как месяц за тучку забежит, так поднимает круглую голову: «Чего ты? Свети!»
А потом, уже по весенней разбухшей воде, принесло в протоку плот с мачтой в виде короткой виселицы, а к мачте привязан тот самый пропавший в сендухе лазутчик. Вид несчастный. Немножко жив, руки-ноги черные, отмороженные, только говорить не может: хитрый немец выведал у лазутчика все, в чем нуждался, а потом вырезал ему язык и домой отправил.
Пользуясь открытой водой, сделали вылазку на новый острожек, но немец не зря назывался военным. Стрельцы выпалили враз из трех пушечек. Еле отбились. А немец одного из пойманных в стычке опять допросил и опять привязал к плоту. На этот раз язык не стал вырывать – оставил, только предварительно выбил все зубы, чтобы зубами не мог развязать веревки.
А он развязал.
Разбойники потом содрогнулись.
Как он полз по плоту, как оставлял за собой след из нечистот.
Не жилец, это ясно, но успел шепнуть, что военный немец поклялся не уйти, пока не возьмет лагерь разбойников. Сложить оружие не просил, в этом не нуждался. Но обещал всех связать и в собственном коче пустить вдоль берегов вниз по течению. На корме зажгут смоляную бочку, чтобы дикующие видели коч издалека и слышали отчаянные стенания. Им полезно такое слышать. Черные птицы будут парить над суденышком, как хлопья пепла. Пусть дикующие поймут, что одни русские идут в сендуху от Бога, а другие от дьявола.
Семейка невольно задумывался.
Ну почему клад всегда уходит из рук?
Смутно вспоминал штормовую ночь в далеком детстве, когда старший брат, пропадая в тумане, под грохот обрушивающихся на берег морских валов таскал в уединенную пещеру немецкое подмоченное сукно штуками, серебряную посуду. А потом пропал. Не вернулся и через много лет. Младшего нашли живым среди многих штук дорогого сукна, среди серебряных кувшинов, а старший утонул, наверное.
Так рос. Становился на ноги. За участие в стрелецком бунте попал в Сибирь.
Да это и ладно. Чем дальше от молодого царя, тем лучше. Он только пьет кровь живую и лается. Бог чудовищ не наказывает, чего-то ждет. Терпелив или рук марать не хочет. Потому и бежал Семейка все дальше и дальше – к убегающему от него горизонту. Надеялся, что пока бегает, все бояре перегрызутся, а тут мы вернемся. А за нами – обозы с мяхкой рухлядью. Разве не простит государь?
Смотришь, еще поставлю свою деревеньку.
На Руси все возможно. Сам однажды под трухлявым пнем увидел крест из мха. Явственно указывал на богатство. Но только наклонился, как понесло низким влажным туманом. Щупает руками – а ничего нет. Валяется на земле только проеденный ржой чугунчик. И трава-прострел, от которой дух, как от падшего ангела.
Мне бы, мечтал, землицы.
И чтобы речка тихая.
10.
Военный немец тоже не дремал.
Все любят чудесные истории, думал.
Пришли русские в сендуху, дивят дикующих: вы тут жили веками, как дети, сильно задолжали государю. А сами ссорятся до смертоубийства, друг на друга пальцами указывают. Одного пойманного по весне разбойника немец специально посадил на железную чепь – чтобы говорить с ним обо всем этом. Но тот все больше молчал, мялся, маялся. Выкопал берлогу в снегу. Когда немец выходил во двор по малой или большой нужде, то непременно спрашивал хотя бы про погоду, но разбойник молчал, – даже про это не хотел говорить. Но потом, присмотревшись к деревянной, подпаленной снизу (в очаге угли мешал) ноге, ласково предложил:
«Выброси».
«Ногу-то? Зачем?»
«Я тебе новую сделаю».
Немец не согласился. Не поверил.
Снились странные сны. Был китом, например. Только плавал не в море-окияне, а между звезд, такой был кит огромный. Мокрые дышащие бока обжигало лучистым золотым теплом. А металлический голос звал сосать пространство, богатое какими-то сущностями…
Под самую весну посадил слева от себя Алевайку с рогатыми бровями, справа маленького черного ефиопа («Абеа?»). Собрал затомившихся стрельцов, напомнил строгий указ государев. Строго наказал искать по берегам всякое сухое дерево. Конечно, стрельцы переминались, как всегда, один ефиоп радовался неизвестно чему. Вскидывал в восторге маленькие руки с розовыми ладошками. «Абеа?» Сам в трех кафтанах – один поверх другого. Ноги укрывал заячьей полостью.
Договорились делать мелкие вылазки, а летом убить всех воров.
На зайчатине отъевшиеся стрельцы, изнемогая, ходили вокруг избы, как волки, принюхивались. Девку Алевайку немец теперь наружу не выпускал, тогда стрельцы стали сами входить в избу – как бы по делу. Вились вокруг девки, как мошкара, шептались. «Разбойников повяжем, в Якуцк вернемся… мяхкую рухлядь привезем… воевода все простит… Там в Якуцке девки… Всем не хватит, меняться не надо…»
В зеленом страшном небе сияла над рекой яростная звезда. Подмигивала, дрожала. Немец тяжело ступал деревянной ногой. Вот слышал, будто в одну русскую деревню сама собой приплыла по реке икона. В тяжелом окладе, в легком сиянии.
«Чтобы произвести хорошее впечатление…»
Неужто такая благостная деревня?
11.
Повяла первая трава, побитая заморозками.
Чудовищно нависал горизонт в ледяном тумане, в иголках инея.
Вода, заляпанная снежным салом, теперь текла совсем черная. Чувствовалась большая глубина. Черная птица металась. Семейка дивился страшной птичьей вольности. Тосковал: совсем, наверное, стер Алевайку немец. Обрадовался, когда привели лазутчика. Тот с разбитым лицом, как заяц, жевал губами – быстро-быстро. Ничего особенного не говорил, но по взгляду, в котором страха было меньше, чем ожидалось, чувствовалась, что знает что-то.
Пользуясь затишьем, когда все в природе замирает перед рассветом, Семейка на верховом олешке тайком обошел почти пустой острожек, в котором всего-то стрельцов осталось семь человек – остальных военный немец повел в поход куда-то на уединенную протоку.
«Стрельцы, брось оружие!»
Они тут же бросили, так боялись.
«Связать каждого!» Решил всех повесить.
Но, увидев милую сердцу Алевайку, заплакал.
«Бросьте их всех в пустой избе. Даст Бог, выживут».
Испуганную Алевайку гладил по голове. Налюбовавшись рогатыми бровями, спрятал девку в низкой каюте казенного коча, захваченного в острожке. К дверям приставил трезвого дьяка Якуньку, вооружив двумя испанскими пистолями. Тот жадно водил носом. «Вся кипящая похоть в лице ее зрилась… Как угль горящий, все оно краснело…»
На захваченном в острожке коче решил Семейка нагло и стремительно пройти узину реки. Проскочить прямо под пушечками проклятого немца, вырваться на простор, где только гуси да облака. Ранним часом вылетели из-за косы. Сами ударили из носовой пушечки, надеясь обрушить камни с утесов на лодочки стрельцов, поставленные за узиной. Но встали вдруг поперек реки два больших коча. С их бортов стрельцы грозили секирами.
Затрещали, как кости, весла.
С ревом прыгали на низкие палубы.
Рубились топорами, сабельками, секирами.
Там и там блестели выстрелы из пистолей, а один пушкарь развернул на носу медный василиск, чтобы жгучей картечью подмести сразу всю палубу. Выместь-то вымел, но вырвало из-под немца деревянную ногу.
Кто-то из стрельцов на лету перехватил страшную вещь.
«Держи, держи ногу! – кричал немец, валясь на палубу. – О, майн Гатт!»
Ругался чудовищно, ползал по окровавленной палубе: «Держи! Не бросай!»
Но стрелец, крестясь, выронил страшную вещь за борт.
Тотчас ударил снежный заряд. Понесло крупой, завертело воронки.
Большой коч, как проваливаясь, шумно повалился на борт. Посыпались в воду стрельцы, бросали сабли, ругались. С берега тонущих пытались достать шестами. То ли спасать хотели, то ли топить. Ничего не разберешь. А из укрепления саданула еще одна пушечка. Тоже картечью. Хотели для порядка просто пустить над головами плывущих, но вымели всех.
«Майн Гатт!» – ругался немец.
Понимал, что все вернут на том свете, но ругался.
Так, ругаясь, приказал бить из пушечек в снежную мглу по уносимому течением Семейкиному кочу, на котором и живых-то, считай, никого не осталось.
12.
Так выбросило на пустой остров.
По берегу совсем редкая лиственница – по пояс.
Семейка, хромая, как медведь, с ладони ел морошку, давал Алевайке, радующейся тишине после шумного немецкого острожка. С огорчением оборачивался на разбитый коч, выброшенный на камни. Почему не утонул в устье большой реки, почему дотянул до острова? – непонятно. В зеркальных льдинках, весело мерцающих у берега, не было ни мертвых людей, ни статков. Снял с судна весь припас, выкопал полуземлянку, знал, что придется зимовать на неизвестном острове. Жалел побитых людей, но ведь это как Бог даст. Нет нигде справедливости: здесь стрельцы мучили, на том свете черти набегут с вилами. Алевайке строго наказал: «Одни мы остались. Сиди, молчи. Дикующие придут, всех съедят», – чем нисколько ее не успокоил.
Ада подкидыш! – клял немца.
Утешался тем, что сам видел, как резко ударом вырвало из-под немца его деревянную ногу. И еще утешался: девка теперь с ним. Однажды, обходя ледяной остров, увидели с Алевайкой морских коров. Совсем непугливые, они подплывали к берегу, чесались жирными боками о камни. Неумными добрыми глазами, раздувая усы, смотрели сквозь стеклянную толщу на непонятных людей. Каждая корова была как большая лодка, массы столько, что убьешь – один на берег не вытащишь. Но как выманить?
Алевайка подсказала: вон мыс, на нем коровы спят.
Страшно было, а вдруг поползут навстречу – задавят ластами.
Но Алевайка не отступила. Показала, как подойти к толстым коровам.
Сердилась, все время спрашивала: «Вот что ты взял за меня с приказчика?»
Семейка тоже сердился: «Уймись. Припас взял, пищаль взял, зелье пороховое. Ты столько не стоишь!»
Пока убивал острым камнем молодую совсем глупую корову, другие только чесались, вздыхали, но даже не отползпли. Тоже дуры. Рядом глубокая вода, а они не отползали. Семейка даже смутился, в крови по локоть – бил камнем. Аххарги-ю, дымным облаком поднявшись над островом, дивился всеми своими вновь обретенными сущностями: вот каких чудесных симбионтов он на новую межзвездную ярмарку привезет!
Хорошо, Семейка о том не знал.