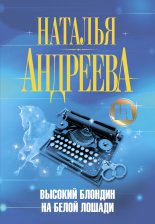Книга Фурмана. История одного присутствия. Часть III. Вниз по кроличьей норе Фурман Александр

В общем-то, происшедшее даже нельзя было назвать дракой – так, обычная уличная грубость. Но Фурман был ужасно возмущен: при нынешнем составе мордобитие случилось впервые, причем в абсолютно безобидной ситуации, и это, по его мнению, могло стать опасным прецедентом. Рамиль соглашался, что реакция Бордукова была неадекватно резкой, но главным для него было то, что Цитрон действительно уже достал всех своими «телячьими нежностями» – рано или поздно кто-то должен был поставить его на место. Зато теперь он будет вести себя более осмотрительно, так что в конечном итоге это даже может пойти ему на пользу. Фурман твердил, что бить больного человека по лицу недопустимо. Он предложил объявить Бордукову всеобщий бойкот – на неделю перестать с ним разговаривать. Рамиль был против: не нужно, мол, делать из мухи слона. Проведенные консультации показали, что несколько ребят готовы поддержать бойкот, а большинству просто на все наплевать. Когда Фурман попытался честно объясниться с Бордуковым наедине, тот в ответ только пожал плечами: меня все это не колышет, но передай этому придурку, что если он опять ко мне полезет, я его отметелю уже по-настоящему… Начатый бойкот, можно сказать, провалился – через пару дней все уже забыли о причине и воспринимали его как какую-то нелепую личную ссору двух достойных людей. Даже глупцу Цитрону пришлось напоминать о том, что все это было затеяно именно из-за него. Бордуков выглядел озабоченным, однако совсем по другой причине: просто у него начались какие-то шашни с медсестрой Иркой, его ровесницей.
Фурмана вся эта история очень задела, и он с горечью вынужден был признаться себе, что в его королевстве, как говорил старина Гамлет, «что-то подгнило»…
Возможно, определенную роль в этом играла стоявшая в Москве чудовищная, нескончаемая жара. Она делала жизнь отделения похожей на пионерский лагерь или дом отдыха. Эта грань совершенно стерлась, когда была организована общая поездка по каналу Москва – Волга с пикником в Бухте Радости. Оказаться всей толпой среди обычных людей, почти без «охраны», было очень странно. Видимо, в глубине души некоторые из пациентов все-таки считали себя крайне опасными для общества. А тут такое расстройство… Долгая поездка в метро до «Речного вокзала», потом на могучей «Ракете»; бутерброды на расстеленных газетах, лимонад, вареные яйца, помидоры; детсадовские игры, внезапно пронесшаяся гроза… Все утомились. По дороге обратно, уже в вагоне метро, Фурман с грустью подумал, что никто из пассажиров и не подозревает, куда возвращается эта шумная группа школьников с двумя на редкость спокойными учительницами. Ему даже захотелось шепнуть об этом кому-нибудь – что будет? Одинокие женщины расплачутся от жалости, мужчины разбегутся с недовольным видом, матери в испуге уведут своих детей… Ну да, жди, расплачутся они! На самом деле всем просто наплевать друг на друга. Из психбольницы? Ну и что? Не кусаются, и ладно… А может, нам противно вас, дураков, кусать?
В один из выходных мама мимоходом огорошила Фурмана, сообщив, что они купили новую квартиру и скоро переедут. Конечно, к школе он больше не был привязан, Боря приезжал с Камчатки только на каникулы, да и у самой мамы уже много лет были чрезвычайно плохие отношения с соседкой (время от времени между ними происходили грандиозные скандалы, а раз они даже начали кидаться друг в друга тапками) – но все равно это было неожиданно. Новая, отдельная, трехкомнатная… Интересно, откуда у родителей такие деньги? Выяснилось, что квартира кооперативная и за нее внесли только первый взнос, а остальное нужно будет выплачивать в течение 25 лет. И где же эта квартира находится? Далеко. А что будет с нашей? Две комнаты – детскую и родительскую – придется отдать, а в двух других прописаны Боря и дедушка, поэтому они останутся за нами. Когда Боря окончательно вернется в Москву, он будет жить там.
Утрата старого дома в другое время могла бы вызвать у Фурмана слезы, – но разве он и так не оторвался от него? Кроме всего прочего, переезд означал, что его будущее родители уже определили – осенью ему придется идти в новую школу. Других вариантов не было.
После того как Фурман с дедушкой съездили посмотреть новую квартиру (дорога туда заняла больше полутора часов, от ближайшего метро – еще двадцать пять минут на троллейбусе; зато с двенадцатого этажа открывался замечательный вид на уходящий к горизонту Измайловский лес, озера и совхозные поля, от которых доносился сильный запах навоза), стали обсуждать, как ее следует обставить. Мама заявила, что она собирается начать новую жизнь, поэтому отсюда никакую мебель туда не повезет – все должно быть новым. Пусть даже недорогим и не слишком роскошным. Родители не хотели признаваться, но Фурману удалось выпытать, что они уже приценились к одному румынскому гарнитуру – примерно такому же, как у тети N и у дяди NN. Представив себе эти жалкие полированные креслица и мещанские сервантики, Фурман расстроился. «И это вы называете “началом новой жизни”?! Если вы сделаете все “как у других”, то это будет намного хуже, чем перевозить в новый дом старую мебель!» Родители с мрачным видом говорили, что у них не так много денег, чтобы тратить их на дорогие вещи. Так одолжите ради такого случая – ведь другого шанса не будет, вы никогда не купите себе ничего другого! Фурман завелся не на шутку и уже не мог остановиться, несмотря на позднее время. «Как вы можете так поступать со своей жизнью?! Поймите, я же не смогу там с вами жить, я просто задохнусь среди этой пошлости!» – вопил он. Мама тоже стала кричать. Папа пытался успокоить ее и урезонить взбесившегося Фурмана, но все уже заехало слишком далеко – он только подставился. Боря, как всегда, занял подстрекательскую роль третейского судьи, однако в конце концов даже он не выдержал непрерывного дикого крика. Ему пришлось обхватить истерически дергающегося Фурмана обеими руками, силой оттащить его в детскую и потом прижать дверь с другой стороны… Да, похоже, только «начала новой жизни» им и не хватало.
В понедельник Фурман, отчаянно стараясь ни о чем не думать, играл с одним из парней в настольный теннис. В какой-то момент он неосторожно наступил на упавший шарик и раздавил его. Оказалось, что это последний. Фурман давно уже не испытывал такой тоски. Главное, что заняться теперь было абсолютно нечем… «Слушай, мы ведь с тобой в сумасшедшем доме, зачем нам шарик? Давай будем так играть», – предложил он партнеру.
Без шарика игра пошла намного азартнее. Оба старались, исполняя какие-то немыслимые удары, бегая вокруг стола, громко жалея о неудачах и поднимая с земли невидимые укатившиеся шарики. Постепенно вокруг стали собираться болельщики. Некоторые из подходивших не сразу понимали, что происходит, и задавали глупейшие вопросы. Из толпы им охотно отвечали, а вспотевшие и запыхавшиеся игроки внаглую обсуждали между собой возможные диагнозы участников и гостей большого спортивного праздника. Их уже несколько раз просили уступить ракетки или хотя бы сыграть двое на двое. Наконец Фурману надоело повторяться, и он решил, что ему пора пойти навестить бедных собачек, закрытых в своих загонах. Удивительно, но благодаря этому абсурдному представлению у него будто камень с души упал.
В конце июля на новую квартиру разом перевезли все мелкие вещи, и там уже можно было жить. Боря потихоньку начал собираться обратно на Камчатку. Перед отъездом он провел с Фурманом серьезную беседу о его будущем. Позиция у Бори была жесткая: никакого «психического заболевания» у тебя нет, в больнице ты просто прячешься от жизни, а в новой школе у тебя будет реальный шанс утвердить себя в другом качестве и, закончив год с минимумом троек, поступить затем в какой-нибудь институт, для этого надо всего лишь как следует заниматься, поэтому хватит валять дурака и бездельничать – ты и так уже отдохнул на всю оставшуюся жизнь. Боря так насел, что Фурману пришлось дать ему обещание в ближайшие дни сходить к главврачу и попросить, чтобы его выписали.
Фурману было грустно и немного страшно, но он понимал, что в общем-то Боря толкает его в верном направлении: странные каникулы сами собой подходили к концу, и, если он не остается в больнице еще на год, то надо… надо что-то делать с собой.
Загорелый Борис Зиновьевич, недавно вернувшийся из отпуска, был приветлив и мягок: не очень понимаю, к чему такая спешка, до сентября времени вроде бы еще много, но, раз ты сам так решил, то, наверное это будет правильно. Оформление документов, связанных с выпиской, должно было занять примерно неделю, и БЗ предложил, пока есть такая возможность, походить к нему на таинственную процедуру под названием «гипносон» – раньше Фурман только слышал о ней от Юры, но без подробностей.
Процедура проводилась в недрах отделения, в большой комнате напротив кабинета БЗ. Время было дневное, но все окна в этой комнате были тщательно занавешены плотными темными шторами. Участников было около десяти человек, в основном девчонки. Все получили у сестры раскладушки и одеяла с подушками и со знанием дела стали устраиваться двумя рядами головами к проходу. Фурман на всякий случай занял место с краю, возле книжного шкафа. Когда все улеглись, сестра ушла. Через несколько минут появился БЗ и погасил свет. В темноте зазвучали привычные формулы аутотренинга. Послушно расслабив тело, Фурман в глубоком волнении ждал, что будет дальше. Не успела завершиться общая часть, как кто-то уже начал громко посапывать. Фурман слышал, как Борис Зиновьевич медленно ходит между рядами, иногда останавливаясь и что-то долго шепча. Потом он потихоньку вышел… Больше ничего интересного не происходило, и Фурман потерял ощущение времени. Поскрипывание раскладушек, сонные вздохи… Подъем оказался очень щадящим и плавным. БЗ предупредил о нем заранее и на счет «десять» настроил всех на бодрое просыпание, но большинство участников возвращались к жизни явно с трудом.
В последующие разы Фурман уже ничего не ждал и с удовольствием погружался в легкую дневную дрему. Только было непонятно, почему все это называется «гипносон». Но в конце недели это разъяснилось. Во время своего тихого хождения по комнате БЗ вдруг остановился рядом с Фурманом, близко наклонился к нему и стал шептать: «У тебя все сложится хорошо, Саша… Уверен, все будет просто отлично. Ты со всем справишься…» Фурман даже огорчился – какие-то общие места, благие пожелания… Разве он в этом нуждается? И это всё?! Неожиданно Фурман ощутил на лице легкий ветерок, как будто рядом замахали руками. Он не успел удивиться: продолжая неубедительно шептать, БЗ погладил его по лбу, а потом зачем-то приставил туда указательный палец – прямо в середину. Наконец оптимистическое программирование закончилось, и БЗ переместился к следующему и наверняка более доверчивому пациенту… Он отошел довольно далеко, однако его палец продолжал упираться Фурману в лоб. Некоторое время Фурман удивлялся тому, как БЗ удается сохранять такую неудобную позу с далеко вытянутой рукой. Палец давил слишком твердо и уверенно – ощущение было неприятное, приходилось терпеть. В какой-то момент Фурман явственно услышал, что БЗ перешел дальше… Вот мягко прошелестела дверь… Но его палец остался торчать во лбу! Или это был не палец? Не его палец? От мгновенного темного страха Фурман весь покрылся холодным потом и оцепенел. Начать отбиваться?.. Но он чувствовал, что рядом никого нет, пустота. Чужеродный предмет с силой вдавливался в его череп, и сохранить в этой ситуации жалкие остатки ума стоило гигантских усилий. Он открыл глаза, но видел в темноте только крутящиеся огненные фейерверки. Осторожно провел кончиками пальцев по лбу, готовый столкнуться с чем угодно, – ничего.
Прощальный подарок от шефа. Гипносон. Послание типа «Я всегда с тобой!».
Большое спасибо, конечно.
Но вдруг этот тяжелый отвратительный «палец» останется во лбу навечно?!
Тюфяк
Письма от Бори приходили примерно раз в две недели. За год жизни в маленьком военном городке на Камчатке Борины интересы полностью изменились: с теоретической физики он всерьез переключился на шахматы, и теперь его беспокоило только упущенное время и то, что администрация вечерней школы, где он из-за нехватки учителей преподавал сразу несколько предметов, не слишком охотно отпускает его на соревнования. В письмах Боря всегда обращался только к маме, но иногда в них встречались смешные приписочки, косвенно адресованные младшему Фурману. Уже в конце сентября Боря поинтересовался: «Как там поживает обалдуй лопоухий, что у него в школе делается? Читает ли что-нибудь стоящее? Пусть он мне напишет подробно о новой школе, обо всех учителях и обо всём прочем. А то приеду и утоплю его в раковине, так и передай…»
Новая школа находилась в соседнем дворе. Поскольку по отметкам за прошлый год Фурман был отъявленным троечником, его записали в захудалый класс «б», которым, правда, руководила учительница литературы. Знакомство прошло легко, к тому же вместе с Фурманом в классе появились две ярких девушки, которые стянули все внимание на себя.
В первые дни учебы выяснилось, что общий уровень класса удачно соответствует фурмановскому нежеланию напрягаться. Поначалу он даже наполучал кучу пятерок и четверок по всем предметам, а после домашнего сочинения на тему «Мечта и иллюзия» классная руководительница Тамара Тимофеевна стала относиться к нему с подчеркнутым уважением. С грубоватыми окраинными парнями тоже все складывалось относительно неплохо – общий смех, матерок, футбол после уроков… Но через полтора месяца Фурман сорвался.
Произошло это совершенно неожиданно. Однажды в школе появились офицеры-«вербовщики», агитировавшие будущих выпускников поступать в высшие военные училища. В фурмановский класс зашел молодой энергичный моряк в красивой черной форме с позолотой. По его словам, закончивших Ленинградское военно-морское училище ждала яркая, увлекательная и обеспеченная жизнь: служба в элите армии, сохраняющей традиции офицерской чести; двойная зарплата – за специальность и за офицерское звание, плюс бесплатная одежда, питание и множество льгот на суше; встреча с величественным океаном и путешествия по всему миру; а уж как девушки смотрят на военных моряков, и говорить не стоит. Конкурс в училище серьезный, но не запредельный, вступительные экзамены – алгебра, геометрия, физика и сочинение.
Вернувшись домой, Фурман задумался. Поселиться в психушке дворником ему, скорее всего, уже не светило – так может, стать морским офицером? В его представлении между этими двумя жизненными путями было много общего: и там и здесь – «тихое местечко», редкое сочетание полного подчинения внешнему распорядку и внутренней независимости. Опять же природа – вольный океанский простор, закаты… Он ведь всегда любил море! После тяжелого, честно отработанного дня на огромном боевом корабле сидишь в своей маленькой тесной каютке и читаешь Толстого и Достоевского в свое удовольствие, а иногда, может быть, и сам что-то пишешь… Самое главное – подальше от родителей, да и вообще, уже не надо будет задумываться о том, что делать дальше. Зарплата большая – можно будет помогать им деньгами… Несколько разномастных девушек на южной набережной жадными взглядами проводили стройного кареглазого офицера в отлично сидящей черной форме, но ни одна из них не догадывалась, что портфель у него набит книгами…
Но все это было впереди, а пока следовало заняться подготовкой к вступительным экзаменам по математике. Настроение у Фурмана было приподнятое: жизненная перспектива определилась, он нашел себе место, снова стал «хорошим мальчиком», все мучительные проблемы улажены…
По алгебре на дом было задано шесть задач. Просидев над ними два часа, он не смог решить ни одной. Взялся за геометрию. Результат оказался столь же обескураживающим – ноль. Полный ноль.
И ведь это – всего лишь самое обычное домашнее задание!.. Его охватило отчаяние. Все бесполезно. «Хорошим» он стать захотел… Знай свое место, дрянь!
Когда пришли с работы родители, он холодно заявил, что бросает школу и, если другого выхода нет, готов снова лечь в больницу. Все вернулось в исходную точку.
После нескольких дней скандалов и рыданий мама поехала с ним к Борису Зиновьевичу.
Отделение жило своей тихой, замкнутой жизнью. Никого из летних друзей там сейчас не было.
Борис Зиновьевич был явно недоволен появлением Фурмана и даже не стал расспрашивать его о подробностях. Вот я смотрю на тебя, сказал он, на тебе красивый свитер, хорошие ботинки, ты сыт, одет, родители о тебе заботятся, голова у тебя в порядке, учиться в твоей новой школе ты можешь без всяких усилий, и при этом никто не требует, чтобы ты был отличником, – я правда не понимаю, чего тебе еще надо? Конечно, если ты будешь настаивать, чтобы тебя снова положили в больницу, я вынужден буду принять тебя, поскольку ты наш бывший пациент. Но я считаю, что это ничего не даст. По-моему, ты просто с жиру бесишься. Извини за резкость. Тебе надо вернуться в школу и перестать морочить всем голову. А теперь, если ты больше ничего не хочешь мне сказать, я должен заняться теми, кто во мне действительно нуждается…
Фурман был скорее разочарован, чем обижен резкостью БЗ. Но дорога в отделение теперь была для него закрыта. Жаль, конечно, но ему не привыкать. (А «красивый» свитер ему, между прочим, купили еще в шестом классе…)
Через день Фурман вернулся в школу. Мама написала записку Тамаре Тимофеевне, что он был болен.
Видимо, мама проинформировала о случившемся Борю, потому что в очередном письме он спрашивал:
Как Саша? Наладилось ли у него со школой и всем прочим? В общем-то его зав. отделением прав во всем, в том числе в том, что Саша просто бесится с жиру (хотя это правильно только отчасти). Насколько я помню, дедушка когда-то учил французский по конфетным оберткам, а ему, видите ли, не нравится, что все учителя не пестуют его, как розочку. Нечего его больше таскать по диспансерам, это только сбивает его с толку. И пусть больше не пытается устроить себе каникулы. Настрой его так, что нечего и надеяться, что ему удастся удрать от армии, если он не пойдет в институт, – а в армии ему действительно будет тяжело, это уже не игра. Но в институт надо готовиться серьезно. Как у него обстановка в школе, нашли ли репетитора?
Привет всем желающим его получить.
† (Боря)
Фурману такой заочный инструктаж через его голову не понравился, и тогда мама предложила, чтобы он сам написал Боре все, что посчитает нужным. Он так и сделал, и очередное Борино письмо в пухлом конверте было адресовано уже не маме, а «Фурману Ш.» (что было странно – ведь Боря никогда не называл младшего брата Шуриком).
Дурдом им. Б. Э. Фурмана
Уважаемый шкаф!
(А, так вот почему «Ш.», догадался Фурман.)
Выражаю свое искреннее соболезнование по поводу новой школы. Но если бы ты заглянул в те заведения, где я «звеню кандалами», то решил бы, что твои нынешние одноклассники – по меньшей мере все Эйнштейны и Ньютоны. Даже в 9-м классе здесь мало кто знает умножение и деление. А в 7-м и 8-м классе сидят вообще какие-то дебилы, вдобавок обычно пьяные вдрызг. Я на уроках чувствую себя каким-то клоуном и жду звонка с еще бльшим нетерпением, чем ученики. Так что бывает и хуже, чем и утешайся!
Ты слишком много философствуешь о всяких барьерах, между тем как абсолютно ясно, что ты просто запустил математику и физику. А это дело нахрапом не возьмешь. И нечего устраивать по этому поводу истерики.
Во всех твоих бедах виновата «социальная наследственность», то бишь нежные заботы родителей, вследствие коих у тебя начисто отсутствуют всякая усидчивость, терпение, умение заниматься всерьез. Эти качества сразу не заполучишь, их надо в себе постепенно воспитывать, чем тебе и нужно заняться сейчас.
Идея о военно-морском училище довольно бредовая, т. к., прежде всего, попасть туда еще трудней, чем в обычный институт, – большой конкурс, высокие требования. Попасть в армию – значит закабалить себя до конца жизни, там уже не попрыгаешь. Впрочем, если это серьезное желание, то попробовать можно. Будь я сейчас мастером спорта, я сам с удовольствием пошел бы в армию.
Вообще, я совершил еще одно открытие. Я, оказывается, при всем отвращении своем к мещанству и мещанским взглядам на жизнь, по сути дела всю свою жизнь бессознательно руководствовался именно этими взглядами. Смешно и страшно сказать, но я в свое время не решился заниматься шахматами всерьез потому только, что это занятие показалось мне недостаточно добропорядочным. Эта тяга к мещанской респектабельности, мещанский ужас перед «богемной» жизнью, заложенные в меня «социальной наследственностью» и прораставшие потихоньку незаметно для меня самого, заставили меня сделать целую цепь самопредательств: 1) пойти в институт, куда идти мне совершенно не хотелось; 2) заняться респектабельной физикой; 3) всю жизнь стесняться своего увлечения шахматами, как чего-то постыдного; 4) последний идиотизм: вернулся примерно из тех же соображений в этот дурдом, вместо того чтобы просто остаться в Москве, не устраиваясь ни на какую работу, раз уж я решил заниматься шахматами, – но мне это даже не пришло в голову; а денег у меня вполне хватило бы на год (дальше – нецензурно)…
Окромя своих творческих увлечений я аналогичным образом предавал и свое собственное сердце: например, я шарахался от любви, т. к. считал невозможным любить, не женясь, а жениться – не имея «достатка» и «положения». Боже, что за идиот! Это все бабушкино воспитание: помню, она меня все пугала, что вырасту «пастухом»…
И вот итоги: «и чувствую в душе какой-то холод странный, когда огонь кипит в крови». Впрочем, в последнее время я отчаянно пытаюсь раздувать последние угольки своей душонки, но холодный мещанский рассудок упорно этому сопротивляется.
Между нами, девочками, – все это, хотя и в меньшей степени, быть может, касается и тебя. По крайней мере, на этом примере ты можешь увидеть, как «социальная наследственность» незаметно калечит душу. Надо увидеть ее ростки и душить их, пока еще не поздно, иначе жизнь будет разрушена, искажена борьбой между «стремлением вверх» и этой проклятой паутиной.
Литература:
Руссо «Исповедь»;Т. Манн: новеллы, «Доктор Фаустус», «Будденброки»;Гессе «Игра в бисер»;«Книга о вкусной и здоровой пище»;мои старые стихи, например: «Уйти, закрыться, убежать…», где все это прочувствовано с удивительной ясностью;Анатолий Иванов «Вечный зов» – только что прочел, отличная вещь.
У меня сейчас страшная морока с первенством области: все уже решено, кроме самого неприятного – меня не хотят отпускать с работы. Но я решил: либо еду в Петропавловск, либо вообще прочь отсюда (заодно отомщу себе за все прошлое).
Что Шукшин умер, я уже читал. Вот это человек был! сгорел!
Ну ладно, привет твоим гомикам, до скорого.
Кофейник
Следующее коротенькое письмо маме Боря написал, уже сбежав на турнир и сидя в Петропавловске в ожидании его начала. Заканчивалось оно так: «Как у Саши дела? Посылку я получил, дедушке спасибо передай. Ну, ариведерчи. Твой бегемотик».
Боря неплохо выступил на турнире, и его включили в сборную области, которой вскоре предстояла поездка в Хабаровск на соревнования более высокого ранга.
В середине декабря письмо пришло из Хабаровска:
…У меня 1,5 очка из 7, устал я ужасно, заметно похудел (как говорят). Главная причина моих неудач здесь и на первенстве области – это то, что я «перегорел» еще до начала турнира, потратив массу нервов в связи с кромешной неуверенностью в завтрашнем дне. Эти два месяца я все время находился в крайне взвинченном состоянии, мучительно колебался между двумя крайними решениями – бросить работу и немедленно уехать в Москву или плюнуть на Петропавловск и досидеть здесь еще год. А в результате получилось что-то промежуточное. Конечно, после такой нервотрепки не до игры. Успешно играть можно только при полном спокойствии духа, когда не отвлекают никакие посторонние вопросы и проблемы. А по объективной силе игры я мог рассчитывать на куда лучший результат…
Саше надо сознательно вырабатывать определенную «жизненную философию», чтобы не впадать в истерику от каждой неприятности. Я напишу ему, когда немного очухаюсь. Пусть он мне пока пишет сам, все что угодно: письма, сочинения, романы и т. д. У меня всегда было определенное мнение о том, чем ему надо заниматься.
Ну ладно, хватит переводить государственное имущество (чернила)…
Через две недели Боря обратился к Фурману напрямую.
Глубокоуважаемый шкаф!
Твое письмо и сочинения мне очень понравились. Видимо, какая-то внутренняя работа в тебе постоянно совершается, несмотря на внешнее безделье.
Прочти «Что делать» Чернышевского, обязательно прочти! Не ради его «разумного эгоизма», хотя здесь тоже есть очень много мудрого и важного, но именно ради самой квинтэссенции этой книги – образа Рахметова. Этот образ сформировал целые поколения лучших людей России – народовольцев, позже оказал огромное влияние на молодого Ленина; я сейчас, прочтя эту книгу, был потрясен, получил, как писал Ленин, «нравственный заряд на всю жизнь» (хотелось бы!..). Удивляюсь даже, каким тупицей был в школе, проморгав эту книгу, – а ведь «проходил»! Не отступать! Идти на бой каждый день, каждый час; не уступать ни пяди в своих моральных принципах, в своем понимании жизни; не сдаваться, не плыть по течению, не жить «как легче», «как все»; отстаивать себя, чем бы это ни грозило… И какую огромную силу приобретает человек, привыкший постоянно следовать этому принципу! Да ты и сам это понимаешь – сознание, что ты «достоин жизни и свободы», делает человека человеком, а отсутствие этого сознания – дерьмом. Особенно сильно я все это ощущал (и старался воплощать в жизнь) где-то на 1–3 курсах института. И вот сейчас, прочтя Чернышевского, я понял, что последние годы я медленно, но верно отступал назад, отступал под проклятым напором мелкой жизненной суеты, мелких неприятностей, противоречий, страстей. Отступал от самого себя, прикрываясь рационализмом, причем сначала «высоким рационализмом» Чернышевского, а потом все более мелким и «общепринятым». Это я, собственно, обнаружил еще раньше, в прошлом году, когда понял, что свою первоначальную мечту заниматься физикой, чтобы приблизить коммунизм, незаметно подменил стремлением просто добиться успеха в физике, этого трижды проклятого «жизненного успеха». И это понимание и заставило меня сразу оборвать свои занятия физикой. Но, черт побери, не прошло и полгода, как я совершил ту же ошибку, только поставив на место физики шахматы. Вместо того чтобы заниматься ими потому, что я их люблю, я решил с их помощью «выбиться в люди». В результате – два месяца (сентябрь и октябрь) нервной лихорадки, а еще раньше – дурацкое решение вернуться на Камчатку, чтобы «быстрее» пробиться (!). Так что, как видишь, ужасно трудно быть человеком, особенно сейчас, когда в жизни так мало «истинных целей» – революция, народная война и т. д., когда даже самые высокие умы мельчают, опошляются… И я никак не мог понять, откуда проистекает это постоянное недовольство собой, которое я ощущал осбенно сильно на 5-м курсе, которое и толкнуло меня на Камчатку, из-за которого я даже стал напиваться «до потери сознательности» в последнее время перед отъездом (было такое раза четыре). А просто я перестал сознавать, что достоин жизни и свободы, и не мог с этим примириться. Слава богу, что достало силы проломить лбом еще не слишком прочную стенку (но чрезвычайно живучую – она явно обладает способностью к регенерации!). Но я еще поборюсь! Дурак не тот, кто ошибается…
Возвращаюсь к нашим баранам. Я вижу в твоих сочинениях и письме не только серьезное понимание жизни, но силу – да, силу, несмотря на все твои стоны и всхлипы. Так что не отчаивайся от каждого щелчка по носу, не вини других в своих неудачах, «выдавливай из себя по каплям раба» (прекрасное выражение Чехова; и вообще, стоит почитать письма его к братьям).
В июне приеду, наверное, насовсем.
Боря
– Ты идешь в магазин? – стараясь казаться спокойным, спросил Фурман папу. – Тогда купи мне, пожалуйста, пачку сигарет. С фильтром.
Папа побагровел и, пробормотав что-то возмущенно-неразборчивое, побежал советоваться с мамой.
Этим воскресным вечером Фурман был приглашен на день рождения одной из девчонок. Сценарий подобных мероприятий (при отсутствующих родителях) был стандартным: торопливое – с коротенькими однообразными тостами и минимальной закуской – заглатывание гадкого дешевого пойла, разгоряченные танцы в темноте и затем тупое ожидание более удачливых одноклассников, урывающих свою долю приключений в соседних темных комнатах, ванной и прочих закутках. Чтобы не чувствовать себя совсем уж лишним на этих вечеринках, Фурман начал неумело прикуривать вместе со всеми, но вскоре заметил, что у некоторых ребят это вызывает недовольство, и решил, что будет лучше, если он сам сможет угощать других.
Родителей его наглая просьба, конечно, разозлила, но он объяснил им, что в его классе все, включая девочек, курят и пьют и что ему надоело быть «белой вороной». А поскольку собственных денег на сигареты у него пока нет, делать из курения тайну он считает ниже своего достоинства. На такие аргументы ответа не нашлось.
Вечером Фурман в подходящий момент небрежно вытащил из бокового кармана пиджака свою пачку и предложил угощаться всем желающим. Большинство оценили этот жест, но двое самых мелких ребят, Леха и Коля, вытянув сразу по нескольку сигарет, переглянулись с презрительными ухмылками по поводу щедрости «этого новенького» – мол, нас-то ты не купишь! У Фурмана все внутри в очередной раз рухнуло, и он уже решил потихоньку навсегда уйти из этого мира, но Володя Федотов по кличке Большой тоже заметил эти подлые гримасы и тут же поставил зарвавшихся хитрованов на место: послушайте-ка, вас угостили и вы не отказались, причем взяли сколько захотели, так что нечего теперь рожи корчить! Леха с Колей дружно покраснели и сделали непонимающий вид. Однако, по всей видимости, у этой парочки возникли к новенькому какие-то свои счеты.
Почти каждый день после уроков все еще часа полтора гоняли мяч на пустыре перед школой, и во время ближайшей игры Фурман столкнулся с постоянной и вызывающей грубостью Лехи. «Общественное мнение», выступавшее в роли судьи, раз за разом относилось к этой потехе чрезвычайно снисходительно, и в какой-то момент Леха уже откровенно применил к Фурману «хоккейный» силовой прием. Фурман полетел на землю, пропахав ее ладонями. Когда он поднял голову, все вокруг улыбались. Отряхнувшись, Фурман сказал, что все нормально, и игра продолжилась со штрафного – нарушение правил было слишком очевидным. Некоторое время Фурману удавалось увертываться от подсечек и ударов по ногам, но в какой-то момент, когда он на скорости прорвался по левому краю, злобно ухмыляющийся Леха попытался повторить свой жестокий толчок корпусом. На этот раз Фурман был настороже, и его противник по инерции отправился в высокий полет с неуклюжим кувырком в конце. До ворот с уныло застывшим в них Колей было всего ничего, и Фурман не останавливаясь с силой загнал мяч точно в угол.
Неприятное приземление и общий хохот жутко разозлили Леху, и он вдруг с матерным рычанием полез в драку. Растерянно оглянувшись, Фурман заметил не только улыбки, но и возмущение: как это – новенький обидел нашего Леху! Один на один Фурман с ним, скорее всего, справился бы, да и правда была на его стороне, но он не знал, какую реакцию это вызовет у всех остальных. Тем не менее, поскольку миролюбивые уговоры на напирающего Леху не подействовали, Фурману пришлось с силой оттолкнуть его. Сопротивление окончательно разъярило Леху, но тут кто-то из больших ребят приобнял его сзади и посоветовал ему остыть: мол, ты ведь сам нарывался, так что теперь вы в расчете. Поизвивавшись, Леха нехотя сдался.
Игра на этом завершилась. Расходясь по домам, одни возбужденно подбадривали Фурмана: мол, не обращай внимания на его угрозы, он тебе ничего не сделает, а если будет еще приставать, скажи нам. Кто-то, наоборот, с холодной враждебностью заметил: зря ты с ним так… Но большинство было явно довольно тем, что Леха сел в лужу, – похоже, Фурман ненароком задел какое-то старое осиное гнездо… Странно, но именно после этого случая его стали считать в классе «своим».
В последний день зимних каникул на Фурмана накатила тоска – впереди снова расстилалась пустыня… Перед Новым годом он отправил Боре короткое бойкое послание, но с середины декабря по середину января произошло столько событий…
Что-то меня гнетет после написания предыдущего письма: кажется, ввернул не то и не по делу, да еще с претензиями. Все время собирался исправить вину (мнимую или настоящую – тогда мне стыдно), но чего-то ждал. Впрочем, успело произойти «пустое множество» событий, как говорил Мерзон, и прошедшее представилось в другом свете. Пардон за несколько несвойственные мне стиль и выражения: просто я занят чтением чужих писем (Чехова)…
Новый год, на который я возлагал большие надежды, мы встречали в той же компании, что и прошлый (чтоб он сдох): Басютины институтские подружки с дитями (на удивление хорошими) Ирой и Витей, а также любимчиком Иры Сашей. Обо всех по порядку.
Ире сейчас что-то вроде 20 лет, и похожа она на интеллигентную, в меру упитанную и немного сонную кии-ссс-ку. В хорошем смысле этого слова, хотя, быть может, я слишком пристрастен к хвостатым. В позапрошлом году она поступала в художественное училище, но обвалилась и работала кем-то. В прошлом году родители раздавили ее и засунули в свой технический вуз. Рисовала она довольно прилично и, на мой взгляд, самостоятельно, хотя горшки и чайники одолевали ее перед экзаменами. Детство она провела в интернате, когда ее мама делала диссертацию. Конечно, трудно говорить что-то определенное, когда видишь… м-м, женщину (понимай в меру своей испорченности) второй или третий раз в жизни, но вроде она ничего, хотя что тут чего?! И вообще, с импотенцией (и быстро прогрессирующей) в «чего» – нечего и соваться (я о себе и серьезно!).
Ириному любимчику Саше 29 лет (!), и у него борода и жена с ребенком, с которой он по такому случаю развелся или разводится. Был в армии солдатом, поступил в институт, с 3-го курса ушел и пошел в худ. уч. Сейчас работает кем-то по этой части у Ириной мамы на работе. Похоже, мама его «не любит», т. к. дочка «под его влиянием» бунтует и не желает быть анжанером, как предки, и в этом институте учиться тоже не желает, но пока хорошо учится и подвергается дрессировке. Жмут ее, видимо, здорово. Заняты они друг другом, так что мне, непросвещенному, даже завидно стало.
Витя учится в 10 кл. и тоже собирается идти в худ. уч. Серьезно занят Л. Недавинченным и вообще художествами (чужими и своими). Он – друг детства (не моего), и ему, кажется, еще сильнее завидно. Он здорово набрался, обрезал палец об осколки двух бокалов, которые мы разбили, играя в жмурки и прочие детские игры, и в туалете с ним что-то случилось неприятное, после чего он лег спать.
Так что собрались там одни художники и приятные штучки, если не считать старых алкашей и алкаших. Было немного грустно, но когда выпьешь и выкуришь сигаретку с Сашей и Витиной мамой на кухне, впадаешь в приятное малодумное, но трезвое состояние. Приехали мы домой в 8 часов утра в новом году. Так мы его встретили.
5 января поехали с классом на Валдайскую возвышенность (40 км от г. Валдая). Жили в охотничьем домике по 5 чел. в комнате, а еду привезли с собой и варили сами. Места там зверски красивые, кругом непроходимые леса, громадное озеро со множеством островов, ночное звездное небо, какого я никогда не видел, страшная глушь. Метели как на Северном полюсе – в пяти шагах ничего не видно и снег по пояс. Летом там рай и все такое. Действительно здорово.
Соседняя комната и девчонки пили и (…) все 5 дней и в поезде (ехать туда целую ночь). В таких ситуациях, да еще вдали от родного дома, я чувствовал себя скверно, за исключением того времени, когда ходили на лыжах (2 раза по 1/2 дня).
На обратном пути (в поезде) я до 3 ночи беседовал «за жизнь» с Тамарой (клас. рук.). И было о чем! Дело такое: как раз перед моим поселением в дурд. ко мне подошел Смирнов и сказал след.: молодежь щас стала гнилая, не верящая в светлое будущее и т. д. и т. п., и что есть такая, пока что подпольная, молодежная организация в Москве (!), которая хочет исправить некоторые ошибки комсомола и партии в области внутренней политики и воспитания. С. похвалил мой философский ум и предложил заняться идеологической работой, сказав, что дело серьезное, уже не детское и пр. Находился я тогда уже в невменяемом состоянии, но успел сказать, что надо обязательно вести легальную работу и наладить связь с «начальством» – ЦК ВЛКСМ или еще чем-нибудь, раз уж все так серьезно и масштабно; одобрил хорошую идею и резко протестовал против описанного Смирновым устройства организации:
Смирнов и пр. неизвестные интеллектуалы и предводители
уголовники, хулиганы, шпана и пр. «боевые силы».
Потом меня не стало, и я не вспоминал больше о друзьях детства. Но перед Новым годом ко мне приехал Костя Звездочетов (помнишь его?) и привез письмо С., который писал, что они работают теперь под руководством ЦК и Горкома комсомола, что все идет отлично, и приглашал в 182-ю школу на конференцию, где будут 2 члена ЦК, – посмотреть и, если понравится, включиться в работу. Я обрадовался в своей тоске и скуке – наконец-то займусь хорошим делом (ведь какое дело-то!). Встретились мы в метро со Звездочетовым, чтобы ехать туда, а он говорит, что в его школе вдруг поднялась буча, ему запретили ездить куда бы то ни было, вызвали родителей, «обвинили в антисоветской деятельности» и т. д., и что в связи с этим встреча в 182-й шк. откладывается. Все затихло на некоторое время. Смирнов по телефону мне сказал, что все это штуки Пантелеевой (директрисы), а так все нормально. И вдруг меня официально вызывают в Горком на конференцию (через мою школу). В Горком я по какой-то причине не смог пойти, но в школе все дико перепугались. Несколько раз я был у директора и от нее узнал, что «они» ходили к какому-то посольству, что-то кричали, изрисовали какими-то лозунгами всю 182-ю шк., кругом страсти, и что будто бы я – их начальник. На столе у нее лежало толстое дело, и она мне читала оттуда всякие ужасы. Я ей рассказал, что знал, отдал письмо и высказал свое мнение по этому поводу, так что она испугалась. Тайком к ней ходили Бася с папой (о чем они там говорили – не знаю). Потом вроде опять все затихло. А Тамара – парторг школы, и она мне ночью в поезде рассказала и то, что я уже знал, и многое другое: что этим делом занялся уже Горком партии, по всем районам были совещания директоров и пр., что всех «их» не будут принимать в институты, что я во всех документах фигурирую как один из главарей и что мне это «испортит всю карьеру» и, след., жизнь. Говорили мы с Т. долго и обо всем. Знаешь такие разговоры? Все собираются, говорят хорошие вещи, все выглядят хорошими, отличными людьми. Ты всех убедил своими страстными речами, всем все ясно – что хорошо, что плохо, все готовы бороться против плохого, а наутро все встают, и как будто не было никакого разговора, и каждый делает свои дела по-прежнему. Это ужасно. Я так накалывался уже несколько раз. После испытываешь разочарование и опустошение… Все уже спали, а Т. всё рассказывала мне про свои семейные горести и несчастья. Легли спать, а утром разошлись по домам.
В общем, всё кругом неясно, и чем кончится эта заварушка, меня почему-то мало трогает. Может, и посадят.
Пойдя в школу, я стал чувствовать прежнюю тоску, усталость, недосыпание и безмысленное гниение. Продержусь ли еще 1/2 года – не знаю. Весна и лето еще далеко-далеко. Кругом темно и серо, холодно. Устал от всего. Вот и тебя запутал еще одной глупостью, да еще невнятно рассказанной.
Вопреки советам, прочел написанное – черт с ним. Противно стало думать. Пойду глядеть в ТВ.
Спасибо за письмо. Почаще бы так! Пиши больше (если можешь и хочешь, конечно), а то засну.
Вот: почему никто не пишет о себе самом, а все придумывают образы и сюжеты; даже боятся и стараются отбросить всё личное – почему?
Тлею: то ли взорвусь во все стороны, то ли потухну.
Надоело!!! Пошел я.
Не обижайся на глупые письма, я хороши-ий…
14/1-75
Бася прочла письмо, и оно произвело на нее страшное впечатление. Она сказала, что я все время стараюсь из себя чего-то изобразить, показать себя с какой-то действительно плохой и гадкой стороны, и еще что-то обидное, так что у меня уши покраснели. И так плохо, а тут еще уничтожающая критика. Неужели действительно так мерзко?! Я ей ответил, что всё, что человек из себя изображает, и есть он… Как хочется начать всё заново (кажется, пошлость!), но зачеркнув память о всей грязи, что была, избавившись от страха и мучительной неуверенности перед будущим, от грубости, одиночества и подлости в настоящем. Куда мне теперь идти от самого себя. Мне горько и страшно. Что меня ждет, если я не смогу вырваться из этого холодного дома – армия будет утюжить мои мысли, отнимать силы у моих глаз, ушей, пальцев, унижая то единственное, что я имею. Если я пройду это испытание, то меня ждет жизнь еще более ужасная, ибо у меня исчезнет надежда на скорый конец ее… – утомительная и ненавидимая работа, несовместимость с сослуживцами, злоба и раздражение на всё вокруг, полнейшее одиночество без любви и привязанностей – кому я нужен теперь уже. Десять лет я учился делать гадости и мерзости, пакостничал, и другие пакостили мне. Есть ли у кого из моих ровесников столько говна на теле, такие язвы и раны. Чувствовали ли они боль, какую несу я, страх и желание жить, жить – или сдохнуть в самой грязной, самой скверной яме. Сколько раз я чувствовал себя самой последней, самой униженной собакой, сколько раз подонки плевали мне в лицо, били, топтали самое светлое и чистое, как изгалялись и смеялись, когда я плакал и любил всех вокруг. Как вынести это. Как нести в себе. Как жить с такой ненавистью и жалостью, нерастраченной любовью и солнцем в груди. Куда ж мне деваться, в кого превратиться, в какое чудовище или звезду. Кто поймет вселенскую скорбь и разделит ее, кто утешит, спрячет мою распухшую голову у себя на груди, даст выплакаться за всё, за всё и за всех. В каком океане, на каком острове найти мне любовь, которая простит и защитит, у какого бога искать мне приюта.
Смеяться мне, хохотать теперь над собой, плакать. Молчать. Что я говорил – правду, ложь, игру. И забыть не умею. От кого скрыться мне под маской циничности. В огне сжечь бумагу. Почему так пусто в груди или желудке? Почему не хочется делать вид, что ничего не было.
Всё. Спать, и завтра – в школу.
Поколебавшись, Фурман решил это письмо не отправлять – слишком уж оно получилось истерическое.
Еще в восьмом классе, когда закончилась игра в солдатики, Смирнов увлекся «политикой», став для своей компании источником будоражащих сведений о «тайной стороне» советской истории – от сталинских концлагерей, предвоенных репрессий армии и пресловутого секретного пакта Молотова – Риббентропа до «нехороших» анекдотов о современных руководителях партии и государства. От него же Фурман получил на одну ночь ксерокс с журнальной публикацией «Мастера и Маргариты», а позднее – «Один день Ивана Денисовича».
Судя по всему, за последний год Смирнову удалось развернуть в школе чрезвычайно бурную деятельность, завершившуюся грандиозным «политическим» скандалом на всю Москву. Впрочем, толком понять было ничего невозможно. О случившемся Фурман узнал, только когда его неожиданно вызвали к директору. Поначалу он очень растерялся, так как директриса сходу обрушилась на него с какими-то яростными обвинениями: мол, они его, троечника, приютили, а оказалось, что пригрели змею, которая хочет им все разрушить. Но они ему не позволят, он в два счета вылетит из их школы, а его родителям придется отвечать по партийной линии – и т. д., и т. п. Когда Фурману наконец предоставили слово, он, с трудом собравшись с силами, сказал, что просто не понимает, о чем идет речь, и попросил объяснить, что он такого плохого сделал. «Ах, так ты, значит, ничего не понимаешь?!» Директриса возмущенно придвинула к себе толстую папку, надела очки и, водя пальцем по каким-то бумагам, грубо спросила: «Ты знаком с Мироновым?» Нет. «Подумай хорошенько. Дело очень серьезное. От того, насколько ты будешь сейчас откровенен, быть может, зависит все твое будущее. Поэтому я спрашиваю еще раз: известен ли тебе человек по фамилии Миронов?» Да не знает он никакого Миронова! Хотя… ну да, в его старой школе до восьмого класса учился парень, которого звали Женя Миронов. Но с тех пор они не встречались. А с ним что-то случилось? Но ему было сказано, что вопросы здесь будет задавать не он. Большинство названных затем по списку фамилий принадлежали его бывшим одноклассникам, но некоторые были ему совершенно неизвестны. На вопрос «Что тебя с ними связывает?» он, не переставая удивляться, рассказал об их многолетней общей игре в солдатики, о придуманной ими планете Архос и собственных государствах. Только ведь все это было уже очень давно… Директриса заметно успокоилась, но все еще не могла поверить своему счастью, – выяснилось, что Смирнов, верный своей провокаторской тактике, без ведома Фурмана включил его в списки своей организации в качестве одного из ее руководителей. Кстати, Фурман до сих пор даже не знал, как она называется! Не ответив, директриса стала зачитывать состав преступлений «подпольной антисоветской организации под руководством Смирнова и Миронова». Да, ребята действительно, что называется, погуляли… Впрочем, все описываемые псевдореволюционные бесчинства были вполне в смирновском духе. Бедный Мерзон… Бедная старенькая 182-я школа… Даже ее противную директрису – мать Пашки Королькова – стало жалко: вконец обезумевшие террористы неоднократно угрожали ей и членам ее семьи по домашнему телефону и изрисовали все стены в подъезде ее дома матерными лозунгами. Господи, а Пашке-то каково?.. Единственное, чего Фурман не мог себе представить, так это того самого простодушного троечника Миронова в роли лидера движения. Было непонятно, откуда его вообще выкопали и мог ли он при этом измениться настолько, что даже Смирнов по сравнению с ним выглядел заблудшей овечкой? А может, это его очередная хитрость? И вдруг после случайной обмолвки директрисы все встало на свои места: оказалось, что «Миронов» – это «партийный» псевдоним старинного фурмановского дружка Кости Звездочетова, бывшего японского императора. Костя теперь тоже учился в какой-то окраинной школе, и, судя по материалам «дела», там все обстояло еще хуже, чем в 182-й…
«Допрос» двигался к концу, все перенервничали и устали, но тут директриса сделала ошибку, решив для порядка спросить Фурмана, как же он сам «ко всему этому» относится. Фурман твердо осудил левоэкстремистские и анархистские выступления, граничащие с обычным уличным хулиганством, а также оскорбительные выходки против конкретных людей. Но, с другой стороны, ему были понятны и причины недовольства части молодежи существующим положением. Главная из этих причин – бюрократизм в работе школьных комсомольских организаций, несоответствие между пропагандируемыми лозунгами и реальным бездействием молодежи. Более того, не секрет, что любые инициативы и предложения со стороны молодежи встречают противодействие со стороны вышестоящих органов. Об этом даже в газетах пишут. И в этом смысле Фурман считает выступления своих бывших одноклассников стихийным протестом против коммунистического формализма, с которым, как известно, боролись еще Ленин и Маяковский. Способ, безусловно, выбран неудачный, но все это позволяет задуматься о действительно существующих серьезных проблемах. Поэтому, по мнению Фурмана, со стороны партийных и комсомольских органов правильнее было бы не «давить» и «разгонять», а использовать проснувшуюся молодежную энергию в «мирных целях»…
Сил гневаться у директрисы уже не осталось. Она смотрела на Фурмана выпученными глазами и приговаривала: «Нет, вы только послушайте его… Еще этого нам не хватало!.. Дай бог, чтобы все обошлось…»
В школе Фурмана больше не трогали. Но переданные Тамарой Тимофеевной подробности городского скандала – особенно то, что к делу подключился КГБ (об этом Фурман даже не решился впрямую написать в своем неотправленном письме Боре), – произвели на него глубокое впечатление. Получалось, что, как ни вертись, а от него самого теперь в любом случае ничего не зависит.
Мама была совершенно потрясена тем, что ее сыну, который не имел к этому делу никакого отношения, не дадут поступить в институт. Она даже заявила, что собирается пойти в горком партии. Зачем? Чтобы посмотреть в глаза тому, кто принял такое решение, и объяснить ему, что нельзя в наше время вот так легко перечеркивать человеческую жизнь. Если понадобится, я пойду и выше! А чего мне бояться-то? Я же беспартийная!.. Папа, который еще с войны был членом партии, обиделся. Но ходила мама куда-нибудь или нет, Фурман так и не узнал.
Между тем его контакты с бывшими одноклассниками продолжались. В середине января он получил открытку от Власа-Колбаса с крайне вежливым («Передавай привет своим родственникам от меня и моих родителей») приглашением на его день рождения. По традиции там должна была собраться вся старая компания, и Фурман решил воспользоваться этим, чтобы понять, что все-таки происходит в школе и кто, кроме Смирнова, в этом замешан.
Прежние друзья с их знакомыми лицами и интонациями показались Фурману еще более чужими, чем он ожидал. И дело было не в каких-то новых для него фактах или подробностях их жизни, не в его безнадежной детской обиде на них и даже не в том, что за эти полгода в нем самом накопилось слишком много такого, чего он уже не смог бы разделить с ними. Просто ему не нравилось то, как самодовольно они взрослеют и веселятся, и, общаясь с ними, он все время ощущал на своем лице застывшую маску.
Безусловным центром компании был теперь Смирнов. Он даже внешне изменился больше других: сильно похудел, окреп, расправил неожиданно квадратные плечи, а в его слегка вальяжных движениях стала ощущаться физическая мощь. Все мягко подхохатывали ему, и только упрямый Быча несколько нарочито демонстрировал свою независимость. Дополнительную странность компании придавало экзотическое явление Кости Звездочетова и необъяснимое отсутствие Пашки Королькова.
Фурман готовился к расспросам (было неизвестно, знает ли о его пребывании в психушке кто-нибудь кроме Мерзона, которому мама сообщила об этом, когда забирала из школы документы), но всех интересовали лишь его недавние «политические» приключения. Упрекнув Смирнова за то, что тот так глупо его подставил (все неловко примолкли, но Смирнов признал, что это было нехорошо, и даже извинился), Фурман попросил ввести его в курс происходящего. Ведь это нелепо, что он узнаёт обо всем только во время допроса. А может, так и было задумано с самого начала? Нет-нет, что ты, успокоили его, мы тебе вполне доверяем, это просто наша недоработка…
То, что вытворяли в школе и вокруг нее члены так называемого политклуба, по их собственным хвастливым описаниям очень походило на беснование китайских хунвейбинов в период «культурной революции». Программный документ движения назывался совершенно по-китайски: «26 восклицательных знаков». Бойкие левацкие лозунги, речовки и отдельные коммунистические термины, которыми, вперемешку с весело сдерживаемым (ведь за стенкой родители) матерком, пересыпали свою речь политклубовцы, у большинства из них звучали как старательно заученный урок. Но когда то же самое с мрачной латиноамериканской страстью произносил артистичный Костя или изощренный интриган Смирнов, становилось понятно, что все это – часть глумливого представления, разыгрываемого двумя великими комбинаторами для бедных попугаев. Фурмана особенно поразило то, что все, кроме Смирнова, относятся к «товарищу Миронову» не как к своему бывшему однокласснику и партнеру по детским играм, а с опасливым почтением, словно ожидая от него какой-нибудь дикой выходки, из-за чего атмосфера праздничного вечера в самом деле очень напоминала встречу Остапа Бендера и «отца русской демократии» Кисы Воробьянинова с членами «Тайного союза меча и орала». Выглядело это ужасно смешно. Впрочем, «болото» всегда побаивалось «ядовитого лопушка» Звездочетова. Вспомнив о достаточно зловредных Костиных шалостях, Фурман решил не дожидаться возможных неприятностей и стал иронически обращаться с ним на правах старинного приятеля. Если повзрослевший Костя и не рассчитывал на подобную фамильярность, то, по своей всегдашней рассеянности, не успел вовремя отвергнуть ее и принял просто как факт. Все, конечно же, это отметили: возникший из небытия шутник Фурман, оказывается, был на каком-то особом положении у «вождей», и ему дозволялось не только предъявлять им претензии, но и посмеиваться над ними. Даже у Бычи, который до этого посматривал в сторону Фурмана сквозь очки с холодной отстраненностью, во взгляде затеплился удивленный интерес.
Странно, но бывшие «приличные мальчики» теперь участвовали в хулиганских «революционных акциях» наравне с мелкой шпаной, к которой Смирнова всегда необъяснимо тянуло. Фурман так и не понял, как взрослые допустили, чтобы дело зашло настолько далеко. Правда, Смирнов через слово ссылался на твердую поддержку «наших старших товарищей» из райкома, горкома и даже ЦК комсомола и называл конкретные фамилии, слегка путаясь в должностях, но, с учетом начавшихся «репрессий», эта поддержка выглядела весьма двусмысленной. При этом главными врагами политклуба считались директриса (мать Пашки Королькова), учителя (о них говорилось как о жалких пешках) и органы управления образованием.
– Кстати, а где Пашка-то? – спохватился Фурман. – Он что, болен?
Вопрос вызвал неожиданное замешательство. Некоторое время все таинственно ухмылялись и отводили глаза, а потом Смирнов объяснил: в последнее время у них появились серьезные подозрения, что Пашка – предатель. Или, точнее, «двойной агент», работающий на обе стороны. Раскрыли его благодаря проведенной спецоперации: намеренно передали через него какую-то «дезу», и на эту информацию вскоре сослались враги. Конечно, нужно было быть полными идиотами, чтобы ожидать от сына директора школы чего-то другого, с сожалением признал Смирнов, и все с ним согласились.
Как поступить с Пашкой, пока еще не решили. Быча и бурно поддержавшее его «болото» были настроены чрезвычайно агрессивно: среди крайних мер предлагалось устроить предателю «темную» или обмазать дверь его квартиры дерьмом (что изящным рикошетом попадало и в директрису). Влас-Колбас, увлекавшийся фотографией, предложил размножить и распространить по школе имеющийся у него «компромат» – снимок голого Пашки в непристойной позе. Эта идея была встречена политклубовцами с восторгом. Но тут Костя, с угрюмым видом бродивший по комнате, почему-то стал защищать Пашку: мол, все это только подозрения, твердых доказательств нет, и вообще, это подлость – ставить человека перед выбором между собственной матерью и революционной борьбой. Лицо у Кости стало злое, все притихли, и Смирнову пришлось спешно перевести разговор на что-то другое… Вскоре все стали собираться по домам.
Хотя Фурмана и порадовало странноватое Костино благородство, в целом весь этот отвратительный спектакль – и особенно, конечно, история с Пашкой – его крайне разозлили. Он был уверен, что заигравшихся «подпольщиков» необходимо остановить, пока не поздно. Причем для их же пользы. У него даже мелькнула мстительная мысль сообщить об их планах куда-нибудь в КГБ, но он быстро вспомнил, кто он, потом представил, что с ним было бы, останься он в школе, и здраво решил ограничить свое вмешательство одной конкретной задачей – вывести Пашку из-под возможного удара. Ребята, значит, провели «спецоперацию»? Ну что ж, а мы проведем свою.
Позвонив Пашке по еще не выветрившемуся из памяти номеру, Фурман без долгих предисловий описал ему сложившуюся ситуацию, подчеркнул, что он полностью на его стороне, и дал дружеский совет: что стоит предпринять, чтобы в дальнейшем у юных шантажистов пропала всякая охота с ним связываться. Следовать этому совету или нет, Пашка должен был решить самостоятельно.
В первых числах февраля Смирнов предложил Фурману съездить с ним в какой-то отдаленный Дом пионеров, рядом с которым планировалось провести очередную «акцию» – факельное шествие (на этот раз, по уверениям Смирнова, с официального разрешения горкома комсомола). Фурман поехал, надеясь узнать, сработал ли его план, но Смирнов всю дорогу говорил только о готовящемся «февральском наступлении Движения» и «трех ударах по фашизму и бюрократии». На прямой вопрос о Пашке он, загадочно улыбнувшись, сказал, что вскоре должно состояться заседание революционного трибунала, на котором ответственные сотрудники Движения вынесут окончательное решение по этому делу. Поежившись, Фурман выразил желание поприсутствовать на заседании – просто из любопытства. Смирнов обещал оказать содействие.
18–19/2.75
Salud compaero!
Очень-очень жаль, что ты не был на факельном шествии и на концерте. Это весьма любопытные оказались «мероприятия»! Неизвестно, где получилось лучше – и там и тут что-то вообще невиданное и неслыханное. Ну, надеюсь, Костя тебе все расскажет: и как мы на концерте заняли задние ряды, как вскакивали по команде, кричали: «Seremos como el Che!»… И внешний вид был кайфовый. Я одел на шею портрет Энгельса, Лёлик – Маркса, какой-то парень повязался красным куском материи с надписью «Свобода Чили!» – и т. д., и т. п. Так мы даже сфотографировались с бычками в зубах на память. Чилийцы и другие латиноамериканцы, сами все в портретах Че и побрякушках, встречали нас с огромным энтузиазмом. Про своих, советских, не говорю – это вообще был вырубон.
Тут у нас был разговор с тов. Якубовским и тов. Элентухом (они оба очень надежные ребята, один из 671-й школы, другой из 23-й спец.). Решили на время свернуть любую активную деятельность в школах, потому что реакция сильна и может нас раздавить поодиночке. Лучше создать под эгидой горкома настоящее легальное объединение – я имею в виду устав, дисциплину и т. д. В нем мы сможем работать, не боясь репрессий. А заодно наша деятельность станет организованнее и отметутся пошлые обвинения в «подпольном заговоре».
Ну, это так – очень кратко и очень путано. Каково твое мнение?
С ком. приветом
Илья
Вестей от Пашки все не было, и Фурман начал всерьез тревожиться за его судьбу – а вдруг эти дураки его уже шлепнули или покалечили? Но звонить первому было нельзя: помимо опасности нарваться на Пашкину маму существовала стыдная возможность, что Пашка из гордости отверг предложенную ему «контригру» или наоборот, что он, снова помирившись со своими одноклассниками, выдал им бывшего друга, и коварные подпольщики, потирая руки, плетут сейчас новые сети на своего старинного противника…
Уже в конце марта Смирнов пригласил Фурмана на давно обещанное «заседание ревтрибунала».
Встреча была назначена на свежем воздухе у метро «Ждановская». Участников, кроме Фурмана, оказалось не много: все тот же саркастически-ироничный Костя Звездочетов и сам Смирнов. Вскоре все трое посинели от холода и дружно застучали зубами (впрочем, Фурман от влнения начал стучать еще по дороге). Обвиняемый на «суд» так и не явился. Но Фурман не пожалел, что приехал. Во-первых, из меланхоличного Костиного рассказа о последних событиях в его школе, где «неизвестные» устроили в туалете взрыв самодельной бомбы, он сделал вывод, что ребята окончательно оборзели и что эта его встреча с ними должна стать последней. Смирнов только укрепил его в этом намерении, печально сообщив, что они все наверняка «под колпаком у органов» и их могут повязать в любую минуту. (Черт! Неужели это правда?) Лучше не оглядывайтесь, посоветовал старый конспиратор. Пусть они думают, что мы ни о чем не догадываемся… Во-вторых, Фурман узнал, что его план сработал. По словам Смирнова, Пашка через Власа-Колбаса передал, что у него есть «материал» на одного из лидеров организации (то бишь на самого Смирнова), который будет пущен им в ход при первом же враждебном действии. Смирнов был очень расстроен: оказывается, он до сих пор считал Пашку не только своим старым другом, но и «неплохим коммунистом». Он, конечно, не исключал, что Пашка всего лишь блефует, опасаясь справедливого суда товарищей. Но его попытка шантажировать высокопоставленных членов организации говорила о том, что если до этого момента он и не был предателем, то теперь уж точно им стал и должен понести заслуженное наказание. К счастью, благородство и на этот раз не изменило Косте, который с угрюмой твердостью сказал, что заниматься мелкой личной местью недостойно настоящих революционеров. Смирнову пришлось с ним согласиться. Чтобы закрепить успех, Фурман начал горячо убеждать «товарищей», что они совершили принципиальную кадровую ошибку, выдвинув мировоззренчески слабого и морально неустойчивого Пашку на ответственную работу. Вам мало, что все ваши «секретные» бумажки уже подколоты в папку и лежат на столе… мы все знаем где. Да раз он сын вашего главного врага, вам в любом случае следовало держаться от него подальше! А вы уже сделали одну глупость, приблизили его, и теперь, вместо того чтобы замять все по-тихому, задумываете какую-то глупейшую “пионерлагерную” месть… Распалившись, Фурман обрушился с жесткой критикой и на саму организацию, и на ее авантюрных лидеров, опирающихся на асоциальных «пролетариев из подворотни», и на широко разрекламированное «февральское наступление» с его «тремя ударами чем-то по кому-то», которые вылились в пачканье школьных стен идиотскими псевдокоммунистическими лозунгами, хулиганские телефонные звонки директрисе с матерными выкриками и взрывы бомб в школьном туалете, что является уже самой настоящей провокацией, из-за которой наверняка пострадают ни в чем не повинные люди… Под градом этих страстных и язвительных обвинений оба «ответственных товарища» совсем загрустили, зато Фурман почувствовал себя орлом. До самой последней секунды – даже уже войдя в троллейбус – он ждал, что на них вот-вот набросятся какие-нибудь крепкие парни в штатском и позорно скрутят при всем народе. Но, к счастью, этого не произошло, а все его личные задачи были решены: он отдал долг старому другу, отведя от него угрозу расправы, мимоходом хорошенько поучил этих горе-революционеров уму-разуму и наконец выскочил из этой чужой и опасной игры…
Приветствую тебя, о смачнейший из плевков природы! Пишу тебе при свечах – электричество, как обычно, отключили…
Глава I. Структура личности
Для начала я попытаюсь построить модель человеческой личности, как я ее себе представляю в последнее время. Она во многом совпадает с моделью, предлагаемой нашей советской психологией, с включением элементов фрейдизма, собственных мыслей и еще бог знает чего. Так вот:
Личность можно представить себе в виде двухэтажного здания с подвалом. Каждому этажу соответствует определенная область мозга. Подвал (его можно назвать «субэго») – это биологические инстинкты, которые гнездятся в старых, глубинных областях мозга. Они имелись у животных еще тогда, когда человека и в помине не было, и достались ему чисто генетическим путем от отдаленнейших предков. Сюда входят, например, инстинкт самосохранения, продолжения рода и т. д. У меня есть подозрение, что в дальнейшем старые зоны мозга станут атавизмом. Но пока до этого еще ой как далеко!
Первый этаж – «эго». Это то, что обычно называется рассудком. Зона обитания – кора головного мозга. Зачатки «эго» имеются у животных, но оно резко увеличилось у предков человека, и уже у неандертальцев не уступало современному.
Известно, что у неандертальцев были слабо развиты лобные доли мозга – наиболее поздние его отделы. Они развились по-настоящему лишь у современного человека. При удалении лобных долей человек сохраняет способность мыслить, но теряет способность жить в общении с другими людьми, теряет какие-то «социальные инстинкты». Таким образом, «суперэго» – это сверхмощные статические стереотипы, регулирующие взаимоотношения человека с людьми; они составляют фундамент любой морали, являются, по сути дела, общечеловеческой (т. е. коммунистической) моралью, а в просторечии – обычной совестью.
Но, к сожалению, суперэго не исчерпывается общечеловеческими стереотипами. На них наслаиваются новые, менее прочные, но тоже мощные стереотипы – так называемая классовая мораль. Она приспосабливает человека к существованию в классовом обществе, т. е. обществе несправедливом, а потому и сама отчасти неизбежно несправедлива и противоречива. Лишь в будущем коммунистическом обществе с исчезновением классов исчезнет и классовая мораль, и останется лишь изначальная, общая для всех мораль человечества. Пока же наши лобные доли засорены благоприобретенным мусором, подгоняющим нас к среднему типу для данного общества, класса, слоя.
Но в истории общества бывают моменты, когда оно переходит от одного общественного строя к другому, а тем самым от одной господствующей морали к другой. Естественно, что в эти переходные периоды мораль становится неустойчивой и появляются на свет божий целые «аморальные поколения», не имеющие твердой системы нравственных ценностей. Старая мораль отмирает, но пока еще жива, а новая еще только зарождается. Отсюда и то смешение нравственных критериев, «бога и дьявола», которое ты видишь в своих соучениках. Поколение, к которому мы принадлежим (во временном плане), является порождением и жертвой своего неустойчивого, революционного времени.
Глава II. За жисть
Таперича я с помощью этой модели попытаюсь выколупать, почему же мы с тобой оказались как бы вне своего поколения (а мы принадлежим все же к одному поколению, хотя и с нюансами). Прежде всего, мы, видимо, относимся к лучшим представителям рода гомо сапиенс с отлично развитыми передними отделами мозга и тем самым являемся от природы в высокой степени общественными животными, с чуткой совестью и умением понять, вжиться в бльшую часть двуногих. Т. е. наше первоначальное, «общечеловеческое» суперэго обладает большой мощностью и стойкостью. С другой стороны, позднейшие слои классовой морали у нас патологически (для данного общества) ослаблены. С чем это связано у меня – понять нетрудно. В детстве я жил в изоляции от сверстников, вообще очень мало общался с людьми, находился в некой искусственной, тепличной атмосфере, в которую не проникало влияние современности. Я всегда был (и остался отчасти) жителем больше своего внутреннего мира, чем реального внешнего. Так что слой в суперэго, соответствующий моему времени, у меня остался очень тонок (хотя он, конечно, есть). Ну, а с тобой отчасти происходило то же самое (в меньшей, правда, степени), а во многом помог тебе избавиться от верхних наносов в суперэго я, старательно разъедая их еще непрочные пласты «ядом критики». Вот таким-то образом мы и оказались обладателями совершенного суперэго в несовершенном еще мире, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Вот и объяснение твоего нынешнего состояния, всех твоих депрессий и стрессов: мир не живет по законам твоего суперэго и тем самым не дает и тебе жить с ним в согласии.
Ну а где же выход? Я тебе прямо скажу: никакого настоящего выхода нет, разве только изобрести машину времени… Противоречие это вполне реальное, и ликвидировать его вообще нельзя. Но тем не менее выходы «локальные» есть, все они были многократно опробованы и закреплены в литературе (не только, но мне она ближе).
1. Поддаться среде, изнасиловав свое суперэго; «быть как все», делать вид, что твое суперэго «в порядке»… Нечто подобное ты можешь пронаблюдать на примере папаши – пример весьма грустный, говорящий о неприятностях, ждущих соискателя на этой дорожке.
2. Более высокая ступень – сознательный рационализм (прочел ли ты «Что делать?»). Выбирать рассудком решения, соответствующие оптимальному удовлетворению как себя, так и общества (других людей)… Когда-то я написал нечто подобное на своем знамени. Но, к сожалению, все это лишь красивая иллюзия…
3. Попытаться вообще игнорировать внешний мир, влезть с головой с себя самого и в Дело, этакую «башню из слоновой кости», или в семейную жизнь, или хоть в толчок… Но все это тоже лишь иллюзия, и болезненность противоречий при этом не только не устраняется, а подчас даже усиливается.
4. Несмотря ни на что, жестко держаться за свое суперэго, следуя ему в своих поступках всегда и везде, не поддаваясь ни среде, ни рассудочным блокам. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!» Не позволять себе ни малейшей слабости, стойко держаться под ударами извне… Классический пример – Рахметов. Впрочем, есть еще более классический – Дон Кихот собственной персоной. Очень интересно, что, выбирая такой путь, субъект обычно посвящает свою жизнь борьбе (в той или иной форме) за установление на Земле общества, соответствующего его суперэго! Не миновала эта дорога и меня. Но сейчас не требуется идти в подполье или палить по классовому врагу, и я, как уже говорил, решил посвятить свою жизнь физике с целью скорейшего построения материальной базы коммунизма. Это звучит дико, но даю слово, что я именно так и выбрал физику, а не что-либо другое. Познакомившись с марксизмом, я понял, что «материя первична», т. е. преобразовать мир легче всего с помощью физики, а не чего-либо другого. К сожалению, моего энтузиазма хватило ненадолго. Тут прав Рахметов, который не допускал даже самых невинных послаблений, компромиссов, – иначе затянет незаметно проклятое болото приспособительства…
Поэтому тебе необходимо заняться собственной личностью. Очисть себя от шелухи чужой тебе морали, попытайся вести себя так, как требует твоя совесть, нравственные чувства, а не трусость и приспособительство. Ищи себя, ощути всей душой, что живешь правильно, – и вот тогда ты приобретешь и духовную, и творческую силу. В общем, дерзай, братец! Хватит пускать пузыри, жить надо, как человек! Заполучил суперэго у будущего, так и не рыпайся. Кстати, тебе я советую то же, что и себе самому. Ну, чао, крошка. Читай хорошие книжки, живи и творись.
Боря.
Вообще-то Фурман только и делал, что читал. Его подлинная жизнь протекала внутри чтения. Но тем бессмысленнее и постыднее казалось ему его вынужденное «дневное» времяпровождение. В окно его комнаты на двенадцатом этаже была видна закатная половина неба, и часто по вечерам, глядя на разворачивающиеся над горизонтом пламенные битвы, он с тоскливой завистью думал об огненно-собранных людях, которые где-то там, на невидимом «далеком фронте» плечом к плечу самоотверженно борются и погибают ради других. А он, словно отставший от своих боец, пораженный какой-то нелепой «детской» болезнью, прозябает в этой затхлой дыре, в которой ничего, ничего не происходит, кроме чтения, плохих отметок, дворового футбола и жалких школьных пьянок…
Как-то во время большой перемены ребята затеяли в полупустом классе возню. На Фурмана, заглянувшего туда через открытую дверь из коридора, кого-то мощно толкнули, он отлетел назад, ударился спиной о чье-то хрупкое тело и повалился на него, успев с испугом подумать, что это девчонка. Вскочив, Фурман увидел странное мальчишеское лицо с обиженно-беспомощным выражением, виновато пробормотал «извини» и стал помогать парню подняться, уже узнав его – это был известный хулиган-семиклассник по кличке Седой. Говорили, что он водит дружбу с настоящими уголовниками. Как раз неделю назад, когда все гурьбой возвращались домой после футбола, им повстречалась жутковатая компания Седого. Большинство ребят струхнули, но при сближении выяснилось, что некоторые из них чуть ли не приятельствуют с этой стаей, и Фурману вместе со всеми довелось пожать его вялую ладошку. Ростом он был Фурману по плечо, худенький, с длинным ежиком неопределенно-пепельного цвета; его тяжелые веки с пушистыми ресницами всегда были наполовину опущены, отчего взгляд казался холодным и наглым. Но странное впечатление «прожженности» придавали этому мальчишескому лицу не глаза, а серовато-желтая, болезненно высохшая кожа с глубокими морщинами. Видно, детский организм все же не справлялся с теми нагрузками, которые ему приходилось испытывать…
Поднявшись с помощью Фурмана, Седой стал озабоченно отряхиваться, а потом вдруг резко пихнул Фурмана в грудь. Он был намного легче, поэтому Фурман даже не сдвинулся с места, только удивленно воскликнул: «Ты чего?!» Седой хотел повторить свой тычок, но Фурман машинально отбил его руки: «Слушай, чего ты ко мне лезешь?» – «А хули ты меня толкнул, сука», – хрипло сказал Седой. «Да меня самого толкнули! Я случайно на тебя упал…» Но Седой без разговоров вцепился в отвороты его пиджака и попытался сделать подножку – раз, другой, третий – всё как-то неудачно. Некоторое время они раскачивались и пританцовывали, внимательно глядя друг другу на ноги, – смешная парочка, – а потом малыш сбоку размашисто мазанул кулаком Фурману по губе. Сдержав ярость, Фурман крепко обхватил его и… возникла дикая патовая ситуация. Вокруг продолжалась обычная школьная суета: кто-то бежал по коридору, рядом болтали девчонки, из класса доносился грохот. А Фурман удерживал в вяжущем объятии маленького страшного мальчишку, который безнадежно тужился, брыкался и матерился: «А ну пусти, тварь! Убью!.. Сейчас получишь у меня!» – «Ты ведь меня уже ударил. Давай будем считать, что ты мне уже отомстил». – «Пусти руку, гад… Ты еще не знаешь, с кем связался!» – «Знаю-знаю… – печально отвечал Фурман. – Только я не собираюсь с тобой драться. Ты зря стараешься». Однако Седой извернулся и двинул ему коленкой между ног, лишь чуть-чуть не достав до цели. Фурману пришлось удвоить оборонительные усилия. Одновременно он продолжал с отчаянной настойчивостью объяснять своему чудовищному пленнику, что толкнул его не по своей воле и при этом сразу извинился, но если надо, готов извиниться еще столько раз, сколько потребуется, а драться с ним не будет, потому что для этого у него нет ни причины, ни желания. В ответ Седой с пеной на губах изрыгал какие-то фантастические ругательства, и Фурман говорил ему, как маленькому: вот это да, здорово, а еще что-нибудь такое же можешь придумать?..
Бедному Седому, привыкшему наводить страх одним своим появлением, конечно, уже до смерти надоела вся эта бесплодная возня и нелепые разговоры, особенно учитывая наличие зрителей (пусть и изображавших равнодушие), но он упорно отказывался дать обещание, что не будет драться, а без этой смешной клятвы Фурман боялся его отпустить. В ответ на бессильное детское обвинение в трусости Фурман сказал, что они оба прекрасно понимают, что честная драка между ними невозможна: «Ты сам-то послушай свои угрозы и то, что ты говоришь про своих друзей… Спасибо за приглашение, но у меня нет таких друзей, которые захотели бы драться с твоими. Я вообще в этом районе первый год живу. Кроме тебя, больше никого здесь не знаю…»
В нужные моменты мышцы Фурмана сами собой напрягались, гася яростные рывки схваченного им опасного собеседника, его речевой аппарат без задержки производил удачные реплики, восприятие было необычайно обострено: он ощущал близкий кисловатый запах табачного перегара, слабые струи холодного свежего воздуха из открытого в классе окна, отчетливо, до ниточки, видел плетение ткани на рукаве своего потертого серого школьного пиджака, слышал одновременно множество звуков с разных сторон, – но все это было лишь бутафорией, отвратительным спектаклем, и самое ужасное, что откуда-то сверху, из белых ватных облаков, за этим позорным действием наблюдали главные зрители фурмановской жизни: взволнованный Боря, растерянные бородатые старики Толстой и Достоевский и холодно насмешливый доктор Чехов… Это ведь они научили Фурмана вести себя так – и что теперь?!
Уже прозвенел звонок на урок, кто-то из ребят попытался по-свойски уговорить Седого успокоиться, но тот так зашипел, что доброжелатели в испуге отступили. Спасителем оказалась проходившая мимо завуч: мол, в чем дело, почему вы еще не в аудитории, чтобы через секунду здесь никого не было, а ты, Седов, смотри у меня… На прощанье Седой пообещал встретить Фурмана на выходе из школы.
Учительницы все еще не было, и знающие ребята с бодрыми улыбками сказали, что Седой вряд ли исполнит свои угрозы. Тем более что Фурман его не бил. Но на всякий случай можно ведь просто пораньше уйти с уроков…
Место Фурмана было за первой партой в ряду у окна. Посидев минутку, он ощутил во рту слабый привкус крови и почувствовал тяжесть в нижней губе – видимо, она слегка поранилась о зубы при ударе… Внезапно до него начал доходить весь кошмарный смысл случившегося (точнее, его неминуемые последствия), и он едва не завыл от отчаяния и одиночества. Заступаться за него никто не станет, а тех, кто будет поджидать его на выходе из школы, он легко мог себе представить. Картины одна страшнее другой замелькали перед ним. Спасаясь от подступающего мрака, он вырвал из середины тетрадки двойной листок и стал быстро писать своим разборчивым почерком:
Главные недостатки движения комсомольцев под рук-вом И. Смирнова
Стихийность движения, отсутствие какой бы то ни было определенной цели и планов.
Отсутствие четкого рук-ва со стороны партийных и комсомольских кругов.
Стремление рук-ва к массовому привлечению безыдейных и асоциальных лиц и групп к движению «протеста». Примером подобной полит. активности служит движение молодежи на Западе и в Лат. Америке.
Нет, все это было не то. Нужно говорить о главном – о причинах. Он перевернул лист и начал писать на внутренней стороне разворота:
Отсутствие классового сознания, рев. активности, незнание основ теории марксизма-ленинизма.
Частнособственническое, мелкобуржуазное, эгоистическое мировоззрение, воспитываемое в семье и школе.
Абсолютное невежество, бескультурье, незнание и непонимание норм коммунистической морали и вообще неразличение добра и зла.
Массовое пьянство, мелкое хулиганство.
Цинизм, разврат и опошление лучших чел. чувств.
Все это порождено несоответствием между реальной обстановкой формального отношения к пропагандируемым лозунгам и бездействием, даже против…
Он собирался написать «противодействием», но тут его соседка Надя заглянула в его листочек, сделала большие глаза, озабоченно покачала головой и сказала: «Сашка, ты в своем уме? Давай-ка лучше поиграем в “морской бой”». Фурману было все равно, лишь бы отвлечься, и он на соседней страничке начертил два игровых поля. Первую партию он довольно быстро проиграл, вторую выиграл, третью проиграл в упорной борьбе, а в четвертой победил с большим преимуществом. Наде уже наскучило сражаться, и она, взяв фурмановский листок, вывела снизу на последней странице крупными жирными буквами:
САШКА
А потом на пустом месте слева почему-то нарисовала большой темный крест.
Следующие два часа Фурман угрюмо прощался с жизнью. Ему было очень жалко себя, но он твердо решил, что убегать и прятаться от этой мелкой районной шпаны не будет. Главное, что он не сделал ничего плохого и ни перед кем не виноват. А сегодня они его найдут или завтра – какая разница?
Но ни перед школой, ни по дороге домой его никто не ждал, и он тщетно убеждал себя, что радоваться отсрочке глупо – Седой просто не успел оповестить своих.
До вечера Фурман кое-как продержался, а когда лег, жалкие рациональные преграды рухнули и страх начал крутить свое бесконечное кино. После множества унизительнейших эпизодов с применением разнообразных форм насилия сюжет застрял на одном чрезвычайно болезненном моменте: Седой бьет Фурмана коленом по яйцам. Когда это произошло в двадцатый раз подряд, сознание сдалось окончательно. Первобытное сновидческое тело героя вышло на тропу войны и занялось неотвратимым возмездием: найти и кастрировать, кастрировать гада! – откуда-то взявшимся ржавым серпом, складным ножом, палкой от забора, голыми руками…
Он промучился еще два дня, но ребята оказались правы: Седой со своей сворой так и не появился.
Надя, с которой Фурман на некоторых уроках сидел на одной парте, занимала в классе особое положение. В отличие от нескольких других пользовавшихся вниманием девушек, парни уважительно считали ее «своей в доску», а она относилась к ним с покровительственной заботой, иногда царственно приближая к себе кого-то одного. Во время зимней поездки на Валдай, уже на обратном пути, когда их три с лишним часа укачивало в кузове грузовика-вездехода на глухом бездорожье, именно Надя по-сестрински позволила сидевшим рядом замерзшим мальчишкам прижаться и безвольно прикорнуть у нее на плечах и коленях. Фурману тогда тоже посчастливилось согреваться ее теплом… Впрочем, она могла и резко выругаться, и треснуть того, кто вызвал ее мгновенное недовольство, – в подобных случаях «пострадавший», криво посмеиваясь и потирая больное место, предпочитал быстренько отбежать от нее подальше. Учеба Надю не занимала, а учителя почти никогда не вызывали ее к доске. На уроках она обычно играла с Фурманом в «крестики-нолики», «слова» и «морской бой». Однако пару раз у них случались серьезные разговоры по поводу каких-то происходивших в классе событий, и Фурмана поразило обнаружившееся у Нади абсолютное отсутствие лидерских амбиций. Она смотрела на мир со спокойной грубоватой трезвостью и очень четко знала свое место, хотя в том, что касалось лично ее, была по-взрослому свободна и независима.
С наступлением последней школьной весны девчонки словно спохватились, и классные вечеринки заметно «потеплели». На одной из них быстро захмелевший Фурман, опасно раскачиваясь вместе с высокой стройной Надей под грохочуще-интимную музыку, тоскливо решил наконец «быть как все», и его правая рука начала незаметно переползать по телу партнерши, подбираясь к ее левой груди. Выдвинутый вперед большой палец уже вступил в осторожный контакт с упругим круглым холмиком, но тут Надя дернулась: «Сашка! Ты что это делаешь?! А ну, прекрати сейчас же!» «Да-а, всем другим почему-то можно, а мне нельзя?..» – с пьяной обидой тихонько пробормотал Фурман. «Что ты сказал? Ты с ума сошел? Считай, что я этого не слышала. Ты ведь не хочешь, чтобы я на тебя обиделась?» – «Нет». – «Тогда убери, пожалуйста, свою руку на место и веди себя хорошо. Договорились?» Фурман стыдливо кивнул.
Дождавшись конца танца, он плюхнулся на диван и погрузился в отчаяние. Конечно, Надя поступила правильно, и он должен быть благодарен ей за то, что она не позволила ему опуститься до пошлого «лапанья»… Господи, ну почему, почему ему нельзя быть «как все»?! Вон ведь что выделывают сейчас руки того, с кем она пошла танцевать. Что ей, жалко было немножко притвориться?.. На Валдае одна из девчонок обозвала его «тюфяком». И точно – мерзкий, никчемный тюфяк!..
Да чего ты так разнылся-то, удивился он самому себе. Неужели только из-за того, что тебе не удалось кого-то полапать? Ну, а если бы удалось – что это изменило бы в твоей вонючей жизни? Ничего? Тогда сиди и не рыпайся.
Поскольку вопрос о поступлении в институт для Фурмана больше не стоял, он решил, что и школьные выпускные экзамены сдавать не будет: мол, не нужны ему все эти бессмысленные унижения и лицемерие, а без аттестата о среднем образовании он как-нибудь проживет, – в крайнем случае, если очень понадобится, закончит вечернюю школу. Родителей, конечно, чуть удар не хватил, когда он им об этом сказал, но они уже просто не знали, что с ним делать. Да и сам Фурман, несмотря на свою браваду, с трудом представлял, чем он займется после того, как ему не надо будет каждый день ходить в школу. Пойти в водители троллейбуса? Почтальоны?.. К счастью, еще несколько месяцев об этом можно было не думать.
Вскоре с Фурманом произошла еще одна нелепая история. Из школы он обычно возвращался вместе с Костей Абдурахмановым – веселым кареглазым блондином, жившим в соседнем доме. В тот день Костя был чем-то заметно огорчен и в ответ на расспросы Фурмана признался, что у него неприятности: он взял у одной из девчонок книжку и где-то ее посеял. Всё бы ничего, но оказалось, что книжка принадлежала не самой девчонке, а ее родителям, и они потребовали ее вернуть. Девчонка пока не сказала им, что книга пропала, потому что из-за этого у нее дома будет грандиозный скандал. Короче, теперь он должен где-то найти точно такую же книжку. Может, стоит наконец записаться в библиотеку и спереть оттуда? Фурман поинтересовался, что за книжка, и Костя, чертыхнувшись, сказал, что это том из собрания сочинений Виктора Гюго с романом «Человек, который смеется». Слегка подивившись про себя интересам одноклассников, Фурман сочувственно покачал головой: да, если из собрания сочинений, то вариантов нет. Если только в букинистических магазинах поискать…
Через несколько дней он спросил Костю, удалось ли ему найти книжку. Костя не сразу понял, о чем идет речь, но потом сказал, что с этим все глухо. Наверное, ему придется пойти и во всем покаяться, так как родители девчонки уже рвут и мечут, а она сама плачет и обвиняет его в том, что он ее подставил. Он даже готов отдать стоимость книги деньгами, но, похоже, родителей это не устроит…
Точно такой же пятнадцатитомник Гюго темно-изумрудного цвета стоял у Фурмана дома. Он еще в седьмом классе прочел его почти целиком, и, если честно, «Человек, который смеется» ему совсем не понравился. (Правда, там было одно эротическое место, где описывалась техника «глубокого» поцелуя с использованием языка, и эта мерзость буквально насквозь прожигала мозги невинного читателя.)
Внезапно Фурмана охватил неудержимый порыв благородства, и он решил «спасти» друга Костю и эту девчонку – принеся при этом в жертву никчемного себя, а точнее, часть своего будущего наследства. Он понимал, что собрание сочинений без одного тома сильно потеряет в цене. Но ведь родители не собираются в ближайшее время продавать его и уж тем более – перечитывать этот дурацкий роман! В конце концов, можно будет докупить этот том в букинистическом…
Костя совершенно не ожидал такого подарка, но отказываться не стал. Однако сразу после этого их отношения необъяснимо испортились, и недели две Фурман возвращался домой в одиночестве.
Когда он сообщил о своем поступке родителям, они были в шоке. Мама заявила, что буквально несколько дней назад ей захотелось перечитать именно этот роман и что так ведут себя только сумасшедшие и наркоманы – тайком выносят вещи из дома; а я и есть сумасшедший, могу даже справку тебе показать, не преминул отметить Фурман; папа же лишь с недоверчивым изумлением поглядывал на сына и молча качал головой, в которую происходящее явно не укладывалось.
Между тем Боря на своей далекой Камчатке тоже не дремал. В середине апреля он – видимо, отвечая на мамины вопросы – писал:
Дорогая мама!
Должен порадовать тебя тем, что никаких планов на будущее у меня пока попросту нет. Думаю, что до приезда в Москву в этом вопросе вряд ли возможно какое-то прояснение. Могу лишь сказать, что: 1) я собираюсь усиленно заниматься шахматами и играть в турнирах; 2) я не собираюсь работать в школе; 3) если я и буду где-то работать, то при условии, что не буду очень загружен, не буду уставать, от меня не потребуется творческой активности и мои чувства не будут возмущаться этой работой. У меня нет особого желания работать с людьми и тем более – с детьми. Шахматами я хочу заниматься, потому что эта деятельность (игра, творчество) доставляет мне ни с чем не сравнимую интеллектуальную радость. Разумеется, удовольствие мне доставляет только хорошая игра, поэтому мне надо много работать над совершенствованием своей игры. Ясно, что лучше всего заниматься в качестве основной работы тем, что тебе доставляет удовольствие, т. е. для меня – шахматами. Но тренером я пока работать не могу. В идеале лучше всего не работать нигде, пока я не смогу жить только игрой, но когда это будет – и будет ли, – одному богу известно. Денег у меня хватит больше чем на год наверняка (больше 2 тысяч). Но в принципе я не отказываюсь поступить на работу, удовлетворяющую вышеприведенным требованиям. Спешить искать работу я не собираюсь – надо осмотреться, подумать, а дальше будет видно.
Ты все со смаком описываешь Сашины аномалии, констатируешь факты и т. д. Но от этого никому не легче. Если не можешь на него повлиять, то лучше оставь его в покое. Пусть сам ищет «пути к истине». Тем более что у каждого свои пути. Чтобы избежать конфликтов, относись к нему как к личности, а не как к больному ребенку. Это у тебя старческий маразм (или, точнее, «материнский» маразм). Охотно верю, что родители (глупые) по инерции все еще считают взрослых детей неразумными младенцами, хотя надо еще выяснить, кто ближе к младенчеству – дети или сами родители. Когда тебя в 17 лет учат, как держать ложку, естественно, хочется стукнуть этой ложкой по голове учителя. Постарайся найти в себе хоть какие-нибудь зачатки материнской чуткости и любви. А пока вы только всеми силами ухудшаете его положение. Впрочем, я не знаю ваших там отношений, и разбирайтесь сами как хотите…
Среди всей этой тоскливой суеты вдруг произошло чудесное событие: позвонил Юра из психбольницы. Оказалось, что он уже давно разыскивает Фурмана и почти потерял надежду найти его – ведь тот переехал и никому не оставил ни своего нового адреса, ни номера телефона. А все очень хотят его увидеть. Кстати, скоро состоится очередной сеанс, и он может считать этот звонок официальным приглашением. Взволнованный Фурман на следующий же день поехал в отделение – и действительно, там все обрадовались его появлению: и Юра с Олей, у которых продолжал развиваться нежный роман, и повзрослевшая женственная Женя, и ничуть не изменившийся ироничный Рамиль, и Таня, и еще куча старых знакомых, включая быстро признавших его собачек. Кстати, их теперь стало четверо – полтора месяца назад Эрна родила серенькую дочку, похожую на немецкую овчарку (это при черно-белом Марсе и черно-рыжем Рексе – хотя кто из них был отцом, неизвестно). У щенка до сих пор не было клички, и на прощанье Фурману предложили подумать над тем, как назвать «новенькую».
Он отнесся к этому предложению очень серьезно, посвятив несколько дней перебору вариантов. Неопределенность с отцовством и «общинный» образ жизни собак подталкивали к созданию некой аббревиатуры, учитывающей всех возможных участников события, и в конце концов он остановился на МЭРи (Марс – Эрна – Рекс). Необходимая в женском роде «и» на конце могла бы означать скромное «и другие». Имя прижилось, и Фурман был этим очень горд.
В школе все уже тревожно готовились к экзаменам, уроков на дом задавали мало, и он теперь ездил в больницу чуть ли не через день. Родителям это очень не нравилось. С трудом сдерживаясь, мама говорила: «Я просто не могу понять, что ты там делаешь и зачем тебе все это надо». – «У меня там друзья, и я с ними общаюсь, потому что здесь у меня друзей нет. А если ты боишься, что я снова захочу лечь в больницу, то могу тебя утешить: я не собираюсь это делать», – с насмешливой Бориной надменностью отвечал Фурман.
На самом деле эйфория от встречи у него уже прошла, и он отдавал себе отчет в нелепости своего «гостевого» статуса.
Во время одного из его визитов вдруг потребовалось срочно произвести генеральную уборку собачьих помещений (грозила нагрянуть какая-то инспекция). Юра в этот день отсутствовал, а его нынешний тихий помощник Володя в одиночку явно не справился бы с авральным заданием, поэтому сестры попросили Рамиля помочь ему. Фурман добровольно присоединился к ним, тем более что работа была ему хорошо знакома: выскоблить «пол» до твердой земли и насыпать сверху уже принесенный чистый песок. Заодно можно было и поговорить.
Правда, настроение у Рамиля оказалось не самое лучшее. Он был недоволен всем на свете, всюду видел какие-то козни и беспощадно разоблачал всех окружающих. Поначалу Фурман лишь мягко посмеивался, но Рамиля несло, и он говорил со все бльшим ожесточением. По его словам, на следующий же день после выписки он собирался подкараулить на улице воспитателя отделения Владимира Андреевича и «как следует набить ему морду». За что конкретно, Рамиль так и не объяснил – мол, есть за что. (Тридцатипятилетний Владимир Андреевич, бывший актер и спортсмен, появился в отделении прошлым летом, когда БЗ ушел в отпуск. Как выяснилось, за год отношение к нему очень изменилось, и теперь многие отзывались о нем с большим раздражением. Однако к «приходящему» Фурману Владимир Андреевич проявил такое внимание, что тот даже принес ему пару своих наиболее удачных школьных сочинений и стихи.) Рамиль с одинаковой злобой говорил и о девушках, и о БЗ, и даже о собаках, что было совсем уж смешно. Впрочем, шутки Фурмана, а главное, его иждивенческий образ жизни ему тоже чрезвычайно не нравились, и в какой-то момент они едва не поссорились по-настоящему – но не из-за «идейных» разногласий, а просто потому что Рамилю, как видно, надоело работать, и он начал халтурить: плохо очистил свой участок от грязной земли, лишь для виду присыпал его тонким слоем песка, да еще и стал разводить по этому поводу целую философию. Фурман упрекнул его, Рамиль ответил резкостью… В общем, Фурман уехал из отделения расстроенным.
На сеансе Фурман, чувствуя себя уже опытным «профессионалом», с легкостью выполнял все команды БЗ и покровительственно поглядывал на взволнованных соседей, впервые принимавших участие в подобном «психиатрическом представлении». Но потом ему стало стыдно за свою самонадеянность – ведь на сцене в мучительном напряжении дергались его товарищи, и их «исцеления» никто не гарантировал…
Когда основная часть уже закончилась – «заклятие» было снято, и каждый из стоявших на сцене, к всеобщему ликованию, сумел почти без запинки произнести магическую формулу «Я могу говорить!» – Борис Зиновьевич неожиданно объявил, что это еще не все. Теперь, после того как ребята публично доказали всем – но прежде всего самим себе, – что они смогли победить свою болезнь и готовы свободно общаться с другими людьми, им предстоит еще одно, последнее испытание.
Нельзя забывать о том, сказал БЗ, сколько лет каждый из ребят провел один на один со своим недугом. За это время они успели привыкнуть к болезни, сжились с нею, и все органы, все мышцы, благодаря которым мы можем издавать самые разные звуки, вынужденно приспособились к неправильному способу работы. Сегодня мы впервые за долгое время заставили их работать по-другому – так, как они и должны это делать в нормальных условиях. И понятно, что сейчас все мы хотим только одного – всласть наговориться с нашими дорогими ребятами. Но, как и после любой сложной операции, если мы сразу дадим слишком большую нагрузку на оперированный орган, может произойти срыв. Поэтому, чтобы закрепить сегодняшний успех, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Главная из них заключается в том, что в течение суток после сеанса те, кто прошел эту процедуру, должны полностью воздерживаться от речи. Любое нарушение этого запрета может пустить насмарку все предшествующие усилия, весь долгий процесс лечения. Поэтому все, кто в течение следующих 24 часов будет находиться рядом с участниками сеанса, по отношению к ним должны так же беспрекословно соблюдать этот запрет.
Ответив на несколько глупых вопросов из зала, БЗ объявил, что с этой минуты на всей территории отделения вводится особый режим жизни, который по традиции называется «День молчания».
На прошлом сеансе Фурман не был знаком ни с кем из участников. Он и в обычной-то жизни ни разу с ними не разговаривал, поэтому тогда все это прошло как-то мимо него. А теперь на него смотрели сияющие, одновременно плачущие и смеющиеся глаза, его обнимали, хватали за руку, вели в сад и там крепко прижимались и ласково толкались в порыве немой радости, и самым странным казалось то, что он продолжает все слышать, звуки никуда не исчезли – шелестели листья, поскрипывали стволы, чирикали птицы – только речь прекратилась. И все, кому было не запрещено говорить, поначалу даже друг с другом делали это с трудом – откашливаясь, мучительно сглатывая слюну и неуверенно подыскивая слова…