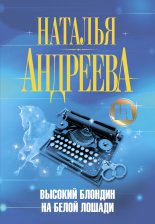Книга Фурмана. История одного присутствия. Часть III. Вниз по кроличьей норе Фурман Александр

Я могу столько рассказать вам, но я не стану писать, ведь вы рядом. Плохо только, что иногда бывает далеко до вас ехать из других городов. А понимаем мы друг друга, конечно, не всегда с полуслова, но зато всегда понимаем. И нет в нас взрослой любви к злой сплетне, наговору и прочей чепухе. Никогда с моими товарищами не было разговора о том, что я думаю и делаю что-то «противоречащее “Товарищу”», никто из них не думал – я знаю, – что от меня «пахнет чужим запахом», которым «не принято» пахнуть в «Товарище».
Я был комиссаром вместе с вами, когда вы еще верили мне, – кто из вас тогда сказал мне, что я делаю что-то не так, как надо? А сейчас один человек посмел сказать: «Мало ли что было на откровенном разговоре. Время покажет, каким комиссаром ты был».
А я боюсь обидеть этого моего товарища – он все равно мой ошибающийся товарищ – неверным словом.
Я верю не верящим мне товарищам. Вот и всё.
Котлован
На призывной медкомиссии олодой черноволосый врач, не отрываясь от заполнения бумаг, задал присевшему за его стол Фурману стандартный вопрос: «К психиатру не обращались? На учете не состояли?» – и уже приготовился поставить прочерк в нужной графе. Невыспавшийся Фурман с унылой покорностью задумался над тем, каким из двух предложенных вариантов можно охарактеризовать то, что случилось с ним два года назад. «Обращался», – неуверенно сказал он. Врач удивленно поднял на него маленькие карие глазки: «Да? И при каких же обстоятельствах, интересно?» Оказалось, что в личном деле Фурмана нет никаких упоминаний о его пребывании в детской психушке. Недоверчиво посматривая на загадочного призывника, врач с его слов настрочил направление в детский психоневрологический диспансер № 6 г. Москвы и объяснил, что там надо взять выписку из истории болезни для военкомата.
В больницу Фурман отправился вместе с мамой. Во дворе родного отделения, куда они сначала зашли, их встретила старшая сестра (БЗ отсутствовал). Узнав, зачем они пожаловали, она неожиданно рассердилась: зачем Фурман сказал на медкомиссии, что он здесь лежал?! Никакого серьезного заболевания у него нет, и они специально не стали ничего официально сообщать в районную поликлинику, чтобы его не поставили на учет и не испортили ему этим всю дальнейшую жизнь. Вот почему в его документах нет никаких упоминаний о больнице. Если бы он сам об этом сдуру не брякнул, сейчас спокойно пошел бы служить вместе со всеми! А теперь начнется целая история… Бася Иосифовна в ответ тоже завелась: никто не предупредил нас, что мы должны молчать, и это снимает с нас всякую вину. Если же вы считаете, что что-то было сделано неправильно, то вам следовало бы не кричать на нас, а обратиться к своему начальству, чтобы оно разобралось и строго спросило с того сотрудника, который по каким-то причинам не проинструктировал своего пациента, как ему себя вести. Тем более, когда это касается такого серьезного вопроса, как служба в армии. Ведь речь идет не только о судьбе человека, который вам доверился и за которого вы несете ответственность, но и об интересах государства… Побагровевшая мама рвалась в бой, и Фурман с трудом утянул ее за ворота – скандалить на глазах у всех было стыдно и бессмысленно, да и выписку, как выяснилось, им нужно было получать в общей больничной регистратуре в главном здании. Они отстояли длинную очередь, но на руки им так ничего и не выдали, сказав, что отправят «секретный» документ в военкомат по почте.
Дело затягивалось, и Фурман, голова которого была занята в основном подготовкой к сбору и собственным комиссарством, через пару дней вернулся в Петрозаводск. К тому, что уже совсем скоро ему придется уйти в армию и на два долгих года погрузиться в тупую и грубую солдатскую жизнь, он относился без особых раздумий, как фаталист.
В конце апреля его опять вызвали в военкомат. Но он в любом случае больше не мог оставаться в Петрозаводске. Три месяца назад он бросил все и отправился туда, словно в паломничество, мечтая об огненной простоте служения людям и избавлении от одиночества. А теперь вдруг с ужасом понял, что те, кого он считал своими соратниками, видят в нем какое-то странное, чуждое, опасно разрушительное существо. Чудовище. Этот глубинный страх – оказаться не человеком, а «чудовищем» (отвратительным гигантским насекомым, заводной куклой, инопланетным роботом-андроидом с неизвестной внутренней «программой»), был для Фурмана абсолютно нестерпим.
Конечно, он сам слишком нагнетал это ощущение собственной «чудовищности». Последней каплей для него стало всего лишь то, что одна из авторитетных «товарищеских» девушек за глаза назвала его «бабником», а доброжелатели ему об этом сообщили. Вообще-то Фурман уже знал по опыту, что его необычайно доверительные личные отношения с широким кругом не слишком любящих друг друга людей некоторых из них смущают, а кое у кого вызывают ревнивую обиду. Но разве он виноват, что в «Товарище» почти не было парней его возраста и его жажда человеческого братства находила отклик в основном у «сестер»? Он и сам одно время тревожился по этому поводу. Но ведь в его московском кругу таких проблем не возникало! А слово «бабник» разом переводило все это в какой-то невыносимо пошлый ряд. Хотя, даже если допустить, что им движет именно этот интерес, – зачем ему надо было уезжать так далеко от дома? Неужели в Москве своих «баб» не хватает?! Или в Петрозаводске они какие-то необыкновенные?..
Единственным читателем его возвышенно-яростного «открытого письма» стала Люда Михайлова, студентка-медик, у которой он прожил последний месяц. Все эти бешеные фурмановские переживания оказались для нее полной неожиданностью. Она отчаянно хотела помочь ему, но не знала как. Да и чем можно помочь Чудовищу? Его же нельзя просто переубедить. А в мучительном разговоре с ней Фурман зашел совсем уж далеко: если я действительно такой, каким они меня видят, сказал он, я должен убить себя, потому что я не могу с этим жить. «Ну что ты такое говоришь, Фур?! – беспомощно возмутилась бедная Людка своим тихим тоненьким голоском. – Не смей даже думать об этом, слышишь?! Обещай мне!..» Собственно, только это ему и требовалось – почувствовать, что кто-то переживает за него, и значит, все не так ужасно, как ему казалось. Прощаясь, Фурман пообещал, что постарается не делать глупостей.
В военкомате ему дали направление на прохождение военной экспертизы в городской психиатрической больнице № 13. Было не очень понятно, что это означает, но, похоже, обещанные сложности начались. Мама отпросилась с работы, и они поехали на прием к очередному психиатру.
Было уже 28 апреля. Весеннее солнце в легкой дымке второй день подряд удивленно пробовало свои силы, и за окнами кабинета, расположенного на первом этаже, все возбужденно дышало, отзываясь на головокружительное обещание скорых перемен.
Хозяин кабинета, предложивший новым посетителям сесть и подождать, пока он закончит с предыдущими делами, еще несколько минут сосредоточенно что-то дописывал, потом убрал бумаги в стол и подтянул к себе новую папку.
– Так, – вздохнул он и вслух начал читать, кто перед ним сидит и по какому делу. Готовясь к вопросам, Фурман крепко сцепил ледяные руки, чтобы сдержать бившую его дрожь. Речь доктора вскоре превратилась в невнятное бормотание. Забывшись, он тяжело засопел. Открытая форточка подрагивала в воздушном потоке, изводя судорогами и без того нервного солнечного зайчика, вцепившегося в крашеную стену успокоительной расцветки.
– Ну что ж, будем ложиться, – вдруг сказал врач.
Как, прямо сейчас?! Этого они никак не ожидали. Ведь впереди были выходные, а потом долгие майские праздники – какой же смысл ложиться на это время в больницу? Да они и не взяли с собой ничего из вещей!
– Все, что ему там потребуется: тапочки, зубную щетку и прочее, вы можете передать сегодня или завтра, – меланхолично произнес врач, обращаясь к Басе Иосифовне. – Список разрешенных вещей вывешен в приемном отделении.
У мамы выступили слезы, но она постаралась овладеть собой – в кабинете уже появилась вызванная врачом старушка-нянечка, и нужно было прощаться. Мама виновато погладила Фурмана по плечу: «Ну, ладно уж, сыночек, ничего не поделаешь… Зато, может, все это побыстрее закончится». Он взглянул на нее со злобной растерянностью, и нянька увела его через боковую дверь.
Сделав несколько дезориентирующих поворотов в коротких узеньких коридорчиках, они оказались в просторной комнате с голыми белыми стенами, посреди которой стояла чугунная ванна. В комнате была еще одна дверь. Велев Фурману ждать здесь, бабка вышла. Пока он тоскливо озирался вокруг, она в соседнем помещении, судя по звукам, что-то доставала из большого металлического шкафа.
– Раздевайся, чего стоишь!
Бабка вернулась с ворохом каких-то одежд и белья и, развешивая все это по трем настенным крючкам, кивнула на облезлую табуретку:
– Вот сюда клади.
Он начал медленно раздеваться, а бабка тем временем еще раз сходила в соседнюю комнату – за мылом, и потом стала ополаскивать ванну из душевого шланга. Оставшись в трусах, Фурман сложил руки на груди и, переступая босыми ногами на холодном кафельном полу, со смутным подозрением наблюдал за ее действиями.
– Давай-давай, до конца, что ты как маленький, – привычно подбодрила бабка, даже не взглянув в его сторону. – Залезай.
Господи, она ведь просто обдала ее водой и все! А кто здесь мылся перед ним…
– Ну-ка, нагнись… Сядь, садись! Вши есть? – спросила она, держа в правой руке шланг, а левой взъерошив ему волосы на макушке.
Голова была мытая.
– Нет. Я ж из дома… – еле слышно ответил он.
Бабка включила воду, потом несколькими тяжелыми движениями намылила ему голову, провернула в ушах, поскребла затылок и смыла пену.
– Сам дальше можешь?
Он оторопело кивнул, протирая глаза.
– Давай, намыливайся хорошенько!
Бабка унесла все его вещи, сложенные на табурете, и вернулась с белым вафельным полотенцем.
– Ну все, помылся? Ополоснись-ка еще…
Такими же тяжелыми движениями она вытерла ему голову и, оставив полотенце, опять вышла.
Верхние, не замазанные белой краской части двух высоких окон успели запотеть. Сгустки пара, витавшие над ванной, по спирали устремлялись к потолку и на глазах исчезали. В отсыревшей комнате стало намного холоднее, чем раньше.
– Ну, что копаешься? Одевайся, вот в это, – теперь она досадливо торопила его, как будто за дверью ждала очередь. Выдано ему было все безразмерное: вместо трусов и майки – белые кальсоны с тесемками на поясе и нижняя рубаха с распахнутым воротом без пуговиц, а в качестве верхней одежды – чудовищные синие портки, которые ему пришлось придерживать рукой, и бесформенная пижамная куртка стертого изумрудного цвета, вся в каких-то пятнах, как он потом заметил. Со штанами все было настолько плохо, что нянька сама решила их заменить, принеся еще более заношенные, белесо-коричневатые, но зато не такие огромные. Временные черные тапочки из войлока до странности напоминали шапки и держались на ногах только будучи плотно прижатыми к полу. Однако с обувкой выбора не было.
По гулкой пустой лестнице они медленно поднялись на второй этаж. Бабка достала из кармана халата изогнутую отмычку, отперла глухую белую дверь и пропустила Фурмана вперед. Внутри был широкий коридор, в котором неспешно прогуливались парами, оживленно беседовали, сидя по трое на лавках, или одиноко подпирали стены разнокалиберные взрослые мужчины в таких же разноцветных, нелепо болтающихся пижамах, как и на Фурмане. Бабка строго сказала, чтобы он никуда не уходил, а сама направилась к двум здешним нянькам, сидевшим неподалеку и зазывно махавшим ей. Фурман решил, что здесь ему придется жить две или три недели, и, ощутив мгновенную слабость, начал приглядываться, прислушиваться и принюхиваться.
Вскоре из ближайшей палаты бодрой походкой вышел невысокий краснолицый мужичок средних лет. Заметив «новенького», он изменился в лице и с чрезвычайно приветливым видом подкатился знакомиться – даже руку протянул для пожатия. В завязавшемся разговоре выяснилось, что весь второй этаж занимает одно специализированное отделение и что все здешние мужики – это алкоголики, находящиеся на принудительном лечении. (То-то у большинства из них были такие одинаково красноватые лица…) Бабы-алкоголички, как жизнерадостно сообщил собеседник, размещались дальше по коридору за железной дверью. Однако, узнав как бы между делом, что у новенького нет при себе сигарет и что он вообще не курит, словоохотливый мужик тут же потерял к нему всякий интерес. На последний, отчаянный, дважды повторенный вопрос Фурмана он, уже через плечо, недовольно пробормотал: «Ну, если ты это, не по нашей части, тебя, наверно, отправят наверх…»
Нянька, закончив болтать со своими товарками, снова вывела заждавшегося Фурмана на лестницу. Поднималась она тяжело, с мучительным кряхтеньем подтягиваясь одной рукой за перила (другой она крепко прижимала к себе картонную папку с документами) и через каждые две-три ступеньки останавливаясь, чтобы перевести дух. Во время этих все более продолжительных остановок она начала что-то приговаривать – скорее себе под нос, чем обращаясь к Фурману: «Спешить-то нам некуда, так? А ноги-то уже совсем не ходят. Все, отбегалась…» Уже почти добравшись до площадки третьего этажа (по лестнице можно было подняться и выше), она вдруг добродушно спросила, впервые посмотрев ему в глаза: «Ты ведь у нас призывник, верно?» Он кивнул и, поколебавшись, все-таки решил спросить, куда его положат. «А вот сюда и положат, миленький, – с готовностью показала она на близкую, сильно поцарапанную белую дверь без ручки, – в общее отделение».
В новом коридоре Фурмана сразу поразили многоголосый гам и какая-то сложносоставная вонь. Вскоре он с ужасом понял, что так называемое «общее» отделение – это просто самый настоящий сумасшедший дом, густо населенный экзотически отталкивающими типами, словно сошедшими с картин Босха или Гойи. Здесь все непрерывно свирепо матерились, орали, визжали, шипели, бесстыдно пердели, пускали слюни, размазывали сопли, отнимали друг у друга еду и затевали короткие драки с хитроватой оглядкой на крикливых пожилых санитарок. Поселили Фурмана в большой двадцатиместной палате под номером 6 (привет от доктора Чехова). В первый же день он стал случайным свидетелем быстрого и умелого коллективного изнасилования в туалете. Растрепанная жертва – здоровенное слабоумное существо, вернувшись в общий зал, который служил и столовой, вдруг по-детски расплакалось над тем, что ему при этом разбили лоб, но веселые ребята уголовного вида легко утешили его, бросив конфетку, конфискованную по такому случаю у кого-то из пугливых соседей.
Кроме этих откровенных бандитов, живших, кстати, в отдельной пятиместной палате, парочки мелких шакалов и целого взвода тяжелых идиотов им на забаву, в отделении находились: закрытая компания рассудительно-злобных взрослых мужиков, днями напролет рубившихся в домино; несколько беспокойных шатунов-параноиков, которые постоянно ссорились с преследующими их внутренними голосами; трое или четверо оцепенело погруженных в себя дядек, с трудом реагирующих на вопросы; десяток несчастных, выживших из ума стариков, которые потерянно бродили по коридору в ожидании очередной кормежки; и пятеро (считая Фурмана) призывников, поступивших сюда почти одновременно.
Внешне в призывниках не было ничего «аномального» – таких парней всегда можно встретить на улице. Новое окружение произвело на них более или менее одинаковое впечатление, и уже на второй день они, не сговариваясь, образовали некое «тайное общество», члены которого по утрам по-человечески здоровались друг с другом, а в течение дня понимающе переглядывались, ободряюще перемигивались и потихоньку обменивались всякой полезной информацией (один из них, правда, очень быстро спелся с уголовниками, но слабый контакт с ним все же сохранился). Например, из разговоров со старожилами они узнали, что вроде бы призывников кладут в общее отделение лишь временно, на два-три дня. Здесь за ними осуществляется «первичное наблюдение» – как бы проверка на вменяемость, и если все проходит гладко, без каких-либо эксцессов и осложнений, их потом переводят «наверх», на четвертый этаж, в отделение экспертизы. О «верхе» среди обитателей общего отделения ходили легенды, из которых можно было сделать один-единственный вывод – там расположен Рай. Говорили, например, что «наверху» есть телевизор (Боже!), разрешены прогулки (фантастика!!!) и что там относительно тихо и спокойно – во всяком случае, нет таких ужасных психов, как здесь. Ну, и в туалете, соответственно, немного почище. Да, а кроме того, там работают молоденькие сестры… Как бы то ни было, им оставалось только терпеть и ждать этого спасительного перевода.
Находиться днем в палатах запрещалось, и бльшую часть времени все обитатели отделения кучковались в общем зале. Поначалу Фурман, пытаясь справиться с чувством отвращения и приступами панического ужаса, часами расхаживал взад-вперед по длинному коридору вместе с плохо держащимися на ногах старичками и театрально-мрачными безумцами, пожираемыми своим внутренним пламенем. Одного из них – говорили, что он раньше был известным музыкантом, – периодически выгоняли из зала, так как он ни с того ни с сего вдругвзрывался страшным воплем: «Ш-шампанского мне, гады!!! Шампанского, я сказал, так вас перетак!» От неожиданности и вольной силы этого выкрика даже уголовники, резавшиеся за своим столом в плохонькие самодельные карты, вздрагивали и морщились. Через какое-то время крик повторялся – так же неожиданно и жутко, после чего все дружно матерились от испуга и начинали угрожать музыканту, а он с выпученными глазами ошалело оправдывался: мол, извините, ребята, честное слово, это не я, это всё они, голоса… Немного пообвыкнув, Фурман стал оставаться в зале, придвигая свободный стул, а чаще просто стоя перед одним из трех наглухо закрытых окон с пыльными стеклами и прочной наружной решеткой. Вид был наискучнейший: пустой заасфальтированный больничный двор, желтая стена, запертые ворота, какая-то улица с изредка проезжающими автобусами, пустырь с несколькими высокими вышками линии электропередачи, одинаковые серые панельные дома, кусок переменчивого весеннего неба, – но вглядываться в эту беззвучную картину было в тысячу раз лучше, чем иметь дело с тем, что многоголосо шевелилось у Фурмана за спиной.
На третий день в отделении состоялся сеанс трудотерапии, в котором могли принять участие все желающие. В особую комнату, похожую на школьный класс с рядами столов, набилось много народу – все ж таки какое-никакое, а развлечение. «Сейчас, бля, труд сделает из вас человека!» – весело грозили бандиты удивленно притихшим дебилам. По такому торжественному случаю в отделении даже появился заведующий – розовощекий человечек в сияющем белизной халатике, с детскими голубыми глазами и абсолютно седыми волосами. Весь он был до такой степени аккуратненький и чистенький, что как бы уже и не совсем от мира сего. Оберегающая его свита так к нему и относилась. Он с царственной благосклонностью покивал нескольким старожилам, которые со своих мест браво поздоровались с ним, обращаясь по имени-отчеству, спросил, есть ли у кого-нибудь вопросы или жалобы, негромко отдал какие-то короткие указания улыбающимся сестрам и внезапно исчез. Когда были открыты картонные ящики с заготовками, выяснилось, что участникам сеанса предстоит склеивать из специально размеченных листов обычные почтовые конверты. Фурмана поразило это открытие: ведь никто на воле даже не подозревает, где и кем делаются такие простые вещи. А вот этими-то слюнявыми пальцами… Увидишь такое – больше не захочешь писать письма. Впрочем, дело оказалось не таким уж простым. Поначалу все старались, и те, у кого вроде бы получилось, радостно демонстрировали свою продукцию. Кто-то даже предложил устроить «соцсоревнование», вызвав среди психов не только смех, но и пугающе яростные споры. Однако минут через двадцать большинству бандерлогов уже наскучило это однообразное кропотливое занятие, они принялись шуметь, безобразничать и вскоре разбежались. Фурман был одним из немногих, кто досидел до конца. Трудотерапия ему очень понравилась. Простейшая работа, но если делать ее хорошо, то действительно вдруг начинаешь чувствовать себя человеком – особенно на фоне всего остального… Сеанс закончился, комнату закрыли, и Фурман грустно вернулся к своему окну.
Между тем, хотя никакого специального наблюдения за обитателями отделения вроде бы не велось, начиная с третьего дня «заключения» призывников стали без предупреждения уводить куда-то по одному с вещами. Похоже, «верх» действительно существует, в радостном возбуждении говорили уходящие, наскоро прощаясь. Но никаких известий или приветов от них больше не поступало.
И вот уже осталось всего двое ожидающих перевода: Фурман и самый странный из призывников, по имени Николай – мощного телосложения, с густой гривой черных прямых волос, толстым орлиным носом и глубоко сидящими маленькими, обманчиво спокойными глазками, – он был похож на великого индейского воина, какими их изображала немецкая киностудия «Дефа», и держался с такой же подчеркнутой независимостью. Даже бандиты после какого-то пробного мелкого столкновения к нему больше не приставали. (Позднее он нехотя удовлетворил фурмановское любопытство, объяснив, как этого добился: просто я им передал, что убью голыми руками каждого, и в психушке мне ничего за это не будет, максимум отсижу здесь три года; глядя на его руки, которыми он мог на спор согнуть толстый металлический прут, вставленный в спинку кровати, вполне можно было ему поверить.) Николай первый подошел к Фурману знакомиться, и потом регулярно затевал с ним беседы на самые неожиданные интеллектуальные темы. Обычно он начинал с ехидного вопроса: а известно ли тебе, Александр, что-нибудь о том-то? Интересы его охватывали астрономию, географию, историю, биологию, технику – в общем, чуть ли не все на свете. Во многих областях он разбирался, казалось, с научной доскональностью. Однако ему редко удавалось посадить Фурмана в полную лужу, поскольку благодаря неудержимым просветительским усилиям своего старшего брата тот был более или менее наслышан о самых разных естественнонаучных проблемах. Ну, и сам кое-что читал, к тому же. Зато в художественной литературе Николай, как обнаружилось, был почти полным профаном. Поглядывая на его огромный монолитно-прямоугольный лоб, Фурман с сонной уважительностью оценивал неимоверный объем знаний, хранящихся за этой крепкой белой стеной. Но однажды простодушный индеец в порыве горделивой откровенности раскрыл свой «секрет»: у него был дар фотографической памяти, и он за два с половиной года выучил наизусть, а точнее, просто запомнил последнее издание Большой советской энциклопедии – все тома, от корки до корки. После этого ни с какими другими книгами он уже не считал нужным иметь дело. А если честно, то и раньше ими не слишком интересовался. За всем этим стояла четко сформулированная идея: приложив минимум усилий, как бы разом овладеть всей информацией о мире, накопленной человечеством за тысячи лет. Фурмана так поразила эта абсолютно дикая, на его взгляд, задача, что он, забыв, где находится, вступил с могучим приятелем в довольно резкий иронично-насмешливый спор. Слушая его запальчивые аргументы, индеец-энциклопедист нахмурил брови, помрачнел и в какой-то момент холодно сказал: «Ну все, хватит. Видимо, я в тебе сильно ошибся, ты меня совершенно не понимаешь. Сейчас я заканчиваю этот бессмысленный разговор. А потом подумаю, как с тобой быть дальше». И он удалился своей легкой походкой воина, а Фурман вынужден был присесть, так как у него от мгновенного ужаса подогнулись ноги.
Вечером он подошел к Николаю и честно извинился за свои глупые насмешки. Пугающе странный парень ничего не сказал в ответ, только коротко кивнул, обведя Фурмана холодным взглядом. Но никакой мести с его стороны, вопреки кошмарным фурмановским ожиданиям, не последовало. Прежний приятель просто как бы перестал его замечать, утром даже не поздоровался в ответ, и Фурман, тяжко вздохнув, теперь уже окончательно прирос к грязному окну.
Погода там испортилась, постоянно моросил дождь, и все было грязно-серым или бурым – небо, асфальт, дома, отсыревшая земля…
За весь этот день Фурман произнес от силы пару слов: «спасибо», «нет». И постепенно молчание стало казаться ему правильным, более адекватным его положению и всему происходящему здесь. Болтовня с Николаем только отвлекала его, позволяла забыть, где он находится. Может, из-за этого «высшие силы» и не переводили его наверх – слишком уж беспечно он этого ждал, как будто перевод был ему гарантирован. Почему его держат здесь так долго, почему не переводят, как других призывников?! Отчаянные, бессмысленные, унизительные вопросы. Возможно, он этого не заслужил своим поведением. Возможно, с теми ребятами все оказалось в порядке, а он на самом деле мало чем отличается от диковатых, испорченных, забытых богом существ, собранных в этом небольшом отделении ада. Шаткие, хрупкие старики в коридоре казались ему ближе остальных. Их слабость, очевидная заброшенность, нелепая пугливость были ему вполне понятны. И из него самого такой же невидимой тонкой струйкой безостановочно вытекает жизнь.
Впрочем, двое пенсионеров (один, судя по их довольно громким разговорам, раньше был офицером в каком-то невысоком звании, а второй, постарше и побезумнее, – профсоюзным работником), еще упирались, цепляясь друг за друга, и старательно делали вид, что находятся в обычной больнице: нагуливали отмеренное число шагов, подчеркнуто проявляли интерес к «жратве», обменивались разнообразными медицинскими советами и жизненными историями, «интеллигентно» матерясь в ладошку… Фурмана в какой-то момент так замутило от их потусторонней брутальности, что он прекратил свои тихие прогулки по коридору, лишь бы с ними не встречаться.
Его первоначальный острый страх перед многочисленными сумасшедшими соседями уже притупился, перейдя в какую-то запредельную сонную тоску. Ему стало все равно – люди они, нелюди… Он и к окну-то теперь прислонялся больше по инерции, видя перед собой только заросшее грязное стекло, – облака, птицы, редкие прохожие и далекие светящиеся окна уже не имели к нему никакого отношения. Внутренний наблюдатель с трезвой печалью отмечал, что сознание его подопечного тускнеет, растворяется, гаснет…
Случайно услышав от кого-то, что сегодня опять должен быть сеанс трудотерапии, Фурман встрепенулся. Он вдруг подумал: если здесь снова появится тот маленький ангелоподобный доктор, то можно будет попробовать подойти к нему и спросить, почему его не переводят. А вдруг о нем просто забыли? Эти бабки сунули куда-нибудь не туда его личное дело, а он здесь пропадай?! Разволновавшись, он стал так и этак воображать сцену своего спасительного разговора с этим чудесным голубоглазым седовласым человечком, сочинять самые убедительные слова, которые он должен успеть отчетливо произнести, прежде чем санитары его заломают и повяжут. В голове у него прокрутился целый бредовый кинофильм: с его ясными и разумными обращениями, злобными отказами собеседника, мольбами, отчаянными выкриками («У вас же есть дети, как же вы можете так со мною поступать?!..»), обоюдными рыданьями, жестокими схватками с санитарами, неудачными падениями с ударом виском об угол стола или затылком об пол и нелепой освобождающей смертью…
На трудотерапию в этот раз пришли только пять или шесть добровольцев. К разочарованию Фурмана, клеить конверты им больше не доверили – теперь нужно было складывать какие-то картонные коробочки, в определенном порядке просовывая ушки в специальные прорези. С самого начала было объявлено, что работа продлится только сорок минут. Но сколько-нибудь убедительным результатом своего труда никто так и не смог похвастаться – коробочки у всех получались скособоченные. Видимо, прорези в заготовках были расположены не там, где нужно. Психотерапевтический эффект тоже оказался нулевой, если не отрицательный, поскольку все участники сеанса были необъяснимо взвинчены и озлоблены. Когда надзирающая за ними нянька куда-то удалилась, Фурману даже пришлось урезонивать одного из относительно вменяемых спорщиков (другой-то был просто идиотом).
Между тем его собственные надежды на спасение с каждой минутой таяли, и он из последних сил сопротивлялся накатывающей истерике: а что же дальше-то с ним будет – только полное, беспросветное отчаяние?.. Тогда лучше вообще не жить. Он стал прикидывать, чем бы для этого можно воспользоваться. Вокруг дело шло к драке, но тут сеанс закончился. Задумавшегося Фурмана общей вялой волной вынесло в коридор – и вдруг шагах в десяти он увидел своего маленького белого доктора. Тот разговаривал с сестрой. Рядом больше никого не было. Но Фурман вдруг понял, что уже абсолютно не готов к этой встрече. Надо ведь было о чем-то его попросить… Чтобы перевели? Были же какие-то верные слова… Или это уже и не надо? В любом случае терять ему нечего.
Несанкционированное обращение к начальству никому не известного пациента встревожило всех, кто находился в коридоре. Сухая строгая сестра вперила в Фурмана гневный взгляд из-за хрупкой спины завотделением и почти сразу вмешалась в разговор, попытавшись заткнуть наглого нарушителя дисциплины. Но опытный доктор уже оценил смиренный вид просителя и интеллигентную форму обращения и милостиво согласился выслушать его – только если он будет краток, потому что время дорого. С близкого расстояния доктор выглядел совсем другим человеком: его мальчишеское лицо оказалось иссечено морщинами, а ясные голубые глаза смотрели с неприступной холодностью. Этот маленький человек был жестким профессионалом и полностью контролировал ситуацию. Что ж, так было даже легче. Фурман по возможности четко описал свой больничный статус, уточнил, что всех остальных призывников уже несколько дней назад перевели в отделение экспертизы, и вежливо попросил проверить, почему его так надолго оставили в общем отделении. «Если для этого имеются какие-то серьезные причины, то у меня, конечно, нет никаких вопросов, – добавил он. – Но просто… для меня это слишком большое испытание. Мне здесь очень тяжело находиться».
– Что значит «тяжело»? – удивился доктор. – Вы имеете в виду – физически? Или же вам у нас тяжело в моральном отношении?
(«Зачем он притворяется? – растерянно подумал Фурман. – И говорит с каким-то акцентом – слишком твердо и отчетливо…»)
– Ну, скорее морально… Меня… подавляет эта атмосфера. Она для меня слишком агрессивная.
– Но вы, должно быть, понимаете, что у нас тут не дом отдыха!
– Да, конечно, я понимаю, здесь лежат больные люди… Но я правда очень плохо себя чувствую.
– И в чем проявляется ваше плохое самочувствие? На что вы жалуетесь?
– Сильная слабость… настроение подавленное, тоска…
– Аппетит у вас в норме?
– …Наверно, нет.
– Нарушения сна имеются?
(Это он нарочно меня сбивает, догадался Фурман.)
– Да, ночью не могу заснуть. А потом весь день голова как в тумане… Если честно, у меня уже стали появляться всякие нехорошие мысли… А неопределенность моего положения… только усугубляет это состояние. Поэтому я и решил обратиться к вам. Извините, если я… нарушил этим какие-то больничные правила. Но не могли бы вы помочь мне? Пожалуйста, проверьте, почему меня не переводят… Может быть, мои документы просто где-то затерялись… Я очень, очень прошу вас. Я боюсь, что не смогу долго здесь выдержать… У меня уже просто нет сил…
Поначалу Фурман старался говорить спокойно и разумно, но в какой-то момент его безнадежно повело, и он чуть не заплакал от слабости и жалости к себе. Впрочем, доктор на него не смотрел.
– Это все? – поинтересовался он. – Что ж, мы посмотрим ваше дело и, если это возможно, попробуем как-то уладить ваши проблемы.
Фурман по ритуальной инерции вежливо поблагодарил его, извинился за то, что отнял у него время, и они разошлись: доктор важно направился к выходу, а он слепо поплелся по коридору в противоположную сторону.
Его крайне поразила собственная неудержимая слезливость. Неужели с ним правда все уже настолько плохо? Ведь еще и недели не прошло…
Обозленная сестра подлетела к нему с какими-то темными угрозами, потом один из участников сеанса трудотерапии уважительно похвалил его за смелость. Надо же, такая вспышка внимания к его ничтожной персоне…
Спастись, значит, захотел?
Ничего не выйдет, тебе конец, здесь и подохнешь!
А я разве против. Только поскорей бы.
На следующий день, уже ближе к вечеру, его перевели. Без всяких объяснений. Он чувствовал себя трупом, но в принципе был благодарен.
А наверху и впрямь оказался санаторий.
Вдвое меньше народу. Тихая палата на шесть коек (две из них пустые). В общем зале телевизор – маленький иллюминатор в удивительный, полузабытый, утомляюще бодрый подводный мир. Господи, на окнах нет решеток! Только в туалете, где окно всегда открыто. Он стоял там часами – никак не мог надышаться.
Я живой. Странно. Но хорошо.
Как и всем остальным, ему в определенный день разрешили свиданье с родными (в первую неделю это было запрещено). Но он еще не успел отойти от предыдущей стадии. Сидя с мамой за столиком в общем зале, украдкой поглядывая на других посетителей и скованно отвечая на ее заботливые вопросы, он испытывал какой-то непомерный стыд. Маме (да и вообще никому) не следовало бы приходить к нему сюда. Да, сам он – видимо, чем-то сильно провинившись перед судьбой, – попал сюда и должен оставаться здесь весь отмеренный ему срок (на самом деле он еле сдерживался, чтобы не начать со слезами умолять маму забрать его из этого жуткого места любым, любым способом, пусть даже устроив побег…). Но между здешней формой жизни и всем, что имело хоть какое-то значение там, прежде, снаружи, на воле, как он остро чувствовал, должна была быть проложена непреодолимая граница, стена. Любые контакты были невыносимо унизительны и оскорбительны для того, кто мог ощутить разницу между «здесь» и «там». Но ощутить это можно было только с одной стороны.
Вскоре после маминого визита (и, видимо, по ее наводке) под окна отделения приперлась весело ничего не понимающая клубная делегация во главе с Мариничевой и Наппу. К счастью, внутрь никого из них не пустили, да и приятеля своего прокаженного они, судя по всему, сквозь пыльные оконные стекла, за которыми он прятался, не заметили – прокричали нескладным хором какие-то глупые импровизированные речовки, помахали наугад и отправились, счастливые, по своим вольным жизням, лишь разбередив его темную тоску. А потом был еще День Победы. О чем в этот день думал его отец-фронтовик? Фурман ничего не мог поделать со своим позором. Лучше бы все они просто забыли о том, что он есть…
«Наверху», в более мягких и «цивильных» условиях, прежнее братство призывников распалось. Каждый снова был сам за себя, с предупредительной грубостью утверждая границы личного пространства, и в какой-то момент это больно укололо потихоньку оживающего Фурмана. Но в тот же день ему вдруг позволили выйти в больничный двор – всего на пять минут, по делу: нужно было отнести на склад какие-то тюки, а потом занести наверх тяжелые металлические бидоны и баки, – и это было настоящее, все смывающее счастье. Ведь там, внутри, за грязными стеклами он совсем не чувствовал, что весна идет, что она все меняет. А вот – уже и деревья стоят в прозрачной зеленой дымке… Может, жизнь все-таки возможна?
Между тем «снизу» просочились слухи об ужасной судьбе «индейца-энциклопедиста» Николая. Он из-за чего-то поругался с самой злой из сестер, стал по своему обыкновению «качать права», а она недолго думая вызвала санитаров. Парень оказал им серьезное сопротивление, вроде бы даже забаррикадировался в палате, но в конце концов его всё же завалили, привязали к койке на растяжках, хорошенько отметелили и вкатили аж двойную дозу аминазина, потому что этот бугай все никак не успокаивался. (Аминазин был легендарным «вырубающим» средством, причем, по рассказам, он не только полностью парализовал жертву, но и вызывал страшные мышечные боли – как бы в наказание.) Теперь-то они его нескоро выпустят: пару дней он точно пролежит в отключке, а там, кто его знает, как все сложится…
Спасением для Фурмана было всегда открытое окно в туалете: стоя перед ним или сидя боком на подоконнике, он с утра до вечера пел кружковые песни. Мешали ему только курящие, которые тоже устраивались у окна, а от всех остальных он просто отворачивался, переходя на шепот. Песни с мягкой силой вытягивали и вытягивали его в другой, незримый дружественный мир, от которого он вроде бы совершенно отпал.
Немного обжившись, он попросил маму передать ему какой-нибудь спокойный толстый роман (мама выбрала первый том «Саги о Форсайтах»), уже начатый белый блокнот в твердой обложке и ручку. Словно в благодарность за его песенное служение, ему в голову потихоньку начали приходить разнообразные идеи о том, как можно оживить «Товарищ» новыми общими делами, и он решил их записывать.
Короткие конспективные записи шли под номерами, и поначалу в них предлагались довольно простые вещи: составить полный сборник «товарищеских» песен, многие из которых оказались незаслуженно забыты; подготовить цикл газетных материалов о клубных «стариках» (одновременно это были бы рассказы о профессиях, причем более живые, чем если писать о каких-то чужих людях); раз в месяц устраивать трудовые субботники, чтобы заработать деньги на лодку (давняя мечта Данилова). Отдельной творческой группе предлагалось заняться извлечением педагогических идей и «воспитывающих ситуаций» из известных литературных произведений, таких как «Игра в бисер», «Король Матиуш I» и т. д. (впрочем, это была идея Наппу)…
Тут Фурман вдруг сообразил, что все это – типичные «записки сумасшедшего», и нарисовал себя в больничной одежде: состарившегося, морщинистого, с бессмысленным разъехавшимся взглядом и грязными торчащими космами. И хотя, по авторитетному мнению больничных старожилов, никакого специального наблюдения за пациентами не велось, он на всякий случай стал прятать свой блокнот под матрацем – в основном, конечно, от соседей по палате, потому что даже при самом элементарном «шмоне» обнаружить его «секрет» ничего не стоило. (Впрочем, он уже понял, что здесь все так или иначе укладывается в «диагноз», а одним «подтверждением» больше, одним меньше – разницы, в общем-то, никакой.)
12. Нужно что-то вроде Совета старших друзей – хотя бы по обучению будущих комиссаров, а дальше – Совет дела «по перспективам». Попробовать сделать ОБЩУЮ школу комиссаров, а ее можно превратить в городской комсомольский штаб.
14. Велопробеги по воскресеньям вместе?!
15. «Научные среды» – люди под руководством Данилова и пары «стариков» готовят интереснейшие «Часы просвещения» – о последних достижениях и нерешенных проблемах науки. Об этом же можно регулярно давать материалы в страничку.
16. Общественный суд над пошлостью – возобновить эту форму со страшной силой и брать новые темы судов: суд над «неумением жить» или над «глупой жизнью».
18. В перспективе гигантское дело: «Можно ли в твоем городе построить сейчас коммунизм?».
А вдруг это сделать главным профилем клуба: клуб «Товарищ» строит коммунизм.
22. В перспективе – присваивать имя Товарища, как звание коммунара.
23. Поднять в страничке вопрос о рационализме как о равнодушии.
Попросить Данилова подвести итог 10-летней деятельности «Товарища» и исходя из этого определить задачи и перспективы.
25. Продолжить откровенный разговор о «капеллах» (так назывались уличные банды петрозаводских «трудных подростков»). Говорить о том, что делается в детских комнатах милиции, в самих «капеллах».
Энергия этой воображаемой жизни уже настолько расшевелила Фурмана, что он захотел подать о себе весточку и даже начал писать, еще не решив, кому: про палату № 6, про птичек за окном, про пережитый «внизу» страх… Но нет, на это духа у него не хватило…
26. Идея: День Земли (День Географии) – «путешествие» в дальние страны, с костюмами, музыкой, танцами – весело и серьезно.
27. На театр: инсценировать абсолютно серьезно «Кошкин дом» – сделать трагедию, Диккенса! Декорации – во!!!
28. День Радости, фиеста.
Его понесло, номера стали не нужны:
Городской комсомольский штаб Дворец комсомола ком. бригады.
Экспериментальная школа-интернат.
Перед коммунарами ставится задача – пед. образование; и они идут в школу – нашу! Т. о. набирается состав учителей + старые опытные педагоги, но энтузиасты.
Централизованный планированный выпуск городских школьных газет: при Универе, в «Товарище» или при республиканской газете «Комсомолец» создается Школа юного журналиста, воспитывающая кадры. Так можно осуществлять целенаправленное воздействие на школьный комс. в любом направлении…
Утром наступило тяжкое похмелье:
- Ты меня не ждешь?
- Вот и вся судьба.
- Ты меня не ждешь,
- Да и не ждала.
Он несколько раз нарисовал голову Нателлы – анфас, в профиль; грустящую, кокетливую, постаревшую… Потом – какого-то восточного (судя по реденькой бородке) мудреца-отшельника в странном балахоне. Рядом в рамке написал:
Система планирования и учета времени и идей (Любищев, Наппу)
День пропал.
I. На конференции трех петрозаводских коммунарских отрядов выдвигается предложение: создать на их основе так называемый Городской комсомольский штаб (ГКШ), ризванный стать:
а) объединяющей отряды силой, позволяющей выработать общие задачи и направление движения и централизовать действия коммунаров в городе;
б) недостающим звеном между коммунарскими отрядами и комсомольскими органами (штаб создается при горкоме комсомола);
в) объединением, непосредственно связанным со школьным комсомолом, что позволит целенаправленно и активно на него воздействовать и – на правах полномочного представителя горкома – контролировать школьную администрацию, насаждающую формализм.
Отряды продолжают работать при райкомах комсомола. Таким образом, ГКШ будет для них «окном» и позволит отрядам более независимо работать, а также координировать их усилия. Формы и направления работы штаба определяются на конференции.
II. Перспективой задачей штаба становится строительство Дворца комсомола (на площади Кирова), организованное штабом и выполненное руками самих комсомольцев города, для чего стройка объявляется «ударной комсомольской» (в идеале – республиканского значения). Привлекаются средства массовой информации: страничка и «Комсомолец» начинают кампанию, вокруг стройки поднимается огромная буча. В конце концов на нее привлекается весь комсомол города: сначала актив в принудительном порядке, затем, после проведения гигантской агитационной кампании – ряда сильнейших комсомольских собраний, больших сборов и т. д., – организуют отряды. В идеале должно быть так: каждая ячейка комсомола посылает на 3 дня в неделю или сколько нужно будет нескольких комсомольцев, а их товарищи во время их отсутствия выполняют на предприятиях свою и их норму (штаб должен войти в теснейший контакт с производственными комитетами). Работают рабочие, студенты, проводятся регулярные коммунистические субботники школьного комсомола (работу на строительстве можно провести как трудовое обучение); парткомами организуются добровольные бригады коммунистов – стройка прекрасного Дворца становится фронтом борьбы, реальным воплощением старых высокочтимых традиционных лозунгов времен революционного действия и современных лозунгов и призывов 10-й пятилетки. Ставится труднейшая задача – возбудить энтузиазм в огромной массе комсомольцев, заставить их поверить в свои силы. Всячески привлекается «беспартийная» молодежь, т. н. «капеллы». Доверие, доверие – они должны заработать – это тоже главная подзадача авантюры. Заставить комсомольцев на деле оправдывать свое звание перед своими же товарищами, стройка – это своеобразный «откровенный разговор». При подготовке к строительству строжайше следить за тем, чтобы в прессе и на собраниях не проскочило ни единого формального слова. Придумать новые и возможно больше использовать старые методы поощрения – вплоть до буденновок! Для осуществления задачи штабом вырабатывается перспективный план действий, максимально подробный.
В идеале масса людей загорается, горит и выстраивает великолепный Дворец. Люди – заранее подобранные и прекрасные – начинают из Дворца войну на культурном фронте. Привлекается вся честная интеллигенция. Работа ведется очень свежо, по-новому – так проводится в жизнь идея гармонически развитого человека-коммуниста.
III. Новая задача – качественно новое превращение рожденного энтузиазма. Предлагается строить дальше – не Дворец – Город. В городе, в общем-то, отвратительное положение с жильем, люди живут в элементарной грязи. Комсомол доказал, что строить он умеет, и умеет хорошо. Бросается призыв: «Все на строительство родного города!». Строятся прекрасные современные общежития, жилые дома, детская больница и т. д. Школьники, кончающие школу в период строительства Дворца комсомола, выбирают профессию строителей – т. о. решается проблема кадров, и честных кадров! Немного попозже, когда пламя начнет гаснуть и загорится опасно ровно, выдвигается новая идея: как известно, главной задачей нашего общества является воспитание (следует объяснить всем, всем, всем, как важны качество и энтузиазм в воспитании), а потому – строим образцово-экспериментальную школу, какой нигде еще нет! И вторым броском комсомольцы выстраивают эту школу.
К этому времени полностью прививаются коммунарские методы работы во всех школах, уровень образования в пединституте поднимается возможно выше, как и в университете, впрочем; школьники понемножку начинают идти в хорошие педагоги.
Наппу идет директором в экспериментальную школу. За много лет до того коммунарам страны предлагается готовить для нее кадры. Петрозаводск становится городом-мечтой и, в идеале – через 100 лет, – всесоюзным центром воспитания.
В «параллельной» вялотекущей жизни у Фурмана состоялась короткая беседа-знакомство с военным психиатром, который, как выяснилось, вел его дело. Кроме того, все призывники часа по два просидели у психологов, письменно отвечая на шестьсот с лишним вопросов какого-то теста.
И вдруг на десятый день одного из них выписали. Почему именно его? Он не казался самым «нормальным», но был на несколько лет старше остальных – может, поэтому… Неважно – самое главное, что у всего этого был конец. Хотя, как они в тот день с тихим удивлением признавались друг другу, в это никто уже и не верил. Не верил, что кого-то вообще могут отсюда выпустить. (Удивительно, как же это их всех меньше чем за две недели довели до такого состояния?..) Впрочем, следующие дни показали, что строить расчеты на лучшее не стоило.
Зато после праздников нежданное счастье выпало сразу двоим.
11 мая Фурмана опять вызвали к врачу. Вежливый, но странно суетливый доктор с едва начавшим седеть темным высоким «ежиком» и заметной под тесноватым халатом офицерской выправкой, полистав его личное дело, сказал, что эта беседа – заключительная: «Завтра мы вас выписываем. Вы ведь живете с родителями? Можете позвонить домой, предупредить их… Вы, наверно, уже догадываетесь, какое решение будет вынесено комиссией?» Нет, Фурман не догадывался. «Могу вам сообщить, что вы признаны негодным к воинской службе и будете освобождены от призыва в армию. Конечно, потребуется соблюсти еще некоторые формальности, но в принципе этот вопрос уже решен. – Он бросил на Фурмана быстрый изучающий взгляд. – В общем-то, это всё… Хотя мне бы еще хотелось задать вам несколько вопросов – уже не для протокола, так сказать, а просто в порядке личного любопытства. Если не захотите, можете не отвечать – это ваше право. Но было бы хорошо, если бы ваши ответы были честными. Естественно, это всего лишь мое пожелание. Записывать я ничего не буду… Какие эмоции вы испытали, узнав, что вам не придется идти служить? Вас это обрадовало или, может быть, в какой-то степени огорчило?» Хмуро прислушавшись к себе, Фурман сказал, что сейчас у него нет к этому какого-то однозначного отношения, – но если бы его признали годным, он бы пошел служить как все. Врач понимающе покивал. «Я знаю, что у вас интеллигентные родители и что вы достаточно начитанный, думающий человек. Интересно, а в чем вы сами видите причину ваших жизненных неудач?» Фурман растерянно спросил, что он имеет в виду. «Ну, не секрет, что у вас имеются определенные способности, чем, кстати, далеко не все люди могут похвастаться. Школу вы окончили год назад, если не ошибаюсь? Но если сравнить, как вы распорядились своими немалыми способностями и чего достигли за этот год, с положением большинства ваших сверстников, то сравнение будет явно не в вашу пользу: вы нигде не учитесь, уже несколько месяцев не работаете, живете за счет родителей, своей семьи у вас нет и при таких обстоятельствах быть не может; мало того, вы зачем-то отправились в какой-то чужой город, где живете на птичьих правах и, опять-таки, за чей-то счет… Вам самому все это не кажется странным? Даже если перед вами и стояли какие-то важные, на ваш взгляд, цели, вряд ли вы сознательно стремились именно к такому результату. Напомню, кстати, что тунеядство у нас преследуется законом… Хорошо, предположим, у вас есть некие извиняющие обстоятельства, в которые мы сейчас вдаваться не будем. В любом случае эта ситуация временная, долго она продолжаться не сможет. Мне хотелось бы узнать, как вы сами дл себя всё это объясняете? Вы ведь наверняка задумывались над тем, почему у вас все складывается именно так, а не иначе?»
Доктор как-то уж слишком распалился. Словно забыл, что разговаривает с заключенным. Ему, видите ли, «интересно», он ждет честных ответов! Вот так скажешь ему что-нибудь, а потом всю жизнь будешь отмываться… Да и не было у Фурмана никакого готового ответа. Действительно, почему у него все складывается не так, как у других? Хороший вопрос! Что ж, если отвечать честно и коротко, то…
– Наверно, все это происходит потому, что я люблю людей.
Доктор недоверчиво посмотрел на него и потряс головой. Похоже, ответ ему не понравился.
– Ну ладно. Это, конечно, очень странно, но допустим, что вы объясняете все свои жизненные неудачи вашей любовью к людям. Пусть так. Но я все равно не могу понять, почему для того, чтобы любить людей, вам потребовалось отправиться именно в Петропавловск, а не в Одессу, например?
– В Петрозаводск, – машинально поправил его Фурман.
– Хорошо, пусть будет Петрозаводск. Хотя я не вижу, в чем здесь такая уж принципиальная разница… Там что, какие-то особенные люди живут?
Вопрос о том, почему он уехал в Петрозаводск, а не в Одессу, показался Фурману не просто нелепым, но даже слегка сумасшедшим. Как такое вообще могло прийти в голову? При чем тут Одесса? Впрочем, его «прагматичное» объяснение, что с петрозаводчанами он уже был знаком раньше, а с одесситами – нет, было ничем не лучше.
В общем, честного разговора не получилось. Между разочарованными собеседниками была самая настоящая пропасть непонимания.
Расстались они с вежливыми взаимными извинениями, но, закрыв за собой дверь, Фурман решил, что чувствовать себя виноватым еще и перед этим самодовольным врачом не стоит, хватит с него и всего остального, чего он здесь нахлебался по самое горло. А до обещанного завтрашнего освобождения тоже еще нужно было дожить. Но он все-таки позволил себе немножко порадоваться – полминутки, пока шел по коридору.
В его последний больничный день «наверх» перевели и непокорного энциклопедиста Николая. Он радостно жал руки всем знакомым, а Фурмана даже слегка приобнял – какие, мол, обиды, Саша, мы же в одной лодке! Многие удивлялись, как это его отпустили после того, что он устроил «внизу». Но Николай, скромно улыбаясь, объяснил, что санитары – это ведь не какие-то ужасные злодеи, а самые обычные люди, они поняли, что рано или поздно его все равно освободят, а у них семьи, тяжелая малооплачиваемая работа, и лишние неприятности им даром не нужны. Короче, по взаимному соглашению дело спустили на тормозах и ни в каких официальных документах о случившемся упоминаться не будет. Отдельно Фурману Николай рассказал о том, как санитарам хитростью удалось его «завалить»: пока двое отвлекали его внимание, один потихоньку подобрался сзади и накинул ему на шею удавку. Ну, а дальше уже все понятно…
Переодеваясь в подвальной кладовке в возвращенную домашнюю одежду, Фурман чуть не рассмеялся: оказывается, он успел забыть, как сложно все это носится, застегивается, зашнуровывается… В своей прежней городской одежде он чувствовал себя самозванцем, беглецом, и покорно ждал, что его вот-вот разоблачат и под конвоем отведут обратно, на четвертый этаж. Беспокоило его лишь то, что подниматься будет тяжело.
Письмо Ире Колобовой
(неотправленное)
Москва, 24 мая
1 час 3 минуты
Окно; чуть шершавый
желтоватый лист;
серый кухонный стол,
немного липкий.
За ним написаны
многие письма.
«Привидение – это дух человека, который умер, но сам не сознает этого».
«Мартин Иден»
Ну что, хороший человек?
Не отвечаешь.
И я сижу не грустный, не ноющий, а, скорее, опустошенный – не знаю чем. Конечно, так бывало и раньше – в школе и после. Почему же сейчас все валится – нет, просто не идет в руки и даже в голову. В такие душные минуты единственное средство у сильных людей – нахлестать себя по щекам, а мне, наверное, требуется по-дружески…
За кривым стеклом в коридоре появляется папа в трусах и, почесываясь, гулко говорит:
– Саш! Саш, полвторого уже?!
– Да иди ты отсюда!
…так вот, а мне нужно, чтобы кто-нибудь пнул меня посильнее и сказал мужественным голосом: «Чего расползаешься, пошли», – и еще разок двинул, а я бы увернулся уже, отряхнулся и, через быструю секунду улыбнувшись, кивнул на правое плечо – давай, мол, пошли.
В армию меня не взяли. Пробыл две недели в больнице на экспертизе (и ни слова больше), а потом врач сказал примерно так: «психопатическое развитие». Эге, подумал я, да ведь это прямо указывает на вину моих родителей. Ну, да ладно. Пускай. Правда? Это легче, чем что-нибудь благоприобретенное, и теперь никакой ответственности на мне не лежит – я действительно таким родился. Точка?
2 часа 4 минуты.
За окном ничего нет,
и пишу, конечно же,
не то, не то.
Неделю назад мы с ребятами из «Паруса» были на слете Клуба самодеятельной песни (КСП). Это что-то вроде многих-многих городницких, визборов и окуджав, только помельче, и почти всё, что мы поем, вышло оттуда. А слет КСП – это когда они все собираются в лесу – тысяч 5 народу, с кострами, палатками, гитарами – и поют.
Еще я познакомился с двумя ребятами из Челябинска. Один из них член тамошнего Совета коммунаров. Они в Москве учатся в институте и очень скучают. 2 часа 30 минут. Чувствую, что ничего у меня не получается – разучился писать письма. Напротив уже зеленеет небо. Пойду спать.
УТРО
Уже лег и закрыл глаза, но потом посмотрел в окно: полнеба светилось бледно-изумрудным рассветом, книзу переливавшимся в ярко-белый, потом вдруг – в грязно-багровый и над дальним лесом – в ночной еще густо-синий.
КСП
Мариничева и Наппу долго и жестоко вычеркивали кого-то и вписывали в свои списки, в результате я, кажется, поехал вместо Борьки Минаева, хотя впоследствии он говорил, что просто не мог. А мне ехать не очень хотелось, потому что я только два дня как вышел из больницы и еще не пришел в себя.
Место слета всегда держат в тайне по причине большого стечения народа. На специальную электричку сквозь заслон прорывались по особым эмблемам XIX слета КСП. Нам эмблем не хватило, и мы шли, держа в руках кусочки засвеченной фотопленки с ровной дыркой не в центре – это были посадочные талоны. Садились мы по 22 человека на «купе» (4 скамьи по обе стороны от прохода), в середину и на ноги кидали огромные рюкзаки, а сверху садились люди. По спинкам сидений путешествовали отважные, и прах с их сапог сыпался на наши плечи и головы. В вагоне пели мало, было тесно. Под стук колес оборвалась полка, болты не выдержали тяжести рюкзаков и выскочили из стены.
Когда мы вышли через полтора часа, криво пошевеливая онемевшими и отсиженными ногами, в двух шагах ничего не было видно – всюду люди. Электричка, гуднув, умчалась, мы штурмом взяли канаву, наткнулись на другой стороне на проволочное заграждение, и Великий Исход начался.
Единственной деревенской улицей плыл нескончаемый поток выцветшего защитного цвета, над которым реяли знамена и хоругви со всего мира – от «Курочки Рябы» до «Ку-ку», а стоптанная трава ровно ложилась под ноги, указывая вперед. Мы шли в конце, стараясь не оторваться от группы. Мариничева и Наппу должны были приехать поздно ночью, и между нами развернулась борьба за власть. Я, конечно, в нашей свободолюбивой компашке числился презираемым «болотом», пытаясь удержать всех от разбегания.
Прошли деревню и остановились на минуту. Пологий холм переходил в длинное поле, а середина колонны далеко-далеко вползала в лес. Это было здорово и жутко красиво. Огромная людская лента извивалась и сверкала под голубым небом, от многих ног по земле шел гул, и голоса были частью этого гула, который обтекал нас со всех сторон.
– Чувствуешь? – торжествующе спросила меня Соня Друскина (она была на слетах уже два раза и теперь вела себя так, как будто все вокруг было делом ее рук и организаторского таланта). Я что-то хмыкнул в ответ, соглашаясь. Мы перешли какую-то речку или лужу и захлюпали по лесу, отставая все больше и больше, потому что приходилось ждать постоянно теряющихся людей. Спальники и палатки, взятые напрокат и связанные нами – начинающими туристами, все время развязывались и падали из белых рук, привыкших к авторучкам. Люди шли и шли мимо, и я начал злиться. На очередном таком привале мне указали, чтобы я не ныл. Очень удивительно было слышать это от Соньки, которая несла только две куртки, а мы тащили рюкзаки и по два несвязанных спальника на руках, тем более что я шел первым и торопил ребят. К нытью у меня большие способности, но я всегда надеялся, что не в таких случаях.
Хотя погода была хорошая, лесную дорожку, по которой прошли несколько тысяч человек, развезло так, что липкая глина на полянах была по щиколотку. Некоторое время мы шли совсем одни – так сильно оторвались от всех, но потом нагнали на большом привале, причем мы подошли, как раз когда все уже вставали.
Пройдя еще километра два, мы спустились с очень крутой горки, и дальше мне надоело об этом писать, так что извиняюсь.
Послушаю музыку, а после вернусь…
Поскольку о скандальном «открытом письме» Фурмана никто в «Товарище», кроме Люды Михайловой, так и не узнал, в июне он получил приглашение в очередной летний лагерь – естественно, не в качестве комиссара, а просто на правах «старшего друга». Готовясь к путешествию, он систематизировал и дополнил свои больничные записи, а потом аккуратным мелким почерком переписал весь план «мирной коммунарской революции в одном отдельно взятом городе» в обычную школьную тетрадку. «Вот мой ответ клеветникам!..» – с мстительным тщеславием думал он. И даже позволил себе взять билет не в плацкартный вагон ночного поезда, а на самолет.
Зимой Фурман несколько раз участвовал в дальних разведывательных поездках, которые предпринимались «товарищами» в поисках подходящего места для будущего лагеря. Но все эти варианты по разным причинам отпали, и в конце концов кому-то другому удалось договориться с начальством лесопитомника в поселке Новая Вилга, примерно в часе езды от Петрозаводска.
Работа там заключалась в ежедневной прополке песчаных грядок с нежными десятисантиметровыми сосновыми саженцами. Небольшое поле окружали непроходимые лесные заросли и огромные пустые сараи из некрашеных посеревших досок. В одном из них имелась утепленная мансарда; пол там застелили спортивными матами, и это темноватое помещение с единственным маленьким окошком служило «спальным корпусом» и «залом» для общих посиделок в плохую погоду. Водопровод хозяева питомника отключили, и все водные процедуры приходилось совершать на берегу протекавшего неподалеку ручья.
Народу в лагере было человек пятьдесят, три четверти из них – девчонки. В Большом совете теперь верховодили фурмановские ровесники, которые в отсутствие старших стали считаться «стариками». Данилов, как обычно, обещал при случае заехать в лагерь на денек, а комиссарила, естественно, все та же Наташа (в интересах общего дела связанный с нею конфликт был загнан внутрь, хотя Нателла периодически пыталась оспаривать ее руководящие указания). Отдельного места для «заседаний» Большого совета на территории не нашлось, и собирался он после отбоя в лагерной полевой столовой – поближе к горячему чаю и странной железной будке, где хранился месячный запас продуктов. Всем, кроме завхоза, которым на этот раз была Тяхти, почему-то казалось, что дневная кормежка намного беднее, чем в «прошлые годы». Тяхти возмущенно пресекала это бесстыжее нытье, но потом снисходительно выкладывала на стол «спецпаек» Большого совета: карамельки, печенье, хлеб, а иногда и немного сыра или пару баночек дешевых рыбных консервов.
За первые десять лагерных дней Фурман потихоньку дал почитать свою «тетрадочку» нескольким доверенным людям. Однако их реакция, сводившаяся к смущенно-уважительному «здорово… надо будет еще подумать над всем этим», его совершенно не удовлетворила. Конечно, обижаться на них было бы нечестно: после четырехчасовой прополки и двух плановых «коллективных творческих дел» все так уставали, что он решил отложить «проект» до лучших времен.
Даже при этой валившей всех с ног усталости спать в непроветриваемом помещении, тесно набитом множеством немытых, храпящих, кашляющих и стонущих во сне молодых людей, было тяжело, поэтому Нателла вместе с Тяхти, как самые независимые и свободолюбивые члены коллектива, вскоре «переехали» в соседний пустующий сарай. Там нашлась кучка старого сена для подстилки, на холод и предполагаемое соседство летучих и всех прочих мышей и насекомых подруги не жаловались, а уж про свежайший «натуральный» воздух и говорить было нечего. Когда ночи немного потеплели, Фурман принял их приглашение и тоже перебрался с постылого чердака «на волю». Контраст был действительно впечатляющий. В первую ночь Фурмана не оставляло головокружительное ощущение, что он лежит посреди замершего сухого леса без крыши над головой. Хорошо хоть спальный мешок у него был с затягивающимся капюшоном… Конечно, один он ни за что не отважился бы на такое приключение. Уже перед рассветом, начав подмерзать с одной стороны, Фурман свернулся калачиком и поплотнее притерся спиной к лежавшей в серединке Тяхти. А на рассвете вокруг поднялся невообразимый птичий гвалт. Фурман и прежде слышал его, но оказалось, что на хорошо закупоренный чердак он доносился сильно приглушенным, да и деревьев рядом с тем сараем было мало. А тут прямо за стеной начинался лес, в котором все уже проснулись и сразу принялись каркать, свиристеть и пиликать, как заведенные. Тем не менее Фурману удалось еще минут сорок поспать. Проснуться на свежем воздухе, среди тихих солнечных лучей на полу и на стенах, тоже было каким-то необычным удовольствием.
Первой всегда поднималась Нателла, почти бесшумно. Как-то, когда она уже вышла, слегка скрипнув входной дверью, а Фурман, лежа на спине и накрыв согнутым правым локтем глаза, стремительно задремывал снова, Тяхти с невнятным стоном повернулась и вдруг забросила руку ему на грудь. А потом еще и положила ногу на его бедро. И все остановилось. Это явно было объятие, но какое-то абсолютно сонное, обездвиженное. Замерев, Фурман растерянно ждал, что будет дальше. Однако больше ничего не происходило: ее рука как бы в полном беспамятстве тяжело лежала у него на груди, колено давило на неудобное место – и, судя по размеренному дыханию, Тяхти действительно спала. Вот ведь загадка. Какие же странные существа эти девушки. Фурман с трудом сдерживал смех. Через какое-то время нога у него начала неметь, ему ужасно хотелось пошевелить ею, но это означало бы непредсказуемо нарушить сложившееся равновесие: если Тяхти в самом деле спит, то кто знает, что она может подумать, проснувшись и обнаружив себя в такой неприличной позе; а если все-таки не спит и тоже караулит… тогда лучше не дергаться, ведь это была ее инициатива, пусть она и выпутывается. А что, если бы она продолжила, невольно размечтался Фурман… В конце концов Тяхти без всяких нежностей отвалилась от него, перевернувшись на другой бок и утянув за собой все свои щупальца, так что Фурман поневоле ощутил себя одинокой морской медузой, равнодушно оставленной на песке утренним отливом. Но провоцировать Тяхти расспросами об этом двусмысленном эпизоде он не стал.
К вечеру у него заболело горло, слегка поднялась температура, и он решил, что болеть все же правильнее на теплом чердаке. За это время неведомое течение снесло его прежних ближайших соседей, и теперь вместо крупного мальчишки, который во сне постоянно теснил его своими несуразными локтями и коленками, рядом оказалась деликатная Людка Михайлова. И как-то так все сложилось, что в холодный сарай он уже не вернулся, смирившись с духотой, храпом и прочими издержками коллективного ночлега.
Зато его чем дальше тем больше раздражала вялость и убогость дневной лагерной жизни: хитроватая бабская власть «стариков» с их маленькими привилегиями – вместо декларируемого коллективного самоуправления, рутинные ритуалы с затверженными лозунгами и бездарная школьная «самодеятельность» – вместо живой игры и творчества… Попытки Фурмана растормошить, раззадорить, поддеть, заставить удивиться и задуматься эту кучу инертных подростков воспринимались большинством из них как некий постоянно действующий аттракцион или как смущающая личная особенность этого странного иногороднего «старика» с неясными полномочиями (ведь «начальство» почему-то позволяло ему опасно острить и публично комментировать свои решения).
В маленьком отряде, куда Фурмана определили с самого начала, всё складывалось иначе. Командиром там был мягкий и дружелюбный Вася-фотограф, «старшим другом» – Людка Михайлова, а среди девчонок-восьмиклассниц две оказались просто на радость понятливыми и смешливыми: они не только с готовностью откликались на все фурмановские идеи, но и разъясняли их остальным. Сам Фурман никому из «своих» не давал дремать и при подготовке любых творческих заданий заставлял всех выкладываться на пределе возможностей. Пару раз дело доходило до ссоры, но и из них потом извлекались важные уроки. Труднее всего было добиться, чтобы на вечерних отрядных обсуждениях каждый научился всерьез и ответственно оценивать прожитый вместе день и результаты собственных усилий. Постепенно в других отрядах начали даже завидовать той вольной и в то же время сплоченной атмосфере, которая проявлялась почти во всех их публичных выступлениях. Правда, у этого успеха была оборотная сторона в виде горделивого «отрядного сепаратизма», и Фурману порой приходилось с досадой убеждать своих в необходимости поработать не только на себя, но и на «общее благо».
До конца лагеря оставалось десять дней, когда Фурман вдруг взорвался. Случилось это в самом конце вечернего общего сбора. Все сидели вокруг мощно полыхающего костра, привычно нудное подведение итогов дня уже завершилось, и кто-то из старших докладывал о запланированных на завтра делах. По поводу одного из них на вчерашнем Большом совете произошел довольно раздраженный спор, и, как теперь выяснилось, комиссар Наташа в очередной раз приняла неумное единоличное решение. Это упрямство страшно разозлило Фурмана. Он даже подумал, не устроить ли ему громкий скандал – прямо сейчас, при всех, а не в узком кругу, где все уже сто раз было проговорено. Ну, и что бы это дало? Господи, какая скука! У него мелькнула шальная мысль завтра же уехать в Москву. Конечно, бросить своих было бы нечестно – их ведь просто съедят… Да и где переночевать, если не получится сразу взять билет? Фурман с рабской тоской стал следить за взлетающими над костром искрами; потом, отвернувшись, поднял глаза на неожиданно близкое черное небо с живыми поющими звездами. Трусливая скованность и эта беспредельная воля внезапно столкнулись, и это сочетание показалось Фурману настолько абсурдным, что он чуть не расхохотался в голос. В нем как будто лопнула какая-то перепонка – он даже вздрогнул, в первое мгновение подумав, что странный хлопок раздался где-то рядом, – и вдруг ощутил необыкновенный прилив энергии и веселую, бесстрашную свободу. Сейчас он с легкостью мог бы встать со своего места и, не говоря ни слова, уйти пешком в Москву. Это напомнило ему толстовский эпизод с Пьером Безуховым, когда тот попал в плен и солдат его не пустил. Сдерживая смех, Фурман с новым, жалостливым интересом стал присматриваться к маленьким задумчивым лицам, театрально освещенным языками пламени. «Хватит притворяться», – решил он и попросил слова. Все в ожидании уставились на него. Вот уж действительно: «Гул затих. Я вышел на подмостки»… Пауза оказалась эффектной, и все невольно заулыбались. Фурман тоже улыбнулся, но предупредил, что хочет поговорить об очень серьезных вещах, поэтому всем, кто уже давно заснул, сейчас лучше бы проснуться.
Сегодня исполнилось ровно две недели, как мы живем здесь, сказал он. Все вроде бы налажено, идет по плану, «машина работает». Как вы, наверное, знаете, наш лагерь отличается от всех других – пионерских, комсомольских и прочих – тем, что в нем должны воплощаться принципы коммунарства. Но на самом деле то, что у нас происходит, является их полным извращением. Эти принципы всем нам хорошо известны, потому что мы повторяем их хором как минимум по два раза на дню. Но почему-то все наши так называемые «творческие дела», дискуссии на общественно важные темы и театральные инсценировки за редкими исключениями ужасно скучны, сляпаны кое-как и по своему уровню ничем не отличаются от обычной школьной “обязаловки”, от которой нас всех вроде бы тошнит. Неужели мы так привыкли делать «для галочки» никому не нужную ерунду, что уже не можем ничем вдохновиться, загореться и хотя бы попытаться создать что-то качественное – спектакль, который бы трогал сердца зрителей, или серьезную мысль, которая бы заставила кого-то задуматься… Никто даже не ставит перед собой таких целей! Максимум, на что мы готовы, это тупо похихикать над каким-нибудь очередным кривлянием или над анекдотом, который пересказывается в тысячу первый раз. Я не понимаю, почему так происходит, почему все ходят с такими сонными рожами и при этом бормочут «каждое дело – творчески, иначе зачем». А действительно – зачем? Ну хорошо, допустим, творчество – это очень сложная и трудная вещь, и глупо требовать, чтобы все немедленно начали «творить», да еще и какие-то качественные произведения. Но есть другая проблема, и она гораздо важнее. Один из главных коммунарских принципов – демократическое самоуправление коллектива и постоянная сменяемость командиров. Но ведь все присутствующие, как мне кажется, догадываются, что лагерем реально управляют вовсе не ежедневно переизбираемые дежурные командиры, «школу которых должен пройти каждый», а некие таинственные «старики», заседающие по ночам в Большом совете. Как они – и я сам в том числе – туда попали? Кто из вас их туда выбирал? И вообще, почему в лагере все решает Большой совет, а не общий сбор, как требуют те самые коммунарские принципы? Ответ один: так сложилось. Это придумали не мы. Это традиция… К сожалению, это действительно давняя история, и о ней можно поговорить как-нибудь потом, при случае. А сейчас у нас впереди остается ровно десять дней, и мы, если захотим, еще можем прожить их по-другому – без всех этих «педагогических поддавков» и по-настоящему творчески. Ведь коммунарская методика и была придумана именно для этого. Мы постоянно твердим о революционных идеалах, носим красные галстуки, каждое утро поднимаем над лагерем красный флаг, поем революционные песни и передаем друг другу буденновки как некий высший знак отличия… Если мы действительно во все это верим, если эти идеалы и символы еще имеют над нами силу, то мы больше не можем продолжать эту лицемерную игру в «демократию». Я хочу обратиться к тем из вас, кто здесь впервые или только недавно столкнулся с коммунарством. Поверьте, эти принципы, которые мы затвердили, как попугаи, можно реализовать на практике. И вы можете убедиться в этом на собственном опыте. Просто до сегодняшнего дня здесь абсолютно всё решали за вас другие, взрослые люди. И решали далеко не лучшим образом. Я не хочу никого обвинять, потому что, на мой взгляд, главная причина тут – элементарная человеческая усталость: если одни и те же слова и действия повторяются десять лет подряд, восприятие неизбежно притупляется и все начинает делаться по инерции. Ясно, что в такой ситуации ни о каких революционных идеалах и ни о каком творчестве речи уже не идет. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, большинство из вас – нормальные молодые люди, вполне способные сами отвечать за себя. Поэтому я предлагаю вам прямо сейчас, на общем сборе, устроить маленькую, но самую настоящую «революцию»: распустить Большой совет, лишив «стариков» всех властных и прочих привилегий, переизбрать комиссара лагеря и отрядных командиров, а потом всем вместе заново подумать над тем, что хорошего, важного и полезного мы можем сделать за остающееся у нас время. А его не так уж и много. Что такое десять дней? Какие-то жалкие десять летних каникулярных денечков. Их можно просто проспать, и дело с концом. Но ведь это целых десять дней нашей собственной, единственной жизни! И лично мне жалко тратить их на какое-то абсолютно бессмысленное времяпрепровождение. Кстати, если кто-то подумал, что я предлагаю «старикам» бросить вас тут одних и просто разъехаться по домам, то это совсем не так, не пугайтесь. Наоборот, я уверен, что если мое «революционное» предложение будет принято и мы наконец освободимся от своей власти над вами, которая нам самим, если честно, уже до смерти надоела, – только тогда-то мы и сможем по-настоящему помогать вам как ваши старшие товарищи: давать разумные советы, делиться опытом, играть и выдумывать вместе с вами в полную силу и, что немаловажно, в свое собственное удовольствие. Потому что на самом деле мы давно уже перестали получать от всего этого удовольствие и радость… Господи, в каком же кошмаре мы живем, да и еще и по своей собственной воле! Пожалуйста, поскорее освободите нас от этого ужаса! Технически все это вполне осуществимо, поскольку никаких внешних перемен в нашей лагерной жизни не произойдет: мы в любом случае продолжаем работать здесь в соответствии с договором, запаса продуктов и денег у нас хватит, чтобы дожить, а все прочие практические вопросы легко решаются по мере их поступления… Ну, что вы на это скажете? Или же вы не хотите ничего менять, вас все устраивает, вы всем довольны, и пусть все остается как есть? Решайте!
Все молчали, только костер потрескивал. Взгляды в основном были притянуты к пламени. Некоторые «старики» посматривали на Фурмана и улыбались, но как-то неопределенно. Или, пожалуй, с какой-то тихой собачьей горечью.
Всеобщая немота опасно затягивалась, и комиссар Наташа, прочистив горло, мужественно взяла на себя функции ведущего. Она сказала, что выступление Саши для нее, как и для всех наверное, стало полной неожиданностью. Что-то из сказанного им безусловно справедливо, над чем-то нам еще придется как следует подумать, но с некоторыми его оценками согласиться совершенно невозможно. Тем не менее такая критика в целом очень полезна, и главное теперь – продолжать вместе работать над собой. Это, пожалуй, все, что ей хотелось сказать. По крайней мере, в качестве первой реакции. Может быть, кто-то еще хочет взять слово?
При всей умиротворяющей бессодержательности этой реплики, Наташа выдержала свое испытание вполне достойно.
Так как все по-прежнему хранили молчание, Фурман решил ответить на высказанные ею подозрения: «Я понимаю, что мое предложение прозвучало очень неожиданно для всех. Вообще-то я не собирался сегодня выступать и ни с кем это не обсуждал. Просто у меня, как говорится, накипело. Но я готов подчиниться любому решению общего сбора. Даже если вы решите меня выгнать – как опасного смутьяна, который смущает ваши юные умы, хе-хе».
Увы, единственным человеком, который не слышал всего фурмановского выступления, была Нателла: примерно посередине его речи она поднялась, сделала ему знак, чтобы он не обращал на нее внимания, и ушла по дорожке в темноту. К костру она больше не вернулась. Сев на свое место, Фурман тихонько спросил Тяхти, не знает ли она, куда подевалась ее подруга. Тяхти пожала плечами, а потом предложила несколько вариантов на выбор, в том числе и то, что у Нателлы мог начаться приступ почечной боли, связанный с ее хроническим заболеванием. По мнению Тяхти, помощь ей в любом случае не требовалась – все необходимые лекарства у нее с собой были. Тем не менее Фурман встревожился: мало ли что, а вдруг надо будет вызывать скорую, лучше бы все-таки пойти проверить, как она там. Тяхти ответила ему в своей жестковатой манере: «Делай, как считаешь нужным». Решив, что без него всем станет намного легче, Фурман покинул неловко молчащее собрание и отправился на поиски Нателлы.
Бегать на холоде по неосвещенной территории питомника оказалось не слишком приятно, поэтому Фурман зашел в «спальный корпус» и надел свитер и куртку. Нателлу он в конце концов обнаружил в ее сарае. Она лежала, свернувшись клубочком, и, похоже, крепко спала – во всяком случае, на негромкие обращения Фурмана никак не реагировала. Может, потеряла сознание от боли? Бежать за скорой – но куда? До поселка далеко, значит, на шоссе, ловить попутку? В такое-то время… А если она просто спит? На Нателле была одна тонкая зеленая рубашка, в которой она ходила днем, и Фурман, сняв свой свитер, осторожно укрыл ее. И что делать дальше? Возвращаться ко всем ему совершенно не хотелось. А может, вот он – удачный случай наконец поговорить с Нателлой наедине? Это даже хорошо, если она спит. Во сне все лучше усваивается. С чего же начать? «Видишь, как у меня все по-дурацки получается без тебя?..» – произнес он в пустоту. Он говорил еще что-то, но в его признаниях неизменно звучала какая-то фальшивая и даже откровенно пошлая нота, резавшая ему слух. Загрустив, Фурман умолк, а потом вышел из сарая. Возле слабеющего костра мелькали какие-то тени, и, чтобы больше ни перед кем не кривляться, он зашагал в противоположную сторону, к воротам. Просто так, погулять. Надышаться перед сном свежим воздухом.
…Утром все сделали вид, что ничего особенного не произошло. Здоровались с Фурманом даже чуть веселее, чем обычно, словно смутно припоминая, что вчера он здорово всех насмешил. Но если что-то его и огорчило, то разве что собственная глупость: вылез ни с того ни с сего на совершенно неподготовленную публику со своими революционными призывами, а детишки-то просто приехали сюда отдохнуть и немного развлечься… Он для порядка поинтересовался у Васьки и Людки Михайловой, что было у костра после его ухода, но оказалось, что и рассказывать-то не о чем: все молча посидели еще немного, а потом просто пошли спать. Даже Большой совет решили не проводить. «Ну и отлично. Зато теперь никто не сможет упрекнуть нас в том, что мы замыкаемся в своей отрядной жизни», – бодро подытожил Фурман.
Никто не упрекал его за его выходку, а многие даже мягко сочувствовали – словно больному, который не рассчитал свои силы, раньше времени встал с кровати и надорвался. Все это было почти смешно, но, чтобы окончательно отвлечься, Фурман на следующий день принял предложение подежурить на кухне. Добрый Васька по его просьбе показал ему, как правильно разрубать огромные сучковатые пни и как обращаться с печкой, – и дело пошло! Если не считать аккуратно порубленного на щепочки указательного пальца на левой руке, Фурман получил необыкновенное удовольствие от простой и наглядно результативной физической работы. Ему настолько понравилось это уединенное занятие, что через несколько дней, когда в лагерь приехал Данилов, он сам вызвался подежурить еще раз. Конечно, ему было очень неприятно думать о том, что обиженная фаворитка непременно нажалуется на него шефу: мол, этот наглый Фурман попытался устроить в лагере революцию и свергнуть ее, а заодно и весь Большой совет, и все только чудом уцелели… Что ж, если у Давыдова возникнут какие-то вопросы к нему, то – вот он, на боевом посту, так сказать. Но призывать его к ответу, видимо, сочли излишним, и короткий визит любимого руководителя прошел, как всегда, на ура. Фурман с удивлением отметил, что Наташа стала намного приветливее и внимательнее к нему. А там уж вскоре и лагерь закончился.
Последним общим делом стал ночной разгул под совершенно несоответствующим домашним названием «Голубая лампа». Несмотря на довольно разнузданную карнавальную атмосферу, основные границы остались незыблемыми, и Фурмана только пару раз дружески поцеловали в щечку – с его разрешения, и совсем не те, от кого он этого в своей унылой тайне ждал.
По традиции всем были розданы маленькие записные книжечки, в которых желающие могли сделать памятные записи. Фурману во первых строках была подарена (судя по почерку – Васькой) сочувственная цитата из известного стихотворения Юрия Левитанского «Иронический человек»:
Но зря, если он представится вам шутом.
Ирония – она служит ему щитом.
И можно себе представить, как этот щит