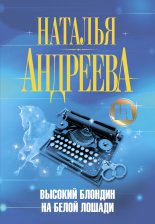Книга Фурмана. История одного присутствия. Часть III. Вниз по кроличьей норе Фурман Александр

Тяхти неуверенно предположила, что в такой критический момент прежние правила и устоявшиеся модели поведения больше не играют никакой роли и все зависит только от конкретных действий конкретных людей. Это было совершенно неожиданное заявление.
– Ты хочешь сказать, что, допустим, я могу делать тут все так, как посчитаю нужным? – не поверил Фурман.
– Ты можешь предлагать делать все, что ты считаешь нужным и полезным для лагеря. В каких-то разумных рамках, естественно… Ну, в общем, ты меня понимаешь… – слабо усмехнулась Тяхти.
– Кому предлагать-то?
– Всем нам. Общему сбору. Большому совету. На худой конец, мы с тобой на пару можем сбацать что-нибудь интересное.
– А если то, что я предложу, кому-то из вас не понравится, что тогда?
– Ну, если это кому-то очень не понравится… тогда придется думать. А вообще-то, я тебе скажу, наплевать!
– Ух ты, хитрая какая! Ты ведь собираешься слинять отсюда, а мне придется за все отвечать?.. Подожди-ка, я чувствую, что здесь зарыто что-то важное, но у меня какая-то затычка остается в мозгу, и ты должна мне помочь ее оттуда вытащить. Значит, так: если все правила отменяются…
– Фурман! – возмутилась Тяхти. – Я такого не говорила!
– Ну, разве ты не это имела в виду?.. Ладно-ладно, это не важно… Да не собираюсь я ничего разрушать, я просто хочу понять, как мне действовать.
Тяхти сказала, что, поскольку у нее «математически устроенный ум», ей легче рассуждать, опираясь на какие-нибудь наглядные модели. Фурман ехидно предложил ей взять в качестве «модели» брёвна, на которых они сидели и которые служили всем на общих сборах чем-то вроде лавок. Однако Тяхти с сомнамбулической готовностью приняла это нелепое предложение и, перечислив несколько практических способов использования этих бревен, пришла к банальному выводу, что с ними можно делать что-то еще, не столь очевидное. Сдерживая разочарование, Фурман сказал, что устал сидеть и немного постоит…
– Понимаешь, это слишком отвлеченная модель, – сказал он. – Наша главная проблема – это скука. Но скука заключается не в «бревнах» самих по себе, а в людях. Какое мне лично дело до того, что вообще можно делать с бревнами? Это какая-то абстракция. Даже думать об этом скучно!
– Ну, я тогда не знаю, – раздражилась Тяхти. – А что тебе было бы не скучно?
– Не скучно? Ну, сейчас мне было бы не скучно… например, перепрыгнуть через эти бревна. (Фурман перепрыгнул.) Неплохо! А еще, мне кажется, вот так скакать через них было бы не скучно. Алле оп!..
– Фурман, прекрати немедленно, хватит! – смеясь, замахала руками Тяхти. – У нас же с тобой серьезный разговор!
– А если попробовать на одной ноге? О, смотри-ка, получается!
Издали на них посматривали с осторожными улыбками.
– Слушай, Тяхти, – Фурман вдруг встал как вкопанный и хлопнул себя по голове. – Я все понял!
– И что же ты понял?
– Все! Слушай, спасибо тебе огромное, ты меня просто спасла – моя затычка вылетела! Ура!
– Поздравляю. Но я надеюсь, ты поделишься со мной тем, что ты понял?
– Тяхти, я все понял! Всё! Господи, какое счастье!
– Фурман, с тобой все в порядке? Ты случайно не тронулся умом?
– Очень даже может быть. Тебе страшно? Мне тоже. Надо всех предупредить об опасности. Эй! Полундра! Атас! Спасайся кто может! В лагере психи!
– Фурман, не позорь меня! Ты наконец скажешь мне, что с тобой случилось?
– Я сделал величайшее открытие! С твоей помощью!
– И? Ты можешь его как-то сформулировать?
– Сформулировать? О да, могу!.. Тяхти, надо просто скакать! Понимаешь? Надо все время скакать в свое удовольствие! Больше ничего не надо! Никаких правил!
Тяхти, кажется, слегка обиделась, но сияющий Фурман сказал: «Прости, я больше не могу устоять на одном месте!» – и какими-то необыкновенно вычурными прыжками поскакал на поиски Минаева.
Вечером в лагере появился Андрей Чернов. По его виду сразу можно было определить, что он поэт или художник: длинные светлые волосы, маленькая черная бородка, остренький хитроватый взгляд. Московские девчонки кинулись к нему, как к отцу родному, и сходу принялись жаловаться, но Мариничева успела предупредить его, что ситуация в лагере сложная, и Чернов держал дистанцию: мол, сначала я хочу все увидеть своими глазами. Фурман, с его обострившейся под влиянием Мариничевой наблюдательностью, отметил, что Чернов и при встрече со своей ироничной пышногрудой женой был так же сдержан (хотя, возможно, они оба просто стеснялись проявлять чувства на людях).
По плану назавтра должен был быть «Рыцарский день». Заданная ситуация выглядела банально, как праздник 8 Марта: девочки – «дамы», мальчики – «рыцари». Кто-то (чуть ли даже не Мариничева) придумал налепить из воска сердечки-кулоны для дам, и еще не вполне вошедшим в роль рыцарям пришлось сидеть до трех часов ночи, прокалывая остывающие сердечки иголками и продевая сквозь них непослушные нитки. Впрочем, девчонки в это время тоже были охвачены какой-то секретной суетой.
Когда почти все уже легли, Фурман по собственной инициативе потихоньку заменил на дверях туалета буквы М и Ж на Р и Д (правда, на следующий день ему пришлось не только специально обращать внимание сонных посетителей на эти изменения, но и объяснять им, что это означает «Рыцари» и «Дамы». «А, теперь понятно», – говорили они и неуверенно улыбались).
Утро началось с громких неприятных звуков – это Чернов, вообразив себя трубадуром, с суровым видом ходил вокруг корпуса и бил деревяшкой в цинковый таз. Через открытое окно его с трудом упросили дать всем доспать «законные» пятнадцать минут до подъема. Господи, это ж надо – вроде бы солидный человек, только приехал – и сразу вот так, с тазом…
На линейке всех обрадовали тем, что работа в этот день будет сокращена с обычных четырех часов до двух, а в оставшееся время на берегу озера состоится «Большая королевская охота».
Сразу после завтрака дамы начали расхаживать в каких-то подозрительных сарафанах и нелепых платьях из простынь с разнообразными самодельными украшениями. Но вскоре прогудел подкативший автобус, и им пришлось спешно переодеваться в рабочую одежду. (Увы, по части костюмов рыцари в массе своей оказались куда менее подготовленными. Среди немногих отличившихся был Минаев, который намотал на себя два коричневых одеяла, повесил на грудь большой картонный крест и объявил, что он аббат. Весь день он всех и вся благословлял, а вечером, на зависть прочим «железным дровосекам», принимал исповеди у дам.)
Толокнянкой назывались низенькие кривые кустики с мелкими жесткими листочками, которые нужно было срезать маникюрными ножницами и складывать в мешки. Когда-то Фурман с удовольствием возился с мелкими деталями склеиваемых моделей, но теперь эта скрупулезная однообразная работа вызывала в нем какое-то невыносимое телесное бешенство, чуть ли не судороги. Как назло, на протяжении многих дней сбор толокнянки оставался основным трудовым занятием, а о каких-нибудь вениках можно было лишь мечтать. Один раз ему удалось спастись от этого кошмара благодаря прямому вмешательству космических сил: в то утро откуда-то стало известно о старте нашего корабля по программе «Союз-Аполлон», и Фурмана оставили в лагере рисовать плакат, посвященный этому радостному событию.
Так что укороченный рабочий день пришелся как нельзя кстати. А добровольцы, пожелавшие стать на время королевской охоты зверями, получили освобождение от работы еще раньше, чтобы успеть рассеяться по родному лесу. Фурман с самого утра решил, что будет большим королевским тигром, и ради такого случая достал со дна своего рюкзака алые атласные трусы, которые не надевал со времен больницы, и полосатую футболку, издали похожую на тельняшку. Скептикам пришлось популярно объяснить, что такая необычно яркая «окраска» тигра призвана предупреждать о его особой опасности.
Жалкие людишки, конечно, жестоко заблуждались, думая, что это они будут охотиться на тигра. Он не торопился, прислушиваясь к разносившимся по лесу крикам. Похоже, олень, медведь-гризли, волк и лиса тоже не хотели за так отдавать свою жизнь… Тигр без труда задушил двух мелких рыцарей, слепо высматривавших его следы, но за количеством он не гнался. У него была более увлекательная цель: пробраться в королевский шатер (или как там это у них называлось) и, по возможности, утащить оттуда в свое логово какую-нибудь знатную даму.
Охота на него была организована настолько бестолково, что тигр даже загрустил. Чуть ли не в открытую обойдя галдящую толпу и сладко проскользнув под носом у довольно серьезной засады, он залег в траве на краю главной человеческой полянки. Картина до смешного напоминала пастораль: жаркий летний день, три юных дамы – Лариска Артамонова, Ира Зайцева и Нателла, – сидя в тенечке, старательно плетут венки из лесных цветов под присмотром закутанного в одеяла «пастыря», а за спиной у них между сосен спокойно синеет море… Только притаившегося в кустах тигра здесь и не хватало – для моралите. Но, забыв о голоде и мщении, тигр с какой-то восхищенной печалью разглядывал из своего укрытия трех разноцветных девушек: пепельно-смуглую, с лиловыми губами и непослушной каштановой челкой; молочно-белую, с темными прямыми волосами; и охряно-золотистую, с медным шлемом, – завороженный тем, как по-разному сосредоточены их лица, как по-разному щедро и беззащитно цветут эти три тела и как над каждой клубятся веселые облачка с призрачными фигурками будущей судьбы…
Бродивший по поляне аббат вскоре ревниво ощутил присутствие постороннего, поэтому созерцателю пришлось встряхнуться и явить себя на сцене в качестве тигра. Девушки встретили его горловое рычание насмешливо-поощрительными возгласами и расположились поудобнее, чтобы следить за предстоящей смертельной битвой. Почему-то им и в голову не приходило, что сообразительное животное могло предпочесть одну из них тощему аббату (который к тому же когда-то занимался боксом). От наигранного «поповского» ужаса перед диким зверем Минаев решительно перестроился на роль отважного монаха-воина: скинул с себя одеяла, занял боевую стойку и сурово нахмурил свои густые черные брови. Они с тигром медленно закружили по песку, и скалящему клыки Фурману все это казалось каким-то прекрасным фильмом или счастливым сном: розовые стволы сосен, море, разомлевшие на жаре красавицы с их притворно-равнодушными взорами, яростно-трезвый поединок в ярких костюмах…
Еще один тематический день был посвящен «Алисе в Стране чудес», и Тяхти, которая отвечала за его подготовку, сделала Фурману неожиданное предложение – взять на себя главную роль. Как какую? Алисы, конечно. Опешив, Фурман признался, что не успел дочитать выданный ему журнал с заходеровским переводом. Ничего, время еще есть, успокоила его Тяхти, как раз за сегодняшний вечер и прочтешь. Да ты не пугайся, ничего особенного от тебя не потребуется – это такая “свободная” роль, почти без слов. Ну хорошо, допустим, задумался Фурман. А с этим-то что делать? – Он осторожно поводил ладонью по своей рыжей щетине, которая давно уже служила предметом всеобщего внимания. А зачем с этим нужно что-то делать, удивилась Тяхти. Наоборот, это будет даже пикантно – Алиса с бородой! Такого наверняка нигде еще не было.
Утром две строгие от стеснения девушки подобрали Фурману длинную легкую юбку на резинке, с деловитой силой завязали на вихр бантик, пририсовали несколько крупных веснушек, наскоро научили приседать в книксене и сказали: «Всё, можешь идти».
Объявленный на линейке выход Алисы и ее первый книксен произвели такой фурор, что Фурману было позволено ехать на толокнянку как есть и, не меняя имиджа, отработать этот день на «культурном фронте»: мол, так и быть, толокнянку мы сегодня соберем и без тебя, а ты будешь нас развлекать. «Заказ» был немного обидным, но Фурман решил жестко держаться в рамках образа и честно общаться с встречающимися Алисе странными существами (книгу он только пролистал и представление о сюжете имел лишь самое общее, но его утешало то, что после всех своих сюрреалистических приключений Алиса просыпалась где-то рядом с домом).
За четыре часа на жуткой жаре он обошел почти все рассеянные в прибрежном лесу группки сборщиков толокнянки, вступая в нелепые разговоры, вызывая смех, получая маленькие подарки и, как было предписано, оценивая оказываемые Алисе «услуги» в баллах и занося результаты в зеленый блокнотик, висевший у него на шее. Впрочем, кое о чем он вынужден был умолчать.
В лагере с мягкой иронией преследовались любые формы «уединения», в том числе и групповые. Но на толокнянке контроль ослабевал, и отдельные группы могли превращаться в «парочки». В этот день дальше всех по берегу, к удивлению Фурмана, оказалась Тяхти со «стариком» из другого отряда Лёней Олыкайненом. Сначала Фурман увидел светловолосого голубоглазого Лёню, который сидел на толстой нижней ветке большого дерева, болтая ногами, улыбаясь и явно пренебрегая своими трудовыми обязанностями. Они обменялись несколькими репликами, и тут из-за ближних деревьев вдруг вышла Тяхти. Похоже, она спряталась, а потом передумала. Обрадованный Фурман начал было подшучивать над их «уединенным сачкованием», но Тяхти почти сразу перевела разговор на то, как встречали Алису остальные. Слушая красочный рассказ Фурмана, Тяхти смеялась от души, и все же он почувствовал, что она думает о чем-то другом. В какой-то момент она решилась и остановила Фурмана: с ним, конечно, очень весело и интересно, но сегодня ее последний день в лагере, и для нее крайне важно закончить начатый разговор с Олыкайненом, поэтому она страшно извиняется и просит Фурмана удалиться. Судя по Лёниной улыбочке, ему этот разговор не сулил ничего хорошего. Смущенный Фурман поспешил ретироваться, а Тяхти напоследок строго наказала ему молчать о том, что он видел их вместе.
Устало бредя по горячему песку в обратном направлении, Фурман с вялым огорчением думал о «превратностях любви» и удивлялся бессловесному однообразию плеска волн, механическому сверканию солнца и тупой настырности пробивающихся сквозь почву растений…
Весь этот долгий, душный день Алиса провела в непрерывном общении со стрекочущими, подпрыгивающими, подмигивающими и неумело заигрывающими с ней человечками, а на следующее утро вдруг оказалось, что все ужасно подружились с Фурманом и с нетерпением ждут от него чего-то необычного и что чуть ли не с каждым у него теперь есть какие-то не очень понятные тайные отношения и улыбчивые обязательства, а когда он встает со всеми в круг, к нему с двух сторон неизменно пристраиваются две девочки, которые почему-то называют себя «Алисиными сестричками», и пугающе сладко заглядывают ему в глаза. Что-то вчера такое с ними было у Алисы, в результате чего они получили какие-то особые права, но что именно, он никак не мог вспомнить… Москвичи на «точке» ревниво посмеивались над его «дешевой популярностью», добытой, по их мнению, пошловатыми фурмановскими шутками и бесконечным кривлянием. Но он не обижался, чувствуя, что странным образом отдалился от них и, более того, внутренне окончательно «перешел на сторону врага» (то есть, как он это для себя сформулировал, «простых людей»).
Фурман собирался денек передохнуть после своих трудов, но на радостях его вместе с Верой Липовецкой выбрали дежурными по кухне. Разбудили их в половине шестого утра. Верка пошла в вагончик за продуктами, а Фурману велела разжечь уличную плиту. Открыв заслонку и сонно заглянув в нее, он вдруг сообразил, что ни разу в жизни этим не занимался. В детстве в Покрове бабушка Нина при нем, бывало, топила печку, но никакого «технологического» урока из этих воспоминаний извлечь не удавалось. Вообще-то он и дров никогда не колол, а костер, может, и разжигал когда-то с ребятами во дворе, но это ж было одно баловство, а не костер… Тем не менее надо было действовать. Фурман брезгливо перетащил к плите штук шесть тяжеленных чурбанов, гордый тем, что Верка одна с ними ни за что не справилась бы, плотно забил их в отверстие, с трудом натолкал между ними сыроватые клочки бумаги и несколько сухих веток и стал поджигать. Бумажки только тлели, а весь массив лежал холодной глухой стеной. Фурман извел уже треть спичечного коробка, но проклятая печка и не думала оживать. «Чего-то она не загорается», – признался он Верке, которая сердито поинтересовалась, все ли у него готово. «Слушай, какого черта ты там так долго возишься? Через полчаса все уже встанут, а у нас еще плита не горит!.. Ну, так сделай что-нибудь с этими дровами, я уж не знаю, пошевели их Я свое дело делаю, а это твои проблемы». Но все было бесполезно. Минуты шли, Липовецкая уже начала материться на него, и Фурман все глубже погружался в ледяное отчаяние. Наконец, когда думать о репутации и собственном достоинстве стало бессмысленно, он по Веркиному совету пошел и разбудил вчерашнего дежурного Мишку – молчаливого деревенского парня с золотыми руками. Тот без лишних слов повыбрасывал из печки все заложенные Фурманом огромные пни, ловко расколол на тонкие аккуратные полешки пару небольших чурбачков, уложил их как следует, не пожалев бумаги и растопки, – и печка тут же запылала. Фурман готов был прослезиться, но Мишка великодушно сказал ему: «Ничего, тут тоже навык требуется…» В общем, с завтраком все как-то обошлось.
А потом Фурман, охваченный постыдной слабостью и страхом перед женской брутальностью Липовецкой, совершил подлость: попросил Мишку и дальше подежурить за него на кухне – мол, ты же видишь, от меня здесь никакого толку и нам все равно придется каждую минуту звать тебя на помощь, а у тебя так здорово все получается… Отведя взгляд, Мишка неохотно кивнул и сразу куда-то ушел.
Этот «дикий» случай потряс руководство лагеря, но, видимо, он настолько не вязался с уже сложившимся «позитивным» образом Фурмана, что всем запомнилось только то, что это сделал кто-то из москвичей, а кто именно, очень быстро забылось…
В сумерках Фурмана с Минаевым вдруг вызвали на Большой совет. Идя к вагончику, они со смешливым испугом перебирали свои прегрешения, но внутри их встретили приветливо, потеснились, чтобы они могли занять удобные места за столом с горящей свечкой, и лишь заметив в полутьме окаменевшую улыбку Мариничевой, они стали догадываться, что произошло что-то серьезное. Еще минут десять продолжалось прерванное их приходом обсуждение текущих хозяйственных дел (Фурман, который еще ни разу не был в вагончике, пока с любопытством осматривался, стараясь не привлекать к себе внимания), а затем перешли к главному вопросу – о нетерпимой ситуации, сложившейся в лагере. Все члены Большого совета высказывались по кругу: кто-то в примирительном тоне, кто-то – чрезвычайно резко. Суть же сводилась к тому, что с приездом москвичей лагерная жизнь стала выходить из-под контроля, что они раскалывают коллектив, подрывают доверие к комиссарам, открыто выступают против «товарищеских» традиций, что все уговоры и попытки наладить нормальные человеческие отношения оказались безрезультатными и теперь требуется принять какое-то радикальное решение.
Многие из этих обвинений Фурман уже слышал от Тяхти, но не в такой жесткой форме. Что ж, этого следовало ожидать. Как говорится, «за что боролись, на то и напоролись»… Просто Фурман за последнюю неделю как-то совершенно расслабился, перестал чувствовать себя чужим, и ему было уже жалко все это бросить. Тем не менее он не собирался терпеть унизительную выволочку. Когда дали слово представителям «Алого паруса», он, волнуясь, сказал, что очень хорошо понимает обиду и раздражение «товарищей», но все же не стоит всех москвичей валить в одну кучу, потому что они очень по-разному оценивают происходящее. По крайней мере, мы трое благодарны вам за то, чему успели здесь научиться, и сожалеем, что все так повернулось. Мы этого не хотели. Но, видимо, сторонники радикальных мер правы: ситуация зашла слишком далеко, и единственное возможное решение заключается в том, чтобы мы ближайшим же поездом уехали, дав вам возможность нормально работать в оставшееся время.
«Товарищи» явно растерялись от его слов. Нет, они совсем не это имели в виду! Они вовсе не хотят, чтобы все москвичи уезжали, и вполне отдают себе отчет в том, что без них жизнь в лагере стала бы только хуже. Потому что москвичи почти в любом деле поднимают планку, задают другой уровень, заставляют людей больше работать головой и вообще… Нет-нет, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы вы уехали! Мы вас не отпустим!
Фурман с Минаевым ничего не могли понять. Тогда к чему весь этот разговор?!
Оказалось, что им предлагают разделиться. На тех, кто нужен лагерю, и тех, кому лагерь не нужен. Мол, не секрет, что среди москвичей есть несколько людей, которые на корню отвергают все, что происходит в лагерной жизни. При этом они уверены, что борются за какие-то принципы, но на самом деле им здесь просто по-человечески очень плохо, они элементарно «не прижились» в коллективе и только зря мучаются. Возможно, если им в вежливой и достойной форме предложить уехать, это стало бы для них удачным выходом. А так как именно эти люди, настроенные «непримиримо оппозиционно», и являются, по общему мнению Большого совета, главным источником напряжения и раскола в лагере, их отъезд мог бы изменить и всю конфликтную ситуацию в целом.
Значит, кого-то предлагается принести в жертву?
Нет, зачем же, это должен быть добровольный выбор, мы никого не выгоняем, а только предлагаем рассмотреть это как один из вариантов…
И кого же вы… кто, по-вашему, должен уехать?
По мнению Большого совета, таких людей было всего двое: Таня Чернова и Вера Липовецкая.
Цена была назначена. И она действительно была минимальной.
Мариничева наконец вмешалась, сказав, что они не уполномочены решать за весь «Алый парус» и что любое решение такого рода может быть только коллективным. Поэтому она как исполняющая обязанности руководителя клуба просит дать им время подумать до завтра. После того как Большой совет проголосовал за это решение, их отпустили.
Черная беззвездная ночь, нервная тряска, парок изо рта. Скорбный вопрос Мариничевой: «Ну, и что вы обо всем этом думаете?»
Фурман уверенно заявил, что рассусоливать тут нечего и надо завтра же уезжать всем вместе, иначе клуб просто развалится. Минаев мрачно молчал, а Мариничева с горечью сказала, что все не так просто, потому что клуб в своем прежнем виде и без того уже почти развалился, и речь может идти только о том, быть ли в дальнейшем какому-то новому «клубу», но только уже открыто связанному с идеей коммунарства, или лучше им всем по возвращении в Москву просто разбежаться по своим углам. Во всяком случае, в Карелии ей стало ясно, что в этом вопросе она ни на какие компромиссы больше не пойдет. А если так, то ядру этого возможного будущего клуба следует оставаться в лагере до конца и продолжать учиться, в том числе и на опыте собственных мучительных ошибок. Фурман понимал ее, но ему было страшно снова остаться одному. Минаев же переживал в основном за девчонок и из-за всей этой мерзкой ситуации «предательства» в целом. Но поскольку все заинтересованные лица уже спали, они решили отложить общий разговор на утро.
После завтрака было объявлено, что москвичи сегодня не едут на толокнянку и остаются в лагере. Ночные события держались в строгом секрете, поэтому многие им завидовали, а они сами, бедняги, даже не догадывались о том, что их ждет.
Предложение Большого совета вызвало у всех шок – в первый момент большинство просто истерически расхохотались. Потом началось бурное обсуждение. Чернова с Липовецкой, естественно, встали в позу обиженных и заявили, что раз все упирается только в них, то они готовы хоть сейчас отправиться в Москву, можно даже пешком. Артамонова в своей обычной манере призывала устроить в лагере бунт и свергнуть этих чудовищных комиссаров, взяв «хотя бы маленький реванш за семнадцатый год». Благородный Рожнов сказал, что если девочки решат ехать, то он поедет с ними, потому что нельзя же отпускать их одних в такой опасный путь. После долгих грустных споров постановили провести тайное голосование: кто хочет уехать, а кто – остаться. К общему удивлению – и к ужасному разочарованию обреченных девчонок – за отъезд проголосовали только трое.
На следующий день они с тихой обидой отбыли. Поэт Чернов откликнулся на это событие меланхолично-чеканным четверостишием:
- Коммунары,
- Камуфляжи…
- Кому – нары,
- Кому – пляжи.
Судя по последствиям, удар был нанесен с хирургической точностью. Даже странно, что две в общем-то ничем не выдающихся девчонки могли создать вокруг себя такое мощное конфликтное поле. После их отъезда «точка» сразу потеряла свое «идейное» значение и вновь стала просто местом для курения. Вся «оппозиция» теперь сводилась к артистичным выходкам Лариски Артамоновой – например, прошел слух, что она в компании с Черновым и Зайцевой распивала в лесу пиво и играла в карты на раздевание (впрочем, у многих это сообщение вызвало не столько моральное негодование, сколько завистливый интерес и навязчивую работу воображения)… Фурман и Минаев, которые и без того чувствовали себя «повязанными кровью невинных жертв», были введены в состав Большого совета, и им открылась страшная тайна ночных чаепитий в вагончике – с сушками и карамельками из лагерного «спецраспределителя». Участие в этих уютных комиссарских бдениях сблизило их не только с немногочисленной «товарищеской» элитой, но и – по-новому – с Мариничевой. Они теперь частенько «уединялись» втроем, обсуждая предстоящую им в Москве «битву за клуб» и перебирая возможных сторонников и противников.
«Данилов приехал!» – раздался ликующий крик, и, побросав дела, все побежали встречать руководителя клуба «Товарищ». Лишь москвичи подчеркнуто никуда не торопились. Как им вскоре сообщили, Данилов, возвращаясь на велосипеде из Прибалтики, решил сделать большой крюк, чтобы на один день завернуть в лагерь. Когда первые страсти немного улеглись, москвичи пошли посмотреть на легендарную личность. Данилов оказался могучим бородатым мужиком с чудесно сияющими льдисто-голубыми глазами. На журналиста он был мало похож – скорее уж на геолога или на помолодевшего врубелевского Пана, чья сиволапая мощь очень неожиданно сочеталась с игривыми интеллигентными манерами и хорошо выстроенной речью.
Пока Данилов отсыпался в вагончике, жизнь в лагере внешне вернулась в обычную колею, но у всех сохранялось ощущение праздника. Вечером Данилов устроил «пресс-конференцию». Он подробно рассказал о своем многодневном велопутешествии и дорожных приключениях, а потом стал отвечать на глуповатые записочки с вопросами «из зала». В основном всех почему-то волновало международное положение («Данилов, объясните, что происходит в Аргентине»), а также чем любовь отличается от дружбы, есть ли жизнь на Марсе, отменят ли когда-нибудь деньги и прочая чепуха. Когда вопросы иссякли, Данилов взял гитару и объявил «концерт по заявкам». Играл и пел он так себе, но под гитару общий хор звучал намного слаженнее.
После отбоя посиделки продолжились в вагончике. Вначале комиссар Эля своим нежным тихим голосом кратко проинформировала Данилова обо всем, что происходило в лагере, – за исключением самого главного. Затем, волнуясь и дополняя друг друга, ему описали тяжелый внутренний конфликт, возникший с приездом «Алого паруса», и тот мучительный способ, которым он был благополучно разрешен, причем Минаев и Фурман были лично представлены суровому вождю как «особо отличившиеся среди москвичей». Благосклонно поулыбавшись «нашим новым друзьям», Данилов быстро подвел итоги, сделал несколько метких замечаний на будущее и предложил перейти к неофициальной части заседания. На столике откуда-то появились бутылка красного сухого вина, тарелки с нарезанным сыром и – о чудо! – копченой колбасой, печенье, какие-то конфетки – и вскоре все погрузились в веселые воспоминания и сбивчивые разговоры, перемежаемые песнями. Разошелся Большой совет только в половине пятого, когда за окошком уже начинало светать.
Утром, отправляясь на толокнянку, все долго махали Данилову, готовившему в дорогу свой видавший виды велосипед, а всю вторую половину дня чувствовали себя потерянными и опустошенными, словно в родительский день после отъезда родственников…
– Знаете что, я чувствую, что эта дурацкая толокнянка мне тоже уже надоела до чертиков, – с трудом разгибаясь, сказала Мариничева. – У меня от нее спина болит и в глазах рябит. Я думаю, на сегодня с нас хватит. Сколько там времени-то осталось до конца работы? Нормально! Ничего, соберут они свою дневную норму и без нас. А мы лучше немножко посидим в тенечке и заодно обсудим что-нибудь важное, правда?
Минаев с Фурманом покорно поплелись за ней. Было очень жарко. Мариничева попросила у них разрешения снять рубашку и осталась в изящном бордовом лифчике. На ходу она собирала какие-то ягодки и совала им по очереди в рот. Когда она в очередной раз наклонилась, из лифчика, сверкнув белым, словно большущая живая рыбина на крючке, вдруг выпрыгнула левая грудь с длинным соском. «Пардон!..» – хрипло пробормотала Мариничева, испуганно оглядываясь на ничего не заметившего Минаева и торопливо запихивая грудь обратно. Просто мне этот лифчик немного тесноват, виновато пояснила она Фурману. И вообще он не предназначен для таких упражнений, зачем только она решила надеть его именно сегодня… Да ладно тебе, все нормально, успокоил ее Фурман, с каждым может случиться.
Наконец она выбрала под деревьями ровное местечко, откуда к тому же было видно море, и они с наслаждением повалились на землю.
– Слушайте, я вас не слишком шокирую, если продемонстрирую вам одну свою обновку и попрошу вас оценить, можно ли появляться в ней на публике? – спросила неугомонная Мариничева. Удивившись тому, что она прихватила на работу какую-то модную одежду, они с закрытыми глазами согласились – ладно, мол, валяй, демонстрируй. Она поднялась, бормоча, что, как они сейчас убедятся, она не могла показать им эту вещь раньше, хотя приобрела ее в комплекте… Ну, смотрите! Оказалось, что к бордовому лифчику прилагались такие же трусики. Всё бы ничего, но оказалось, что сзади у них – прозрачная сеточка. Взглянув друг на друга, Фурман с Минаевым упали обратно.
– Ну, так как, ничего?
– Понимаешь, Оля… – начал Фурман с закрытыми глазами.
– Что, вы думаете, это совсем неприлично? – расстроилась она.
– Нет, что ты, где-нибудь на п-п-пляже в Рио-де-Жанейро это смотрелось бы классно! – восторженно заверил ее Минаев. – Честно! Да я бы и сам такие с удовольствием носил!
Еле сдержав смех, Фурман с лицемерным сочувствием заметил:
– Но ты ведь знаешь, какие строгие представления о нравственности у этих провинциальных коммунаров. Мне кажется, они не поймут этого авангардного стиля. Особенно сзади…
– Ну, не поймут, так и черт с ними, – обиженно буркнула Мариничева и плюхнулась на живот между своими верными телохранителями. – Ладно, я пока полежу так, а то неохота по десять раз переодеваться… Конечно, вам смешно, а знаете, во сколько мне обошелся этот комплект? И вообще, не зря же я тащила его сюда из Москвы…
Какое-то время они молча дремали, а потом над Фурманом закружилась страшная оса, он в панике сел и увидел стоящего на берегу высокого мужчину в темном костюме и шляпе, который тревожно пялился в их сторону. Когда Фурман с Борькой вскочили на ноги, мужик вроде бы пошел своей дорогой, но после этого они настояли на том, чтобы Мариничева прикрылась и перестала смущать несчастных аборигенов своим модным гардеробом. Да и вообще, пора было двигаться к автобусу…
Между тем одна из бывших «Алисиных сестричек», похоже, влюбилась в Фурмана. Звали ее Надя, она была кареглазая, улыбчиво молчаливая, со смуглым румянцем. С Фурманом она почти не разговаривала, только смотрела на него сияющим взглядом и в кругу всегда старалась встать рядом. Все уже привыкли к этому и предупредительно уступали ей ее «законное» место. Мариничева, которая в знак особой дружбы придумала Фурману коротенькую собачью кличку и теперь звала его Фур или ласково – Фу-у-ра, преувеличенно радовалась тому, что «вот и Фура наш тоже попался», и навязчиво покровительствовала этому в общем-то несуществующему «роману».
До конца лагеря оставалось уже меньше недели. Последним из больших «дел» стала военная игра, в которой Фурман взял на себя роль главнокомандующего. Продумывая костюм фельдмаршала, он решил еще раз выступить в своих алых трусах, так удачно использованных им в образе королевского тигра. Но ночью ему впервые за все это время приснились какие-то чрезвычайно запутанные и захватывающие приключения, после которых пришлось переодеваться в темноте. Чтобы не рыться в рюкзаке и не шуметь, он натянул приготовленные на утро красные трусы. Увы, он недооценил запасы накопившейся энергии, и фантастически бурная жизнь продолжилась с новыми поразительными существами… Результатом торопливой и немного грустной утренней попытки застирать пятно стало образование на благородном атласе вытертой белесой проплешины.
С игровой точки зрения было бы совершенно неправильно, если бы облачение фельдмаршала ничем не отличалось от той будничной рвани, в которой все привычно щеголяли. Надо было срочно искать замену.
По предложению Фурмана и в порядке эксперимента Большой совет подстроил все так, что на общем сборе Фурмана единогласно выбрали дежурным командиром лагеря на этот день, поэтому обязательным элементом его костюма была буденновка. Если отвлечься от «красноармейских» ассоциаций, то по форме этот головной убор, придуманный художником Васнецовым, представлял собой стилизованный шлем древнерусского воина. Подобрать что-то в том же стиле в ограниченных лагерных условиях было едва ли возможно, но мелькнувший перед Фурманом образ другого воина – древнегреческого, в коротком хитоне – навел его на новое смелое решение. Правда, пришлось уламывать Нателлу, чтобы она на время уступила ему свою единственную ценную вещь – коричневую замшевую мини-юбку с золотистыми кнопками. Однако эффект от абсурдного сочетания буденновки и мини-юбки превзошел все ожидания, и после успешной примерки Фурману – уже по доброй воле – выдали чью-то тоненькую блузку с серебристыми полосками. Впечатляющий образ довершили старенькие футбольные гетры поносного цвета, которые Фурман по какому-то наитию прихватил из дому. Теперь фельдмаршала ни с кем нельзя было спутать.
Стратегический план сражения двух армий Фурман составил как всегда прекрасно: правая колонна марширует туда, левая колонна марширует туда, во столько-то часов они встречаются там-то, и происходит битва… Но всё пошло наперекосяк из-за самоуправства командира «левой колонны» Минаева – вроде бы близкого человека, получившего четкие и ясные инструкции и, по дружбе, совершенно секретную карту, на которой были отмечены некоторые из запланированных передвижений противника. Выведя свой отряд к нужному перекрестку лесных дорог, он вдруг решил всех перехитрить и приказал свернуть не в ту сторону, в которую ему было предписано. После этого он почти на три часа просто потерялся в лесу. В отсутствие главных сил противника вражеская армия легко раздавила всех, кого встретила на своем пути, и, поскольку делать ей было уже нечего, начала разлагаться. Игра была сорвана. Наконец всем – и живым, и «убитым» – надоело ждать пропавших, и они собрались уходить в лагерь. Появление Минаева, отряд которого, как выяснилось чуть позднее, во время своих бессмысленных блужданий случайно наткнулся на слабо защищенный тайный штаб противника и захватил его знамя, вызвало сначала смех, а потом усталое раздражение. Основные силы обеих армий полностью сохранились, но при этом оба знамени были захвачены врагом, что по правилам означало поражение. Бред. Все уже достаточно набегались по лесу, и сражаться «стенка на стенку» почти никому не хотелось. Значит, ничья? Ура! И только Фурман ужасно злился на Борьку и вообще на всех людей, которые своей тупой самодеятельностью вечно портили его замечательные игровые планы…
На самом деле Фурман вот уже который день был абсолютно счастлив. Впервые в жизни он был полностью востребован окружающими: вся его живость, все его случайно подхваченные знания, всё, что он успевал придумать, почувствовать и сказать, включая рискованные шуточки, которые сыпались из него на каждом шагу, – всё это тут же летело в общий котел и превращалось в праздник общения. Он совершенно забыл о доме, о своем одиночестве и пустоте, ощущая себя текучим электрическим сгустком, радостно вспыхивающим в момент контакта. И этот контакт происходил почти непрерывно, а в прежнее свое отдельное тело он теперь попадал лишь на какие-то короткие мгновения: забираясь под одеяло и сладко ища удобную позу перед тем как провалиться в сон; или встраиваясь в песенный круг и каждый раз по-новому ощущая, как руки легко укладываются на плечи и талии девушек, а их руки приветливо и благодарно оплетают его самого; или засиживаясь под скрип сосен в полутемной будке туалета, куда, впрочем, всегда вырастала нетерпеливая очередь…
В последний день состоялся волнующий, стыдный, смехотворно-нелепый и необыкновенно занудный многочасовой «Откровенный разговор», на котором все по очереди высказывали свое мнение о каждом и о том, что он дал лагерю. (Заговаривая о Фурмане, почти все начинали улыбаться, а комиссар Эля с какой-то неожиданной материнской интонацией рассказала, что она сразу отметила в толпе приехавших москвичей «смешливого мальчика с такими живыми и внимательными карими глазенками» и почему-то решила, что взаимопонимание возможно, а значит, все должно сложиться хорошо, – и дальнейший ход событий показал, что это первое впечатление было правильным.)
Праздничный ужин, устроенный из разнообразных остатков продуктовых запасов, немного развеял общее напряжение, и с набитыми животами все отправились на озеро жечь прощальный костер.
К вечеру жара резко спала. Порывистый ветер гнал на берег короткие насупленные волны, и пустынный пляж выглядел довольно неуютно. Но зато на горизонте над некрасиво бугрящимся морем развертывалась совершенно фантастическая закатная битва. По одну сторону от увядающего на глазах солнца упрямо встали гордое золото, придворная пышность и усталая голубизна уходящего дня, а по другую зависла чудовищная фиолетово-черная туча с беззвучно полыхающими зелеными зарницами, за которой умело пряталась подступающая ночь. Из-за контрастного сочетания казалось, что жутковатый желтый предвечерний свет мигает, как лампочка.
Пока все, тревожно посматривая на небо, суетились вокруг болезненно чадящего костерка, Фурман залез на одинокую каменную глыбу у кромки воды и в каком-то немом цветомузыкальном упоении бросил свой вызов демонически разгулявшимся стихиям (в одной Бориной книге он видел похожую черно-белую картинку: великий английский поэт-романтик Байрон на вершине скалы над бурным морем…). Эффектное театральное освещение и возвышенная фурмановская поза – руки сложены на груди, взгляд устремлен в бесконечный простор, волосы треплет ветер, – произвели соответствующее воздействие на одну из петрозаводских девушек. Она деликатно подобралась к Байрону сзади, мягко тронула его за рукав и спросила, не плохо ли ему. Испуганно очнувшись и чуть не свалившись с камня, Фурман объяснил, что просто хотел немножко побыть один. «У тебя правда все в порядке?..» – «Если ты подумала, что я собираюсь утопиться, то для этого здесь слишком мелко», – пошутил он в своей обычной манере. Успокоенная девушка удалилась, а Фурман остался торчать на дурацком камне, стыдливо глумясь над пошлостью ситуации – и на всякий случай периодически оглядываясь.
Тем временем солнце закатилось, и величественная картина как-то очень быстро размазалась по небу, утратив драматизм и растеряв все свои краски. Даже ту гигантскую черную тучу куда-то унесло. Победила ночь.
В темноте костер все же удалось разжечь, и он получился таким мощным и «долгоиграющим», что после завершения общего веселья – под конец уже совершенно безумного – тринадцать человек решили остаться на берегу и вместе встретить восход. Несколько добровольцев, взяв фонарики, сбегали в лагерь за теплыми вещами и одеялами для всех, и костровое братство с тихими песнями досидело вокруг огня до четырех часов утра, когда тьма немного посерела. Кто-то, сломавшись, отправился спать, а самые стойкие разбились на парочки и тесные кучки, чтобы подремать часок-другой до рассвета.
Фурман прилег, опираясь на правый локоть, а Надя прижалась спиной к его груди и доверчиво положила голову ему на плечо. Отсветы пламени золотили ее смуглые щеки и странно играли тенями, а стеснительно сияющие карие глаза оказались совсем близко. Улыбаясь, Фурман с Надей молча смотрели то на огонь, то друг на друга. Некоторое время Фурман оберегал Надю, борясь со своим бессмысленным нехорошим возбуждением. Но печальная истеричность ситуации «последнего дня», подспудный страх перед неизвестным будущим, жалость к себе, цепляющиеся за спину ледяные когти ночи и исходящее от Нади чудесное живое тепло ослабили его благородную волю. Его левая кисть, до этого спокойно и бережно лежавшая на Надином плече, поползла вверх, изогнулась, ласково потерлась о бархатистую щечку, потрогала твердое ушко, потом скользнула к шее, немного погуляла там и неторопливо направилась ниже, в широко раскрытый ворот… «Нет, – твердо шепнула Надя. – Так нельзя». – «А почему нельзя?» – с глуповатой детской интонацией переспросил Фурман. Нахмурившись, она застегнула две верхних пуговички из трех, потом примирительно захватила его непослушную руку в плен, по-хозяйски крепко прижала к себе в безопасном месте и устало закрыла глаза.
В сумраке шелестели и нежно плескались бессонные волны. Тяжелый от сырости воздух, нервно подрагивая, опускался на песок и вдруг целым куском резко смещался куда-то в сторону, точно объемный бумажный змей на прочной нити, уверенно удерживаемой морским простором… В голове у Фурмана сквозь шуршащую пелену случайных мыслей все громче звучал большой симфонический оркестр, и в какой-то момент он ненадолго отключился.
Около пяти начало светать, и воздух как-то разом посвежел. Прогоревший костер лишь слегка дымил. Все спали, слепившись и пригревшись под кучками тряпья. В лесу на горке с унылой утренней обидой закаркала одинокая птица. Ей долго никто не отвечал, но потом вдруг появилось солнышко, и весь лес мигом оказался охвачен плотным птичьим гвалтом.
Первой открыла глаза Нателла. Она потихоньку встала, сходила в лес и, вернувшись, бодро принялась будить остальных. Поднимались все с мучительными стонами, недоверчиво приглядывались к оплывшим и покрытым черной копотью лицам соседей, начинали смеяться, но по ответному смеху вдруг растерянно догадывались, что и сами выглядят не лучше, и валились на землю от неудержимого общего хохота…
В Москву было решено возвращаться через Петрозаводск – вместе со всеми, на заранее заказанном автобусе.
Пассажиров и вещей получилось намного больше, чем планировалось, и разгневанного пожилого водителя пришлось унизительно упрашивать, чтобы он разрешил мальчишкам устроиться в проходе на рюкзаках. Фурман с показным самообладанием вошел в салон одним из последних, готовясь всю дорогу стоять, но выяснилось, что Надя давно держит для него место рядом с собой. Наконец автобус тронулся. Хором прокричали «до-сви-да-ни-я!», у многих девчонок на глазах были слезы. Запели, но уже через двадцать минут, когда мотор ровно загудел на шоссе, почти все спали.
Путь до Петрозаводска занял почти четыре часа (так что Фурман зря храбрился – в любом случае не выстоял бы). Примерно посередине, в невзрачном маленьком городке под названием Олонец, сделали остановку. Выходя, Минаев для удобства своей дамы прихватил на прогулку фурмановскую куртку. Он заботливо расстелил ее на мокром газоне, но Мариничева первым делом послала его прикурить для нее сигаретку у каких-то местных рабочих, потом его отвлекло еще что-то, – короче, куртка так и осталась лежать в этом самом Олонце. Фурман вспомнил о ней, когда было уже поздно, и его охватила ужасная ярость. Что он теперь скажет брату?! И вообще, это была его единственная куртка! Распираемый злобой, он выскочил в проход и обозвал Минаева козлом. Мариничева попыталась вступиться за своего несчастного рыцаришку, но Борька с неожиданной строгостью велел ей не вмешиваться. «В качестве к-к-компенсации нанесенного ущерба» он предложил отдать Фурману свою поношенную советскую джинсовку: мол, у него в рюкзаке есть запасная куртка. Заметив умоляющий Надин взгляд, Фурман решил не развивать скандал. «Ладно уж, в Петрозаводске разберемся», – буркнул он напоследок, садясь на свое место.
По приезде в город «товарищи» стали весело разбирать гостей «на постой». Поезд на Москву уходил вечером, поэтому все договорились разойтись по домам, чтобы помыться и поесть, а потом встретиться и вместе погулять. Надя, конечно, мечтала заполучить Фурмана к себе, но в автобусе у него ужасно разболелся живот, и ему срочно, срочно требовалось в туалет. Кто-то сердобольный подсказал, что как раз в том доме, возле которого их высадили, живет Нателла. Морщась и придерживая надувшееся брюхо, Фурман подковылял к ней со слезными мольбами. Видимо, он слишком сложно сформулировал свою просьбу, потому что Нателла смущенно сказала, что она уже взяла к себе Минаева, но, если Фурману это действительно очень надо, то, так и быть, найдет одно местечко и для него. Ситуация получилась неудобная и в то же время комическая, однако объясняться было некогда. «А мне как раз и нужно именно “одно местечко”, – сквозь зубы пошутил умирающий. – И, чур, я займу его первым… Надя, извини, мне придется остаться у Нателлы. (Нателла подняла брови, изумленная такой формулировкой.) Она сделала мне такое предложение, от которого я не могу отказаться. Всё, пока, увидимся через пару часов. Ну, идем же скорее, я правда больше не могу…» – «Да? – озадаченно сказала Нателла. – Но только ты имей в виду, что я живу на последнем этаже и в нашем доме нет лифта». – «О-о-о-х!..» – простонал Фурман, останавливаясь. «Придется тебе еще немножко потерпеть, старик, – мстительно заметил Минаев. – Ничего, я тебе помогу п-п-подняться по лестнице на пятый этаж. Ты, главное, держись. Как говорится, береги себя…» – «Да уж, я попробую… А то ведь вам же будет хуже…»
На самом деле все сложилось очень удачно. Никто еще не знал о том, что Минаев и Фурман по договоренности с Мариничевой решили задержаться в Петрозаводске на несколько дней с разведывательной миссией: у них было приглашение посетить лагерь еще одного карельского коммунарского отряда, к которому в «Товарище» по каким-то неясным причинам относились довольно скептически. Уже поэтому им было удобнее не разделяться в незнакомом городе. Кроме того, Фурман немного побаивался свободного проявления Надиного чувства, понимая, что ему нечем ей ответить. Все равно он скоро уедет, так для чего попусту дразнить ее – он же не хлыщ какой-нибудь… Между прочим, в автобусе Надя доверчиво рассказала ему, что живет в маленьком деревянном доме, где нет ванны и горячей воды, а чтобы принять душ, воду нужно нагревать в специальной дровяной колонке, – для Фурмана это тоже имело серьезное значение. Вдобавок ко всему его единственные штаны были уже такими грязными, что ходить в них по городу даже под видом бывалого походника было неприлично, поэтому у Нателлы доброму Минаеву пришлось отдать своему старому дружку не только обещанную джинсовую куртку, но и модно расклешенные темные брюки, которые, кстати, по общему мнению, на Фурмане смотрелись гораздо лучше. В результате этого переодевания Фурман в какой-то степени перестал быть самим собой и на время как бы превратился в Минаева – у которого не было перед Надей никаких обязательств, а соответственно, и вины.
…На платформе у поезда выстроился огромный круг – провожать москвичей пришли и те «товарищи», которые не смогли приехать в лагерь. Фурману до сих пор было странно видеть знакомых девушек чистенькими, тщательно причесанными и одетыми в нормальную городскую одежду, пусть и с заметным налетом провинциальности. Надя в нелепом цветастом платьице-халатике и больших белых туфлях на толстом каблуке стояла рядом с ним, взволнованная предстоящим прощанием (она тоже еще не знала, что он остается); подлый изменщик Чернов вызывающе обнимал за плечи несовершеннолетнюю красавицу Артамонову (по ней-то сразу было видно, что она не местная), а его грустно ухмыляющаяся жена Ира оказалась зажата между тихим деревенским парнем и одним из братьев-пэтэушников; Мариничева же, как всегда, что-то быстро строчила в свой блокнот в перерывах между песнями…
За пять минут до отправления поезда, когда отъезжающие уже вошли в вагон и стали выглядывать в окна, Фурман с Минаевым спокойно объявили, что они остаются. Все решили, что это шутка, и принялись кто как мог изощряться в остроумии, до последней секунды не веря в возможность такого «предательства». Однако поезд действительно уехал без них – Фурман и сам этому удивился. Все стали расходиться. Надя была очень расстроена и обижена, но… ничего не поделаешь – служба.
Чужой лагерь с лирическим названием «Ивинка» находился всего в получасе езды от города. Детей в нем было много – человек сто, но все они казались предоставленными сами себе. Комиссары держались особняком и часто выступали как отдельный «показательный» отряд, который, естественно, выходил победителем во всех соревнованиях. Фурману бросилось в глаза, что в лагерном туалете было три отделения: М, Ж и К (впрочем, в «комиссарском» точно так же воняло хлоркой и отсутствовала бумага, как и в М). Еще больше его поразило поведение комиссара Саши Зайденберга, который во время отрядного дежурства на кухне расхаживал вокруг чистивших картошку ребят и читал им лекцию о принципах нравственного поведения человека (дети перемигивались и потихоньку передразнивали наставника). После отбоя гостям из Москвы была предоставлена возможность встретиться с «коллегами», но большинство комиссаров не проявили к ним никакого видимого интереса, а Зайденберг так вообще минут через десять демонстративно отправился спать. На взгляд Фурмана, извиняло эту странноватую команду «педагогов» лишь то, что они были «сиротами» – примерно год назад их бросил прежний взрослый «лидер», уехавший заниматься научной работой куда-то на Урал (попутно выяснилось, что юный Зайденберг просто не слишком удачно копирует вольные манеры своего бывшего наставника). К полудню следующего дня Минаев написал подробный секретный отчет об истории и нынешнем положении «Ивинки», и, вознаградив себя «халявным» обедом, разведчики отбыли в Петрозаводск.
Нателла с понимающей усмешкой выслушала их короткий рассказ и потом сообщила, что их ждет приятный сюрприз: домой они поедут не одни, а в «маленькой теплой компании» – «Товарищ» решил направить в Москву ответную дружественную делегацию. Фурман нервно подумал о Данилове, но оказалось, что в делегацию входят сама Нателла, Лариса Котова (она тоже никуда не поступала в этом году) и Тойво Тупин, который приезжал в лагерь на велосипеде вместе с Даниловым. Фурман припомнил, что в Видлице действительно появлялся некто Тойвочка – плешивый человек неопределенного возраста, со свернутым набок носом, маленькими удивленно-внимательными глазками и тонким восторженным голоском… Нателла снисходительно пояснила, что на самом деле Тойво присоединился к ним случайно – просто ему нужно быть в Москве по делам.
Улучив минутку, Фурман с Минаевым обсудили возможную негативную реакцию «товарищей» на тот бедлам, с которым они наверняка столкнутся в «Парусе». В комнате Нателлы на видном месте стояла фотография Сталина (след присутствия ее грузинского папы, жившего в другой семье), интеллигентная Лариса Котова представлялась Фурману неимоверно хитроумным и скрытным существом (вот уж кому на самом деле следовало быть разведчиком), а Тойво даже внешне был вылитым «джокером», – но, как считал Фурман, по дороге их можно будет убедить, ссылаясь на «специфику творческого контингента», не слишком сурово судить «парусную» идеологическую вольницу.
Однако все эти опасения оказались напрасными. Девчонки, с которыми они до отъезда провели еще целый день, гуляя по Петрозаводску, были настроены вполне по-дружески, собирались поддержать Мариничеву в предстоящем сражении и к тому же явно комплексовали перед встречей со стаей высокомерных столичных снобов. Тойво же объявился только в поезде и слушал их рассказы о лагере с открытым ртом, сокрушаясь, что, видимо, совершенно отстал от жизни…
В Москве Тойво, который работал переводчиком, сразу отправился куда-то по делам, пообещав звонить, а девчонок отбуксировали на квартиру к Мариничевой – она решила, что ей будет спокойней, если они поселятся у нее. Вечером там же была назначена большая общая встреча, на которой должна была обсуждаться дальнейшая судьба клуба.
Перед своими домашними возбужденный Фурман предстал в чужой одежде, отощавший, загоревший, обросший рыжей щетиной. Проглотив кучу бутербродов со свежезаваренным чаем, он час проспал в горячей ванной, за обедом коротко рассказал о том, что происходило в Карелии (на сообщение о потере куртки Боря отреагировал неожиданно равнодушно: «Да черт с ней! Я ее уже лет десять не надевал»), потом немного посидел в своей маленькой комнате, поглядывая на забытые книги и на странно высокое небо в окне, и умчался «на собрание».
Ничего хорошего там, конечно, не произошло. Хотя до конца каникул было еще далеко, народу собралось много. Те, кто побывал в Карелии, почти сразу начали спорить и ругаться между собой, а остальные, не очень понимая, о чем идет речь, обижались на то, что ими никто не интересуется, и призывали всех «жить дружно». В общем, вместо нормального обсуждения получилась какая-то каша со взаимными обвинениями. Возбужденные разговоры затянулись далеко за полночь. Когда Минаев позвонил своим родителям, ему было жестко приказано немедленно ехать домой, и Мариничевой пришлось одолжить ему деньги на такси, а Фурману она предложила остаться ночевать у нее: мол, одним человеком больше, одним меньше – какая разница, если спать на полу…
С утра все разбежались по делам, и Фурману пришлось целый день водить гостей по родному городу (Минаева обозленные родители посадили под домашний арест), терпеливо знакомя их с официальными достопримечательностями. Домой он вернулся только часов в десять вечера полумертвый от усталости и с наслаждением вытянулся на своем мягком диванчике, застеленном прохладным чистым бельем.
На следующий день Мариничева зачем-то притащила Нателлу с Лариской в редакцию, а потом позвонила Фурману и хриплым шепотом попросила его сходить с ними куда-нибудь развлечься и вообще взять заботу о них на себя, потому что у нее самой куча работы после отпуска и ей некогда ими заниматься.
Перед выходом Фурман решил еще раз примерить выстиранные и отглаженные мамой минаевские брюки и джинсовку. Не без труда натянув их, он скептически посмотрел в зеркало – и вдруг с пронзительной радостью понял, что на самом деле этот человек вовсе даже не вернулся из Карелии, что он по-прежнему полон той чудесной энергии и что встречи с ним ждут не очередные нудные «гости столицы», а милые его сердцу «товарищи»…
Дома он появился только через двое суток, да и то ненадолго – чтобы быстренько принять душ и одолжить у родителей денег для Нателлы, которая перед отъездом присмотрела себе на Птичьем рынке породистого щенка-овчарку. Когда он причесывался перед зеркалом в прихожей, мама вдруг с заботливым видом сказала: «Ты знаешь, мне почему-то кажется, что в последние дни ты стал похож на какую-то драную кошку». Грубость этого наблюдения задела Фурмана, но он попытался отшутиться: мол, твое сравнение явно хромает, потому что, во-первых, если уж на то пошло, я должен быть похож не на кошку, а на кота, а во-вторых, не вполне понятно, что ты имеешь в виду под словом «драный». Есть известное выражение «кот с драными ушами», которое обычно используется для обозначения драчливого кота, но к данному случаю оно никак не подходит. Однако мама продолжала настаивать на своем толковании: выражение «драная кошка» говорит о том, что эта кошка «гулящая». Ну и пожалуйста, грустно сказал Фурман, раз так, я пошел гулять дальше. Счастливой прогулки, пожелала мама. И возвращайся поскорей.
Надо отдать должное маминой проницательности – она попала в точку. Просто сам Фурман еще не успел ни о чем задуматься – рядом все время были люди.
В тот вечер, два дня назад, позвонил Тойво и стал напрашиваться «тоже немножко пожить» у Мариничевой. Она не возражала – но с условием, что Фурман останется и разделит с ней бремя общения с этими карельскими коммунарами – у него это отлично получается, а ее саму они, если честно, уже слегка утомили, особенно если учесть, что до этого она и так провела с ними без малого целый месяц. Фурман предложил переселить девчонок куда-нибудь еще, но Ольга сказала, что все нормально, пусть живут, сколько им надо, просто она очень устала на работе.
У Мариничевой имелось два «более или менее пристойных» спальных места – кресло-кровать и старая скрипучая софа, у которой было сломано что-то внутри. По просьбе хозяйки за ней «навсегда» закрепили кресло-кровать, поскольку она должна была по мере возможности высыпаться и сохранять работоспособность, а софу девчонки занимали по очереди. «Лишние» гости устраивали на полу общее лежбище из ковриков, спальников, одеял и одежек.
Тойво, несколько раз звонивший с извинениями, что задерживается, приехал очень поздно, поэтому на долгие разговоры сил у Мариничевой уже не хватило и она вскоре ушла спать, а гости чаевничали и негромко болтали на тесной кухоньке до половины третьего. Когда легли, Фурман оказался посерединке – между Тойво и Лариской. С пола темнота представлялась более объемной. За окном по ночному бульвару проносились редкие машины, под Нателлой скрипела продавленная софа, похрапывала Мариничева, потом к ней стал смешно присоединяться Тойво. Лишь Лариска таинственно отсутствовала в звуковой картине. Слева на подушке светлела копна ее волос. Спит она или нет? И это лицо или затылок? Фурман тихо прошептал ее имя, но она не откликнулась. От скуки он как бы случайно притронулся своей коленкой к ее голой ноге и на секунду ощутил странную, поразившую его нежную прохладу. Ему ужасно захотелось проверить, уточнить это необыкновенное ощущение. Шумно вздохнув в притворном сне, он осторожно приложил внешнюю сторону кисти к волшебно-гладкой коже бедра. Потом очень медленно провел на считаные миллиметры вверх, вниз, туда, сюда… осторожно повернул кисть, чтобы почувствовать этот живой шелк ладонью и кончиками пальцев… Удивительное осязание продолжалось довольно долго. Поле скольжений чуть расширилось, но «большой объект» на это никак не реагировал. Неужели Лариска и вправду спит? Или затаилась? Лежала она на животе, голова была повернута в другую сторону, но дыхания Фурман не слышал, сколько ни прислушивался. Одно неподвижное, безответное, живущее скрытой жизнью тело… Не получая никаких сигналов, Фурман стал действовать более свободно. Но теперь им двигал какой-то нехороший игровой азарт – ведь другой упорствовал, прятался, делал вид, что его нет… На ночь Лариска переодевалась в коротенький девчоночий халатик, который, как выяснилось, сам собой завернулся ей на спину чуть ли не до поясницы. Тактично пропустив обтягивающие трусы, испытатель поставил себе целью проникнуть как можно дальше под халат и почесать бесчувственной подруге спинку. В самый разгар его копательных усилий откуда-то с противоположной стороны тела вдруг раздался замогильно тихий, отчетливый и абсолютно трезвый шепот: «Фурман, прекрати». Фурман замер от неожиданности. Почудилось?.. «Лариска, ты спишь?» – «Да.
…Не надо. Фурман. Пожалуйста».
Лариска умела просить. Но больше всего Фурман боялся ее тайного брезгливого презрения. Поэтому он сразу отступил, в знак дружбы прошептал «спокойной ночи!», перевернулся на другой бок и быстренько заснул.
Никаких видимых последствий это ночное происшествие вроде бы не имело. Но вечером, когда все начали укладываться, Лариска с каким-то слишком уж явным облегчением отправилась занимать положенное ей привилегированное место на софе, и с Фурманом вдруг случилась безобразная истерика. Пользуясь тем, что Мариничева в этот момент находилась в ванной, он уверенным голосом заявил, что на софе вполне могут поместиться два человека и сегодня он тоже ляжет там, а не на полу. Лариска растерянно остановилась, прижимая к себе подушку, Нателла подумала, что он шутит, а добрый Тойво в недоумении открыл рот: «Да? Ты что, правда хочешь спать на этой скрипучей сломанной кровати?..» Фурман с вызовом подтвердил, что да, он действительно этого хочет, и все последующие вопросы – типа «А как же Лариска?», «А нельзя ли отложить это желание на другой раз?» и «Зачем тебе это нужно?» – только разогревали его никому не понятное темное возбуждение. Впрочем, Лариске-то оно было понятно – и она очень сдержанно, неумело и беспомощно гневалась, причем даже не столько на самого Фурмана – он был безнадежен, – сколько на ту бестактную ситуацию, в которую он ее загнал. На него она старалась не смотреть, и это приводило его в слезливое отчаяние. Но сам он уже не мог остановиться, его «вело». Тойво, недоверчиво заглянув ему в глаза, обнял его, как больного, и стал успокаивать, шутливо убеждая «не разрушать их мужское половое братство». Сбесившемуся Фурману предлагали спать на софе и одному, и вместе с Тойво, но он отказывался от любых других вариантов, кроме Лариски. А у нее на лице появилось именно то брезгливое выражение, которого он так боялся. Вообще-то она уже была готова переночевать на вокзале и даже начала задумчиво собирать вещи – да и Фурману, похоже, не оставалось ничего другого, как с позором бежать, – но городской транспорт уже не ходил, денег на такси ни у кого не было, а разгуливать в такое время по незнакомому окраинному району и врагу не пожелаешь… Ужасное положение спасла появившаяся из ванной Мариничева. Когда ей изложили предмет спора, она укоризненно проворковала: «Фу-у-ра, да что это с тобой сегодня такое приключилось?» – и в два счета раскидала всех по местам. При этом на софе оказался Тойво («Кто тут не хочет спать на софе? Тойво? Отправляйся на софу! У меня здесь все решается очень просто!..»), а бедной Лариске пришлось проявить унизительную покорность и согласиться опять лечь на полу рядом с противным Фурманом.
Запал у него уже кончился, и, по инерции продолжая хорохориться, он понимал: довести доверившегося тебе человека до того, чтобы он предпочел ночевать на вокзале в чужом городе, лишь бы не с тобой, – это надо постараться. Сам-то он что чувствовал бы сейчас на месте Лариски? Господи, спаси… Собравшись с духом, он попросил у нее прощения за свое грубое поведение, но она лишь горько отмахнулась и бросила загадочную фразу: «Ты не понимаешь. Дело вовсе не в тебе…»
…В темноте на Фурмана стала накатывать забытая тоска. Никчемный человечишка, опять все испортил…
Лариска лежала рядом в прежней зажатой позе – на животе, отвернувшись, не шевелясь. Но теперь Фурман специально следил за тем, чтобы между ними оставалась хотя бы маленькая полоска свободного пространства. Впрочем, это было уже никому не нужно. И ему все больше хотелось незаметно встать и уйти куда глаза глядят, на вокзал. Все хулиганы небось давно уже спят. А хоть бы и нет…
Ворочаясь с боку на бок, он в какой-то момент наткнулся на теплую ладошку Нателлы и в порыве слезливого отчаяния уцепился за нее, как за единственное живое существо в своей ночной пустыне. Он ничего не хотел от этого тихого, безвольного существа – только бы оно оставалось живым. Но оно ответило ему слабым пожатием – как бы простив его безобразие, его грубость, его бессмысленность. И Фурмана внезапно наполнила такая ликующая благодарность к этому теплому существу – а заодно и к его далекому хозяину, который, оказывается, еще помнил о нем и послал ему в пустыню этот скромный привет, эту дружескую весточку, – что он стал нежно поглаживать, баюкать и бережно прижимать к груди маленького утомленного вестника (и – о счастье! – тот еле заметно повторил послание)… А потом, ласково задержавшись на островке запястья с его выпуклой косточкой и беззащитными жилками, он – слепой, бесконечно внимательный пешеход в желтовато-коричневых сумерках осязания – неторопливо двинулся петляющими тропками через спящие поля, холмы и горы, изумленно знакомясь с заповедной нетронутой природой сопредельных стран и ее невообразимыми живыми чудесами… Целые времена прошли, и вот добрался безумный бессонный паломник до таинственной папоротниковой глухомани где-то на краю света. Ему бы остановиться, передохнуть чуток, опомниться, а он вдруг тоскливо разволновался, заспешил, поскользнулся – и, ахнуть не успев, полетел в жадно раскрытую бездну… И кто знает, чем бы все это обернулось, если бы в следующую темную секунду в другом месте земного шара властная Рука Господа не защемила горячечно вздувшуюся плоть грубой резинкой тесных плавок. О, нет! нет! – но пушка уже мучительно выстрелила, выстрелила, выстрелила, выстрелила, и башня стала беззвучно рассыпаться…
– Подожди, я сейчас, – шепнул грустно очнувшийся Фурман, осторожно поднялся и пошел в ванную.
Когда он вернулся, в комнате стояла ночь. Но снаружи уже наступило утро. С бессильной благодарностью обняв покорную руку Нателлы, Фурман прошептал: «Давай немножко поспим, а то скоро вставать».
День пронесся, как сверкающая черная карусель: впервые увиденные глаза и лицо этой девушки, ее тело под легкой одеждой, хождение за руку; уныло-беспокойная очередь за билетами на Ленинградском вокзале, «Детский мир», еще какие-то магазины, поездка домой за деньгами… Нателла уже привезла к Мариничевой смешного, всюду лезущего, неуклюжего, скулящего, ворчащего, беспорядочно делающего лужи и мгновенно засыпающего щенка. Пока все возились с ним, незаметно приблизилась ночь – последняя. Тойво позвонил и сказал, что не приедет, но постарается быть завтра на вокзале. Усталая Мариничева объявила, что идет принимать ванну. Лариска с независимым видом стала устраиваться на софе… Освоившегося и разгулявшегося не ко времени щенка в конце концов пришлось запереть на кухне.
…Она никак не отвечает на его прикосновения и остается неподвижной, точно спит. Как Лариска. Только она разрешает трогать себя. Так со всеми?..
Он попробовал поцеловать ее. Сделал это, как описывалось в «Человеке, который смеется». И вдруг в темноте ему показалось, что ее запекшиеся губы произнесли: «Люблю. Люблю…» Словно «пить, пить…»
Замерев, он прошептал ее закрытым глазам: «Повтори, скажи это еще раз!..»
Ничего не дождался. Это было или нет?
А если да, то что это меняет? Это меняло бы все…
Ее пальцы тихонько сжали его локоть.
Продолжать?..
В какой-то момент она молча, но очень твердо отказалась раздеться до конца, и он, как дурак, долго не мог догадаться почему – ведь прошлой ночью она это сделала?.. Господи, да ей сегодня просто нельзя! Те самые «женские тайны»… Интересно, а у мужчин – то есть у нас – тоже есть свои тайны? Может, поллюции? Но какая же это тайна – смешная ошибка, не более…
Все-таки сказала она или нет?
В любом случае эта ночь была последней, и ему захотелось хотя бы примерно ощутить, каково это – возлежать на женщине. Как там у Рабле: «…и начали тереться друг о друга, изображая животное о двух спинах». Оставалось надеяться, что Лариска спит или по крайней мере отвернулась. Накрывшись простыней, он осторожно взобрался наверх, полежал, опираясь на локти, а потом из ложного любопытства попытался потыкаться куда-то через две пары трусов и плотное препятствие там, внутри, но вся эта глупая игра закончилась тем, что ему очень сердито прошипели: «Слезь с меня! Быстро!» – и даже чуть не сбросили на пол возмущенно-нетерпеливым движением бедер. Он тут же соскочил и весь сжался от ужасающего стыда за себя: скотина, грубая, пошлая скотина!.. И долго-долго заглаживал свою вину легчайшими касаниями, пока сам не растворился.
Когда они проснулись, в квартире было пусто: Мариничева давно ушла на работу, а Лариска, видимо, из деликатности, решила оставить их одних (щенок тоже еще дрых после вчерашних переживаний). Впрочем, минут через двадцать в прихожей мягко щелкнул замок, и Нателла еле успела привести одежду в порядок.
За завтраком Лариска укоризненно отводила глаза, но Фурман старался держаться как ни в чем не бывало, хотя и подшучивал только над самим собой. А потом началась предотъездная суета, общие заботы о бедном лохматом детеныше, и день неудержимо покатился к натужно-веселым коллективным проводам и жалкой неловкости вокзального прощания.
…В метро, по дороге домой, Фурман с внезапным раздражением ощутил, до какой же степени ему надоела жмущая чужая одежда. Скорее бы переодеться в свое, привычное… Глаза у него сами собой закрывались, и он ежеминутно пикировал в грохочущие туннели мгновенных бредовых снов, но тревожная утрата равновесия заставляла его раз за разом вздергивать голову и испуганно выныривать обратно. Драная кошка возвращается домой…
Фурман – «драная кошка»…
Всерьез согласиться с таким определением было невозможно, поэтому растерянный Фурман решил остановиться на том, что случившееся – это просто какой-то необыкновенно щедрый подарок судьбы, что-то вроде награды за… ну, в общем, за то хорошее, что он, наверное, сделал для «товарищей»… Награда нашла своего героя.
Герой небезупречного благородства
– Фура, если хочешь, оставайся и поживи у меня еще немножко, – устало предложила Мариничева. – Но только чур, при условии, что у тебя из-за этого не будет проблем с твоими домашними. Хватит с меня и этих ужасных разговоров с Борькиной мамой по поводу каждого его опоздания!.. А мы бы тогда смогли не торопясь обсудить все наши клубные дела и вообще поболтать вволю. Ты ведь просил меня рассказать о том, как у нас с Наппу все начиналось? Вот тебе удобный случай… Фура, скажу тебе честно, у меня тут есть своя корысть. Понимаешь, в Москве всё как-то вдруг навалилось разом – и на работе, и в личных делах… Со временем я, конечно, обязательно разгребу все эти завалы. Но сейчас для меня было бы лучше, если бы кто-то был рядом, – может, тогда я не слишком бы зацикливалась на своих проблемах. В общем, если ты согласишься уделить мне немного внимания, то это со всех точек зрения будет очень кстати.
Фурман стоически пропустил сквозь себя короткую волну опасливо-эротических фантазий, вызванных этим предложением, и твердо решил, что у него никаких «проблем с домашними» не будет – просто потому, что он этого не потерпит. Заскочив домой за зубной щеткой, он с показным равнодушием сообщил растерявшейся маме, что ночевать сегодня не придет и ближайшие несколько дней, скорее всего, будет оставаться у Мариничевой, – телефон ее у вас есть, всё, пока!
В последние недели лета клубная жизнь набрала какие-то безумные обороты. Все уже вернулись в Москву и теперь с утра до вечера паслись в редакции, или сидели у кого-нибудь в гостях, или бродили по центру, хором распевая песни, хохоча и подначивая друг друга. Было уже понятно, что «коммунарский проект» не прошел, но у Наппу родилась новая, завораживающе невнятная идея: клуб как некий идеальный Город, который существует в другой, «параллельной» реальности и который необходимо «проращивать» в самих себе. Члены клуба были немедленно переименованы в горожан и горожанок, производимые Наппу бумаги теперь имели грифы различных городских служб и учреждений, а все происходящее требовалось как-то вписывать в эту призрачную «городскую» перспективу. Поскольку никто не понимал, что конкретно надо делать, все с готовностью ухватились за самое простое, и во время коллективных прогулок старательно выискивали «проявления» воображаемого Города в реальном: какие-нибудь чудесные особнячки, запрятанные в тихих безлюдных переулках, средневекового вида башенки, романтичные мансарды, фигурные флюгера, необычной формы кна и двери. Особый раздел общей «коллекции» составляли загадочные городские персонажи, которые вдруг, словно по заказу, полезли из всех углов…
А далеко за полночь, когда болезненно нагревшаяся телефонная трубка в мариничевской квартире «теперь уж точно в последний раз» укладывалась на свое жесткое, тесное ложе, Ольга заваривала на кухне свежий чай, усаживалась с прямой спиной на стуле нога на ногу, снимала очки, задумчиво доставала мелко трясущимися пальцами очередную сигарету и, вежливо удерживая ее на отлете, начинала рассказывать «своей верной подружке Фуре» о неправдоподобно солнечном русско-украинском детстве в городе Запорожье; о мучительном для нее и ее младшей сестры разводе родителей; о том, как «чудовищно наивная, но при этом жутко целеустремленная» провинциальная отличница отправилась покорять сверкающую огнями столицу; о неожиданно суровой для вчерашних «домашних деток» самостоятельной жизни в университетской общаге; о возникновении маленькой студенческой общины, интеллектуальным и организационным «мотором» которой, разумеется, был Виталька Наппу. В то время он по каким-то неведомым причинам еще умалчивал о своем недавнем коммунарском прошлом, но – «так же как и вас теперь» – заставлял членов своей «команды» читать кучу посторонней литературы, таскаться в гости ко всяким «светлым шизикам» и практиковать какие-то якобы суперэффективные формы индивидуальной и коллективной творческой жизни. «Ну, а уж после того как он буквально за шкирку приволок нас в Петрозаводск на наш первы сбор, все закрутилось со страшной скоростью…»
Восстанавливая полузабытые подробности своей «странной вечной дружбы» с Наппу, Ольга «в качестве иллюстрации» привела один довольно грустный и как бы не вполне состоявшийся любовный эпизод из романа Кортасара «Выигрыши» (эта книга, по ее словам, очень много для нее значила, и она еще в начале лета пустила свой экземпляр «по кругу»). Фурману было не очень понятно, почему она сослалась именно на этот эпизод. Он переспросил, и Ольга с готовностью пояснила, что у Наппу имеются такие же «легкие отклонения», как и у героя этого романа, – ну, короче, он тоже «интересуется мальчиками»…
Фурман так опешил, что даже не сумел закрыть разинутый рот. А как же?..
…Слушай-ка, – смутилась Ольга, – ты что, правда об этом ничего не знал? Выходит, я случайно тебе проболталась… Ох, какая же я дура! Ведь это ужасная тайна! Я абсолютно серьезно тебе говорю. Ты уже достаточно взрослый, и тебе наверняка известно, как наше государство, да и просто большинство населения относится к людям с подобными «отклонениями». Если об этом хотя бы только слухи поползут – всё, Виталику конец. В лучшем случае ему сломают жизнь, навсегда отлучат от профессии, а в худшем – могут посадить лет на пятнадцать. Никто и не посмотрит, что у него двое детей на руках. Я чувствую себя очень виноватой перед ним! Ему и так нелегко живется… Ну нет, что ты! Слава богу, настолько далеко всё это еще не зашло. Ничего такого, что можно было бы назвать словом «грязь», вообще не происходит. Уж не знаю, как он там с собой справляется, но могу твердо сказать, что вся эта «темная» сторона его жизни находится у него под полным контролем. Надо отдать Наппу должное, он очень мужественный человек, несмотря на свою кажущуюся внешнюю хрупкость. За все эти восемь лет, что мы с ним знакомы, я ни разу не слышала от него не то что какой-то грубой шутки или двусмысленности, но даже банального анекдота на эту тему. Да я сама убила бы его на месте, если бы заметила хоть малейший намек на что-то такое!.. И вообще, пусть это очень глупо прозвучит после того, что я тебе сказала, но скорее всего всё это только слухи и сплетни, которые распускаются многочисленными напповскими недоброжелателями. И я даже не исключаю, что это делается намеренно. Потому что никаких реальных причин подозревать Наппу в каких-то болезненных сексуальных пристрастиях и уж тем более, не дай бог, в каких-то половых извращениях, на самом деле просто не существует. Он не псих и не маньяк, а совершенно обычный человек в этом смысле, разве что с более тонкой и развитой психической организацией, чем у большинства так называемых «нормальных» мужиков. Но подобный «дефект» в той или иной степени присущ почти всем творческим личностям. А Наппу, несомненно, относится к этой категории… Знаешь, я уверена на сто процентов, что если бы я сейчас по глупости не сболтнула тебе лишнего, то ты сам об этом никогда бы даже не задумался – у тебя просто не было бы никакого повода. Вот, действительно, черт меня дернул за язык!.. Фура, заклинаю тебя… Нет, прошу тебя как друга – и моего, и Виталькиного, – ни с кем не говори на эту тему! А еще лучше – просто выброси все это из головы. Я понимаю, что это невозможно, но и ты должен понять мою тревогу. Слово – не воробей, а последствия могут быть самые тяжелые, причем не только для Виталика. Случись что – и это коснется всех нас. Ты даже не представляешь себе, какая жуткая свистопляска может вокруг этого начаться…
Помолчав, Ольга сказала, что только сейчас, благодаря этому острому и в чем-то очень опасному разговору, ей стало ясно: Наппу не просто талантливый человек, каких достаточно много в литературно-журналистской среде, а самый настоящий современный гений, живущий рядом с нами. А к гению – «и это вовсе не я придумала» – нельзя применять наши обычные человеческие мерки. Фурман бодро подхватил эту «культурную» тему, и они некоторое время обсуждали связь гениальности и болезни. Но потом, несмотря на допущенную Ольгой «оплошность» и ее искреннее раскаяние, разговор стал еще более откровенным. Попросив «Фуру» не обижаться, Ольга спокойно констатировала, что ей с ним так легко общаться, потому что он – мужчина не в ее вкусе. «И не в Виталькином, кстати, если этот вопрос тебя все еще бередит. Они у нас похожи: нам обоим нравятся темненькие», – дополнительно успокоила она Фурмана. Он поспешил сделать симметричное признание, после чего растроганная наставница («Ну ты моя Фу-у-ра!..») позволила себе «исключительно по-дружески» предположить, какого типа женщины должны ему нравиться. Стыдливо покрасневшему Фурману пришлось изображать, что ему самому это известно абсолютно точно. (Уф! Бр-р…)
Следующая ночная беседа началась с осторожного вопроса Фурмана о природе «необъяснимо легкой девической влюбчивости». Ольга довольно жестко, но зато доходчиво объяснила ему, что правильнее было бы говорить здесь не о «влюбчивости», а о жалостливой женской уступчивости к бешеному мужскому желанию. И дальше они плавно перешли к бесчисленным мариничевским «романам», ее официальным и неофициальным мужьям и, наконец, к чрезвычайно щекотливой и запутанной нынешней ситуации, причем теперь от Фурмана потребовалось не просто выслушать, а «вникнуть и дать совет».
Выяснилось, что у Ольги уже несколько месяцев развивается какая-то возвышенно-мучительная любовная история с ее «духовным учителем», которого она по-свойски называла Симой (сложность, помимо всего прочего, заключалась в том, что у Симы была замечательная, по словам Мариничевой, жена и двое детей-подростков). Но это еще не все, пожаловалась она. В последнее время к ней с жуткой настырностью «клеится» еще один «великий педагог» – «похоже, мне вообще на них везет!» – Юра Азаров, оказавшийся «ужасным ловеласом» (после некоторых усилий Фурман понял, что речь идет о том странном порывистом человеке восточного вида, с которым он во время весеннего выезда к Никитиным так неудачно побеседовал о дзен-буддизме). Мариничева призналась, что в какой-то момент «по глупости дала ему повод надеяться», но почти сразу после этого передумала, а он уперся, и теперь она не знает, как ей от него отвязаться. Это было уже смешно, но одновременно со всем этим она умудрилась «совершенно искренне увлечься» Борькой. Сейчас она находится на распутье, и ей нужно решить, что делать дальше. Она, конечно, отдает себе отчет в том, что продолжать какие бы то ни было «романтические отношения» с Борькой в Москве было бы неправильно, непедагогично, да и, на самом деле, просто невозможно. С Симой все тоже неясно, потому что в самом начале лета у них произошла небольшая размолвка, а потом она закрутилась с клубом, и с тех пор они еще не виделись. Одно хорошо: Азаров все лето был занят какими-то своими делами и, к счастью, пока не появлялся на ее горизонте.
– Ну, и что ты мне посоветуешь, мудрая Фура?
На взгляд Фурмана, Мариничевой следовало немедленно все бросить и бежать лечиться – вот только куда?..
– А в чем вопрос-то? – аккуратно удивился он. – По-моему, ты сама все очень четко разложила. Никакого «распутья» я здесь вообще не вижу. Если говорить честно и прямо, то этот Азаров тебе просто на фиг не нужен, и непонятно тут только одно: зачем надо было крутить хвостом перед взрослым, темпераментным и к тому же, как ты говоришь, противным тебе мужиком? (Мариничева смущенно согласилась, что, действительно, тут есть и ее доля вины.) Что касается Борьки, то ему, конечно, будет очень тяжело. Но тут уж ничего не поделаешь. Ты ведь с самого начала догадывалась, что этим все закончится? Ну, а раз так, то, как говорится, делай что должен… и лучше побыстрее. Помочь ему ты сейчас не сможешь, даже и не пытайся, потому что ты и есть главная причина… всего этого… Мои утешения ему тоже вряд ли понадобятся. В общем, будем надеяться, что он переживет этот разрыв и ничего с собой не сделает.
– Ох, Фура, постучи по дереву!.. Если с ним что-то случится, я никогда себе этого не прощу…
– М-да. Ну, а с Симой ты сама должна все решить. Чего я тебе тут буду советовать? И вообще, я еще слишком маленький… для таких дел! Так что извини, если я что-нибудь не то тебе сказал.
– Нет-нет, – задумчиво сказала Мариничева, зажигая давно потухшую сигарету, – всё то…
Заряд был, в общем-то, уже исчерпан, взаимная благодарность выражена, все клубные «косточки» перемыты – и через день-два Фурман, к маминой радости, вернулся домой. Возможно, у мамы и возникли какие-то, как брезгливо выразился Фурман, «гадкие подозрения» по поводу его отношений с Мариничевой, но, едва почувствовав это, он гневно потребовал, чтобы она «выбросила из головы всю эту мерзость», если не хочет «окончательно» потерять его доверие. «Мне этого действительно очень не хотелось бы», – со странной улыбкой призналась мама. «Ну вот и договорились», – остывая, буркнул Фурман.
О темной напповской «тайне» он решил не думать. Ольга сама сказала, что все это только разговоры. Тем более, у человека есть нормальная семья… Мало ли какие «завороты» могли происходить с ним в юности. Главное, что сейчас никаких действительно серьезных поводов для подозрений нет. И точка.
Между тем наступил сентябрь с его неизбежной всеохватывающей рутиной, и клубная жизнь резко пошла на спад. Наппу с Мариничевой вдруг обратили внимание на то, что Фурман – единственный среди их подопечных, кто «болтается без дела», и поспешили его трудоустроить – в редакции как раз освободилось место курьера. Дома к этому отнеслись без особого восторга: конечно, хорошо, что он с помощью своих новых друзей так быстро и легко нашел работу, но это можно рассматривать только как какой-то временный вариант – нельзя же всю жизнь быть курьером! Поэтому все равно следует серьезно подумать о чем-то более основательном и перспективном – например, о поступлении в институт или хотя бы в техникум…
На службу надо было ходить через день. Смена начиналась в одиннадцать утра и заканчивалась около двенадцати ночи, когда очередной номер газеты подписывался в печать и сдавался в типографию. После этого всех дежуривших сотрудников редакции, включая курьеров, развозили по домам на черных «Волгах» издательства «Правда».
Бльшую часть рабочего времени Фурман в компании двух пожилых тетушек просиживал на диване в так называемой телетайпной, читая приносимые из дома книжки. В комнате было шумно, как на заводе: наперегонки трещали три телетайпа, печатавшие в автоматическом режиме ленты новостей ТАСС и АПН, а по широким трубам, пронизывающим все этажи издательского комплекса, с необычными звуками проскакивали пустотелые снаряды пневматической почты. Основные обязанности курьера заключались в том, чтобы разносить по редакционным отделам отрезки рулонной бумаги со свежими новостями и грязноватые скрученные листы с технической версткой, присылаемые из типографии по трубе. Кроме того, раз или два за день нужно было развезти почту по городским адресам: приемная ЦК, цензура, особо ценимые редакцией авторы, которые лично визировали свои материалы… Для выполнения этой важной государственной задачи курьера у подъезда ожидала сверкающая черная «Волга» со спецномером, позволявшим водителю «под настроение» ехать без всяких правил и даже на красный свет – постовые милиционеры при этом лишь приветственно ухмылялись, а испуганно упирающийся ногами в пол пассажир начинал по-хлестаковски чувствовать себя не каким-то ничтожным посыльным, а царским фельдъегерем, демонически рассекающим пространство страны…
Регулярное общение с издательскими шоферами было, пожалуй, самым острым впечатлением Фурмана на новом месте. Наиболее выдающимся собеседником среди них был молодой парень уголовного вида. Едва юный курьер успевал занять свое место, этот тип начинал потчевать его бесстыдно подробными историями о своих невероятных дорожных мужских приключениях. Постепенно из этих историй выстраивалась некая сложная эмпирическая система классификации особей противоположного пола, которая поразительным для Фурмана образом не была связана не только с их личностными особенностями или социальным положением, но и с внешней привлекательностью. Для настоящего охотника все это, оказывается, не имело почти никакого значения. Пару раз Фурмана даже начинало подташнивать во время этих приятельских бесед.
С Мариничевой и Наппу, вопреки первоначальным надеждам, ему удавалось поговорить лишь в редакционном буфете – за обедом, на который у них далеко не всегда были деньги, а чаще когда Ольга по внутреннему телефону приглашала его «глотнуть по чашечке кофе» или постоять с ней за компанию на лестнице, пока она выкурит сигаретку. Иногда в буфете можно было встретить Минаева и других клубных знакомых, приносивших в газету свои «материалы» и потом мучительно переживавших беспощадную критику старших. Фурман сочувственно выслушивал их, но его очень раздражало, когда в обычном дружеском разговоре «юнкоры» начинали бойко использовать профессиональный жаргон и копировать лихие манеры «настоящих журналистов». Хотя сам Фурман не видел в журналистской касте ничего привлекательного, это мальчишеское обезьянничанье возбуждало в нем ревнивую зависть – у него-то не было никакого живого образца для подражания, кроме, разве что, старшего брата, да и тот не был писателем. Вынужденный как-то отвечать на этот вызов, Фурман во время случайной болтовни в буфете то вдруг наливался тяжелой, упрямой, трезво-разоблачительной «мудростью» в стиле Толстого, а то с ровного места затевал дерзкий, скандально провоцирующий диалог «в духе Достоевского». Обиженные собеседники только головами качали, молча допивая свой кофе… На самом деле почти все они тоже воображали себя писателями.
Вечно все теряющий, унылый, обморочно вялый Минаев как-то дал Фурману почитать два своих «произведения», нацарапанных куриным почерком на мятых листках с подозрительными пятнами. В одном, под названием «Катька», описывался обычный день ничем не примечательной девушки-старшеклассницы. Но все это было увидено с такой нежной точностью, в таких абсолютно интимных бытовых и психологических подробностях, которые, казалось бы, по определению не могли быть доступны никакому мужскому взгляду. А ведь это написал мальчишка, школьник! Откуда он все это узнал?! К сожалению, сам Минаев ничего внятного ответить не мог. Да и рассказ был не закончен, обрываясь на полуслове. Другое его произведение не имело названия, и определить его жанр было очень сложно. Действие разворачивалось в условном «глухом Средневековье»: в каких-то едва обжитых, чавкающих грязью местах с «первичными» топонимами – «Деревня», «Лес», «Река», «Город», среди злобно-пугливых, нищих, почти первобытных человеческих существ, жмущихся в небольшие стаи. Их имена больше походили на клички. Но главный герой даже в этом чудовищном обществе был изгоем. У него не было своего дома, спал он где придется, чаще всего просто под открытым небом. Звали его почему-то Волк, и он, похоже, был немым – наполовину зверем, наполовину колдуном. Ко всему, что ему встречалось, он относился с одинаковым бессловесным вниманием. Одной из его странностей было то, что он мог летать – но делал это как бы не вполне произвольно: его просто поднимало в воздух и несло куда-то. В какой-то момент у читателя возникало сомнение в том, что герой человек… Повествование ничего не объясняло, в нем не было никакого пафоса, никакого юмора, никакой лирики – оно просто следовало за этим отвратительно-притягательным героем, подобно объективу кинокамеры. В какой-то совершенно случайный момент экран гас. Что всем этим хотел сказать автор? К чему он вел? Все вопросы повисали в воздухе. После таких совершенно безрезультатных разговоров с Минаевым Фурману каждый раз становилось стыдно за свою суетливость, болтливость и поверхностность, в то время как Минаев, как ему казалось, смотрит на все из темной, внесловесной глубины. И дело тут было вовсе не в его заикании. Когда Фурман поделился этим переживанием с Мариничевой, она с готовностью подхватила: да-да, ты прав, Борька, конечно, поразительно талантлив, хотя при этом и жуткий неряха…
После семи, когда все, кроме дежурных по номеру, торопливо покидали редакцию, на Фурмана накатывало какое-то детское чувство заброшенности. Трудовая запарка у курьеров обычно начиналась позднее, от чтения его уже тошнило, и он бесцельно бродил по длинному опустевшему коридору, потихоньку носился на цыпочках по безлюдым издательским лестницам, чтобы размяться после долгого сидения, или прилипал лбом к холодному темному стеклу, вглядываясь в далекие чужие окна. Но рано или поздно срок его плена заканчивался – и впереди каждый раз был абсолютно свободный день! Фурман сладко дрых в домашней тишине чуть ли не до полудня, неторопливо приходил в себя, часа два читал, потом обедал с дедушкой, снова брался за книжку, а вечером неизменно отправлялся туда, где происходила очередная встреча клубной компании.
В конце сентября Фурман получил письмо от Нателлы с несколькими вложенными в конверт самодельными пригласительными билетиками на десятилетний юбилей клуба «Товарищ». На лицевой стороне каждого билетика имелся традиционный коммунарский девиз: «Наша цель – счастье людей! Мы победим – иначе быть не может!». Само письмо начиналось неожиданно: «Ну и морда же ты, Фурман!». Дальше шли грубовато-шутливые (неумелая пародия на пресловутый «туалетный юмор» Фурмана) упреки в том, что у него дома до сих пор нет телефона, а сам он никому не пишет, хотя обещал. Все это было выведено крупными печатными буквами и, вместе с жизнерадостными приветами москвичам от имени «товарищей», занимало бльшую часть листа. В самом низу мелким неразборчивым почерком было приписано еще несколько строчек, и в них было высказано какое-то совершенно дикое и даже оскорбительное предположение, что адрес Нателлы нужен был Фурману только для того, чтобы она не забывала о своем долге (когда Нателла решила купить в Москве щенка, Фурман занял для нее деньги у своих родителей). «Получишь посылку – адрес можешь порвать». В конце, с переходом на оборотную сторону листа, говорилось:
Извини, Сашка, может я пишу не то, что надо, но я на тебя ужасно злая… Хочется тебя обругать, но не буду.
Приедешь, поговорим (на юбилее).
Мне надо с тобой о многом поговорить.
От первых же слов этого письма Фурмана бросило в краску: до него вдруг дошло, что для Нателлы те две летние ночи значили совсем другое, нежели для него, и она все это время ждала какого-то продолжения. «Неужели она любит меня по-настоящему? – удивлялся он, охваченный сладкой волной тщеславия и благодарности. – Такая яркая, независимая, своевольная девушка – что она могла во мне найти? Ведь она меня совсем не знает…» Значит, тогда ночью ему все-таки не почудилось, что ее запекшиеся от поцелуев губы прошептали «люблю, люблю»? А он-то, как дурак… Боже, какая низость! Какая чудовищная пошлятина! Какой стыд… Он ужасно виноват. Но что же теперь делать? И еще это приглашение… Нужно срочно с кем-то посоветоваться!
Наппу и Борька Минаев, как оказалось, тоже получили приглашения и в ближайшие дни собирались идти за билетами, а Ольгу в Петрозаводск не пускали редакционные дела, но все трое буквально в один голос сказали, что Фурман обязательно должен ехать: раз уж он заварил эту кашу, ему ее и расхлебывать. Поначалу у него имелись слабые отговорки, связанные со служебным графиком, однако выяснилось, что он может в любой удобный момент поменяться рабочими днями с одной из тетушек и получить три выходных подряд. В общем, главной проблемой стало то, как ему следует одеться на такую ответственную встречу. Фурману мучительно не нравилось все, что было в его шкафу. За день до отъезда он в полном отчаянии попросил Минаева о помощи. Немного подумав, тот сказал, что у него есть лишний пиджак, и Фурман немедленно помчался на другой конец города. Приталенный бежевый блейзер с накладными карманами выглядел пугающе модно, отлично сидел на Фурмане и к тому же удачно сочетался с его узкими темно-коричневыми брюками. Минаевская мама вроде бы не возражала: конечно, бери, если это нужно, – у Борьки вон еще прекрасный костюм есть… Фурман стыдливо осознавал повторяющуюся странность своего поведения, но в этой чужой дружеской одежде он чувствовал себя словно в броне перед предстоящими испытаниями.
Несмотря на все эти волнующие приготовления, сама поездка оказалась совершенно бессмысленной. Когда они прибыли в Петрозаводск, на тихий серый город, придавленный низким северным небом, уже опускался вечер. Юбилей «Товарища» отмечали в какой-то школе. Мелькание незнакомых и смутно узнаваемых лиц, радостные крики, смех, огромный песенный круг… Но из-за предстоящего «выяснения отношений» с Нателлой Фурман никак не мог преодолеть охватившую его мучительную скованность. Во время официальной части праздника «московским гостям» пришлось выйти на сцену и с неловкими кривляньями представить дурацкий подарок от «Алого паруса» – склеенный на скорую руку большой бумажный куб, который должен был что-то там символизировать (придумка Наппу, естественно). Впрочем, другие поздравления были не лучше. Главным впечатлением для Фурмана стало то, что он увидел живьем множество товарищеских «стариков» из первых «поколений» клуба. Наппу кое-что рассказывал об их легендарной коммунарской юности, так что уже сами их фамилии звучали как музыка, лица казались необыкновенно притягательными и выразительными, а глаза – сияющими веселой мудростью. В воображении Фурман многое готов был отдать за то, чтобы как-то сблизиться с ними, стать их учеником, хотя и догадывался, что у каждого из них давно идет своя, не слишком удачливая и, может быть, даже скучноватая «взрослая жизнь» – ее тень тоже лежала на этих улыбающихся лицах.
По окончании общего сборища все начали естественным образом делиться на отдельные большие компании и расходиться по квартирам, где праздник должен был продолжиться среди своих. Фурман в панике пробился сквозь шумную веселую толпу и вцепился в ускользающего Наппу, умоляя, чтобы он взял его и Минаева с собой к «старикам». Но гадкий Учитель сказал, что сейчас это абсолютно невозможно. «Почему?!» – «Как бы тебе это объяснить? Коротко говоря, все эти люди, которых вы называете “стариками” и к которым я тоже имею честь принадлежать, уже много лет не виделись друг с другом, и эта встреча имеет для них совершенно особый смысл, учитывая, что между ними существуют давно сложившиеся, глубоко личные и очень непростые отношения… Да, иду-иду, еще секунду!.. Послушай, мы не можем торчать тут у всех на дороге и обсуждать причины, по которым я не могу взять вас с собой. Не хочу обижать тебя, но если ты сам не чувствуешь таких элементарных этических вещей, то что тут поделаешь? Скажу тебе совсем прямо: вы там будете лишними. Попробуй принять это просто как данность…» – «Подожди! Ты не должен вот так бросать нас! В конце концов, это же ты притащил нас сюда! Для чего? Чтобы мы просто напились здесь в стельку? Мы с тем же успехом могли и в Москве это сделать!..» – «Хорошо-хорошо, не ори, я понял, что у вас возникли какие-то проблемы. Я вам еще позвоню, позднее…» – «Куда, когда?!» Поздно, Наппу сбежал, а взбешенного и в то же время готового разрыдаться Фурмана уже тянули с двух сторон настойчивые девические руки…
Остаток вечера они провели со своими ровесниками – пели, потягивали кислое вино, бесконечно хохотали, фотографировались на память. Чувствуя полное опустошение, Фурман с приклеенной улыбкой ожидал разговора с Нателлой. В какой-то момент они оказались сидящими рядом на подоконнике. Слегка поворачивая голову, Фурман видел ее круглые печальные карие глаза, нахмуренные брови, задумчиво надуваемые губы (а ведь я их целовал…), но никакого объяснения так и не произошло – они обменялись парой ничего не значащих вопросов, а потом Нателла сказала «ну ладно» и просто ушла, оставив его сидеть на подоконнике.
Теперь надо было как-то дожить до конца этой поездки. Растягивать губы в улыбке на этом чужом празднике Фурман уже не мог и только тоскливо проклинал себя, Наппу, снова себя… Крутившийся поблизости знакомый мальчишка-фотограф неожиданно спросил его: «Тебе плохо?» Фурман лишь стыдливо кивнул. Нет, помочь ему невозможно. Но все равно – спасибо. «А все-таки эти коммунары – молодцы…»
Он еще нашел в себе силы подойти к Тяхти, которая, по его предположениям, была в курсе всего происходящего с ее подругой, и спросить, как Нателла. «Послушай, Фурман, я не знаю, что тебе сказать. Но по-моему, ты напрасно так о ней беспокоишься. Ничего страшного с ней, слава богу, пока не присходит, – со странной жесткостью сказала Тяхти, глядя ему прямо в глаза. – Просто она должна сама справиться со своими чувствами, а на это ей, естественно, потребуется какое-то время… Нет, как раз тебе лучше к ней пока не приставать… Ну как, я понятно тебе все объяснила? И у тебя ко мне больше нет никаких вопросов? Вот и замечательно. Теперь я с чистой совестью пойду веселиться дальше».
…Провожать их на вокзал почему-то пришло множество народа. Большой поющий круг то и дело с радостью принимал в себя всё новых людей, и Фурман, деликатно обвитый дружескими руками и машинально подчиняющийся качанию общей волны, вдруг испытал острое сожаление, оттого что не может (да и не имеет права – хотя об этом никто кроме Нателлы и Тяхти, наверное, не догадывался) стать одним из них, простым и надежным звеном в цепи братской верности…
Вагон был плацкартный. Фурману досталось верхнее место в проходе, а Наппу и Борьке – верхние в закутке напротив. Настроение у обоих было приподнятое, они хотели общаться, но соседи, занимавшие нижние полки, вскоре начали устраиваться на ночь, поэтому им тоже пришлось расстелить свои постели и лечь. Наверху между Наппу и Борькой завязалась какая-то оживленная беседа. Разобрать, о чем они говорят, Фурман на таком расстоянии не мог. Некоторое время он с отстраненным интересом наблюдал в полутьме за их возбужденным шевелением, а потом, подчинившись нескончаемому перестуку колес и неровному раскачиванию разогнавшегося поезда, погрузился в свои одинокие мысли.
Все вокруг уже давно похрапывали и посвистывали на разные лады, когда неугомонные фурмановские спутники вдруг вспомнили о нем и вместе с подушками разом развернулись в его сторону. «Привет! Ты еще не спишь?» – приглушенными голосами сказали они и предложили включиться в их разговор о том, может ли коммунарство стать реальной перспективой для их московского клуба. Через разделяющий их полки коридор Фурман терпеливо выслушал краткое изложение занятых собеседниками позиций и по настоянию Наппу был вынужден высказать свою – увы, нелицеприятную и крайне пессимистическую – оценку будущего клуба. Наппу поморщился: мол, ничего другого он и не ожидал, Фурман, как всегда, в своем репертуаре – одна злобная критика и никакой конструктивности… Они как-то нехорошо заспорили между собой, а добрый Борька неожиданно попытался поддержать Фурмана, якобы найдя в его словах «некое рациональное зерно». Поддержка эта оказалась настолько неудачной, что оба язвительных противника тут же объединились против доброжелателя (впрочем, перевести огонь на себя ради всеобщего примирения было вполне в духе Минаева). У Фурмана за всем этим вынужденным напряжением сил стояла холодная сосущая тоска, поэтому он быстро иссяк и снова выпал из общения, тем более что разговор уже перескочил на какие-то другие темы, до которых ему сейчас не было никакого дела. А Наппу с Борькой продолжали болтать, словно и не заметив «потери бойца». При этом длинные тонкие напповские руки, высунувшись из-под простыни, навели мосты над пропастью между полками и, по его навязчивой привычке дружелюбно цепляться за выступающие детали одежды собеседника и ловить чужие руки, вступили в «параллельный» разговор с вялыми минаевскими руками. Гибкие пальцы, как будто зажившие своей отдельной жизнью, с бережной решительностью сплетались и расплетались с сонными и неуклюжими; мягко подбрасывали и подхватывали безвольно падающую белую кисть, а потом долго баюкали ее, как бы успокаивая; выгнутая раскрытая ладонь, встав на дыбы, точно королевская кобра в боевой стойке, медленно сходилась с другой – словно обмякшей в страхе – ладонью, а сойдясь, на мгновенье обвивала ее и потом долго-долго прощалась с ней, повиснув в плотном тягучем воздухе… Сам Борька, похоже, уже утомился от разговоров. Безнадежно застряв на какой-то своей нелепой мысли, он начал слегка горячиться, и эта непрерывно плетущаяся с помощью его рук паутина мешала ему сосредоточиться. Не переставая говорить, он раз за разом машинально высвобождался из захвата и потом со слепой досадой пытался уклониться от общения в этом «параллельном мире», что придавало игре грубоватый кукольный драматизм.
Из-за усталости, отупляющей качки и тусклого ночного освещения Фурман то и дело проваливался в глубокие скважины мгновенных железнодорожных снов. Очнувшись по новой на своем месте в несущемся поезде, он вдруг заметил, что вдалеке в проходе мелькает какая-то странная фигура, – вскоре ему стало понятно, что это приближается проводник (он был в форме и фуражке), не без труда удерживающий на ходу равновесие. Фурман на всякий случай подал предупредительные знаки Наппу и Борьке, чтобы они вели себя потише, но они не обратили на них внимания, а проводник был уже совсем рядом. Когда его взгляд случайно наткнулся на переплетенные над проходом голые руки, на его унылом морщинистом лице выразилось страшное изумление. Отшатнувшись, он по инерции начал заваливаться набок, но смог как-то извернуться и устоять на ногах. Это как будто вернуло его к реальности: одной рукой он покрепче ухватился за поручень, а другой ошарашенно сдвинул свою фуражку на затылок. Постояв так несколько мучительных секунд в ходящем ходуном проеме, дядька словно бы пришел к какому-то нелегкому внутреннему решению, – но теперь его вытянутое лицо говорило о мрачной детской обиде или даже (если учесть, что он был «при исполнении») о чем-то вроде оскорбленной чести. В немом возмущении он начал медленно поднимать глаза к потолку, внезапно встретил наблюдающий взгляд Фурмана – и аж присел с перепугу, повиснув на поручне. Недоверчиво присмотревшись, проводник выпрямился, сердито покачал головой, шепотом произнес «тьфу!» и с брезгливо-недовольным видом двинулся дальше по проходу.
Наппу и Борька ничего не заметили. А Фурмана охватило странное чувство – смесь стыда и смеха. Когда Наппу, пожелав ему и Борьке спокойной ночи, протянул раскрытую ладонь для ласкового прощального пожатия, Фурман с дружеской покорностью ответил на него, хотя ему ужасно хотелось рассмеяться.
Бедный Наппу! Бедный, ничего не понимающий Борька… Мало на него было Ольги! Конечно – он же «темненький»… Господи, ну и руководители нам достались…
Но он тут же с горечью одернул себя: чья бы корова мычала…
Этой осенью семья Наппу переехала из комнаты в коммуналке в небольшую и не новую, но зато отдельную двухкомнатную квартиру. Хотя вещей у новоселов было немного, в веселом суматошном переезде приняло участие множество добровольных помощников, и с первого же дня этот дом стал центром притяжения для самых разных людей. Кроме постоянной клубной компании там вечно крутились, выступали с докладами и оставались ночевать всевозможные «светлые шизики», улыбчивые изобретатели «вечных двигателей», непризнанные художники и поэты, бойкие гипнотизеры, философы-неомарксисты с изысканно-чудаковатыми манерами и педагоги-экспериментаторы, нередко приезжавшие из других городов. Напповская жена Лена не только не возражала против такого наплыва гостей, но и предоставила в их полное распоряжение маленькую комнату, в которой поначалу планировалось устроить детскую.
Клубная компания продолжала регулярно собираться, совершать совместные выезды и обсуждать читаемые по кругу книги, но раскачать эту, как говорила Мариничева, «казачью вольницу» хоть на какую-нибудь общественно полезную деятельность не удавалось. Тем не менее Наппу очень раздражался, когда на общих встречах «бесплодный критикан и зануда» Фурман заводил разговоры о «вырождении клуба». Сам Наппу по-прежнему легко и по любому поводу выдавал кучу творческих идей и проектов, и отсутствие поддержки его почему-то не слишком огорчало. «Вам же хуже, – говорил он. – Мне-то что, я делаю свое дело. А вы просто еще не догадываетесь, что жизнь человеческая страшно коротка и летит очень быстро. Однажды вы поймете, какие возможности из-за своей лени или по глупости упустили, спохватитесь, но будет уже поздно».
В жизни Фурмана все складывалось относительно благополучно: не слишком тяжелая «трудовая повинность», вольное чтение, дружеский круг, – однако и без напповских запугиваний его теперь все чаще охватывало забытое школьное ощущение неприкаянности и полной бессмысленности своего существования. Чтобы избавиться от тревоги, он попытался вернуться к своему заброшенному замыслу – подробно описать один долгий зимний день старшеклассника, – но то, что у него получалось, ему совершенно не нравилось. Промучившись несколько дней, он сдался, и эта неудача лишь усилила его беспокойство.
Как-то в редакции Наппу, в очередной раз перечисляя равнодушной клубной публике «добрые дела», за которые желающие могли бы взяться, среди прочего объявил, что он был бы крайне благодарен тому, кто поможет ему привести в порядок его личный архив, всё еще не разобранный после переезда на новую квартиру. У самого Наппу не было ни времени, ни сил этим заняться, хотя, по его словам, без своих архивных материалов он был как без рук. До этого момента Фурман, как и все остальные, слушал его вполуха, обмениваясь ироничными замечаниями с соседом, но тут вдруг что-то заставило его задуматься.
Из своих летних разговоров с Мариничевой он вынес деликатно-многозначительное представление о «хрупкой гениальности» Наппу. Его стыдная тайная «болезнь» и бытовое чудачество, порой граничащее с юродивостью, энциклопедическая осведомленность в самых разных областях знания и поразительная способность фонтанировать свежими идеями, необычайная общительность и демонстративное стремление обуздать утекающее время (каждые пятнадцать минут Наппу, где бы он ни находился, доставал из кармана колоду скрепленных резинкой карточек и делал в них загадочную стенографическую запись о происходящем) – все эти странности заставляли Фурмана предполагать, что за ними скрывается некое покрывающее их «высшее творческое оправдание»: например, что Наппу уже давно работает над каким-то грандиозным утопическим сочинением, которое призвано перевернуть мир, или что у него имеется хотя бы детально продуманный план такого сочинения (ведь говорил же Пушкин о Данте, что один только его план ада – гениален), или еще что-нибудь в этом роде. Фурман даже спросил у Мариничевой, знает ли она что-нибудь о «большом труде» Наппу. Ольга сначала удивилась и сказала, что ей ни о чем таком не известно, а потом почему-то разволновалась и стала убеждать Фурмана, что в принципе Наппу вполне способен написать «что-то вроде фантастического романа», – возможно, когда-то он даже заговаривал с ней на эту тему, но она, к сожалению, сейчас не помнит никаких подробностей. Тем не менее она абсолютно уверена в том, что если бы Наппу реально взялся за создание какого-то серьезного произведения – причем в любом литературном жанре – и, главное, смог бы довести эту работу до конца, то результат получился бы как минимум конкурентоспособным, а по максимуму – чем черт не шутит, возможно, это потянуло бы и на «Нобелевку»… Впрочем, Фурману все это было не так уж и важно. Он уже принял решение резко повернуть свою никчемную жизнь и пойти служить великому Учителю. Если надо, он начнет с разбора архива. И пусть другие будут презрительно кричать ему вслед, как его любимому чеховскому герою: «Эй, Маленькая польза! Маленькая польза!» – что ж, ему это как раз по душе. Он ведь всегда хотел быть именно таким – простым водителем троллейбуса, тихим морским офицером, дворником в психушке, верным слугой…
Однако выраженная Фурманом готовность помочь, похоже, несколько озадачила Наппу. Возможно, он вообще не рассчитывал на чью-либо помощь или именно от Фурмана ее не ожидал, считая его язвительным циником, неспособным ни на какое доброе дело, – как бы то ни было, он даже не сразу понял, что Фурман имеет в виду, и потом долго перебирал свои карточки, пытаясь сообразить, когда у него найдется свободное «окошко», чтобы ввести новоявленного помощника в курс дела.
Основная часть архива размещалась во встроенном стенном шкафу в детской комнате. На первый взгляд, там все было более или менее в порядке: бумажки распиханы по папкам с какими-то условными надписями, а на некоторых полках папки даже стояли по алфавиту. Но Наппу объяснил, что на самом деле внутри папок царит дикий бардак, и задача-максимум заключается в том, чтобы заново всё систематизировать. По какому принципу? Это Фурману придется определить самому. Свои приходы он должен будет согласовывать с Леной, а в решении любых технических вопросов ему предоставляется полный карт-бланш. Завершив торопливые инструкции недоверчивым напоминанием о том, что любые попытки несанкционированного выноса архивных материалов из дома будут безжалостно караться, Учитель умчался по своим делам. Лена в этот момент отсутствовала, и взволнованный Фурман остался наедине с заветным хранилищем.
Для начала он, покраснев, позволил себе найти и заглянуть в тоненькую папку со своей фамилией… Увы, никакого компромата или разоблачительных психологических характеристик там не оказалось. Это был абсолютно случайный набор «документов» – словно создатель архива просто прихватил первые попавшиеся бумажки с образцами почерка и аккуратно сложил их в «личное дело». Содержимое других взятых наугад именных папок по сути было точно таким же: о том, что Минаев хочет стать журналистом, говорили типографские гранки двух его заметок с чьей-то жесткой правкой, а художественный талант Сони Друскиной подтверждался несколькими газетными вырезками с ее рисунками и черновыми набросками, по всей видимости, похищенными из редакционной мусорной корзины. Решив, что доверие Учителя и допуск к действительно важным материалам нужно еще заслужить, Фурман приступил к последовательному просмотру папок.
На это ушло около трех недель. Как Наппу и предупреждал, видимая систематизация архива на поверку оказалась фикцией. Непонятно только, как он сам мог ориентироваться в этом хаосе – он ведь говорил, что архив нужен ему для работы?
Никаких следов предполагаемого «утопического романа» или «большого философского труда» Фурману обнаружить не удалось. Хотя авторство подавляющего большинства архивных текстов принадлежало самому Наппу, в основном это были всё те же странные «продукты» его творчества – шутливые приказы, обращения, послания и проекты, – с которыми Фурман так или иначе уже сталкивался раньше, просто здесь они были собраны вместе. В целом эта бумажная гора, конечно, впечатляла. Но когда Фурман попробовал представить себе, что будет, если перечитать все это подряд, у него в голове возник лишь загадочно отвратительный шум…