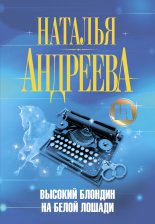Книга Фурмана. История одного присутствия. Часть III. Вниз по кроличьей норе Фурман Александр

Наверно, нужно было сделать небольшой перерыв. Фурман доложил Наппу о проделанной работе и не спеша начал продумывать новую систему рубрикации, в связи с чем ему даже было разрешено взять домой несколько папок с клубными материалами.
К концу ноября как-то резко похолодало, закрутились метели. Заботливая мама поспешила достать из шкафа зимнюю куртку Фурмана – длинную, почти до колен, из жестко шуршащего нейлона ядовито-ультрамаринового цвета, с оловянно блестящими плоскими пуговицами и нейлоновым же пояском, который с трудом застегивался на два пришитых мамой маленьких крючочка. Папа купил ему эту куртку года три назад – она была достаточно теплой, не промокала и стоила недорого.
Однажды, вернувшись из очередной курьерской поездки, Фурман не раздеваясь заглянул в школьный отдел – без всякого дела, просто поздороваться. Ольга была чем-то занята, но попросила подождать ее буквально пару минуток. Сидевший за соседним пустым столом стажер и местный хлыщ Лёня Загальский обвел Фурмана скучающим взглядом и вдруг с подчеркнутой вежливостью попросил разрешения задать ему один вопрос. Фурман вынужден был пожать плечами в знак согласия (до этого он не раз оказывался свидетелем Лёниных упражнений в унизительном остроумии по отношению к безответным юнкорам). Понимающе покивав и брезгливо стрельнув глазами по фурмановской куртке, Лёня поинтересовался, где это ему удалось приобрести такую необычную вещь – уж не на распродаже ли рабочей одежды в городе Олонце Карельской Автономной Республики, где, как он слышал, Фурман вместе с Наппу и Мариничевой побывал этим летом? Густо покраснев, Фурман примирительно пробормотал, что вообще-то эту куртку ему уже очень давно купили родители в ГУМе… а Наппу в Олонце не было… Мариничева среагировала на «ключевые слова», встрепенулась и с шутливым возмущением потребовала, чтобы Загл прекратил доставать «мою добрую Фуру» своими грязными намеками, но тот нагло велел ей помолчать: ты давай, мол, занимайся всякими важными делами, а мы тут без тебя разберемся. Лучше всего было бы исчезнуть под шумок, однако у Загла возникли и другие вопросы. «Фурман, признайся, только честно, ты давно смотрел на себя в зеркало?» – «Нет, недавно… Сегодня утром… А что? – растерялась жертва. – У меня что-то не в порядке?» – «Да как тебе сказать… А почему ты не бреешься?» Действительно, после окончания школы Фурман решил свободно отращивать волосы и, условно говоря, «бороду», которая благодаря своему странному красновато-рыжему отливу уже летом, в Карелии, будучи еще щетиной, привлекала к себе всеобщее внимание. Неожиданно выяснилось, что опрятного модника Загальского ужасно оскорбляет буквально все во внешнем облике Фурмана: и эта его чудовищно провинциальная куртка, и жалкая поросль на лице, якобы делающая его похожим на вождя корейского народа товарища Ким Ир Сена, и, увы, не слишком чистая в этот день грива… Мариничевой опять пришлось вмешаться: да какое тебе до всего этого дело? Оставь мальчика в покое! Чего ты к нему привязался-то? Но ее заступничество Лёню только разъярило: раз этот человек (то есть Фурман) позволяет себе без стука заходить в эту дверь, когда ему вздумается, бессмысленно торчать тут целыми днями и отвлекать людей от работы своей болтовней, то и он, со своей стороны, имеет право предъявить к нему какие-то минимальные этические требования!!! Ну всё, приехали… Это уже полное ку-ку… «Да, а вы с Наппу совершенно напрасно потакаете их хамскому поведению!..» На крики прибежал заинтересовавшийся Наппу, и скандал получил какое-то новое развитие, но огорченный Фурман предпочел молча удалиться на свое служебное место.
Ночью в ванной он долго вглядывался в свое отвратительное лицо. Да… И куртка у него, конечно, уродливая. Но все же насчет Ким Ир Сена – это преувеличение. Не так уж он на него и похож…
Господи, как же все плохо.
Из-за тяжелой серой пелены, постоянно закрывающей небо, и колючих ледяных метелей и без того короткое светлое время дня почти не ощущалось. Когда в половине четвертого Фурман торопливо забрался в машину, чтобы второй раз за этот день развезти срочную почту, ему почему-то показалось, что дело близится к вечеру, он даже специально посмотрел на часы и убедился, что это не так, но через каких-нибудь двадцать минут стало уже темно, как ночью.
В этом промежутке произошло одно странное событие, совершенно выбившее Фурмана из колеи. Суровый пожилой водитель уже выехал на Ленинградское шоссе, развернулся и уверенно понесся в сторону центра. Взлетев на мост у Белорусского вокзала, он резко притормозил на горке, Фурмана чуть подбросило, и на долю секунды он испытал опасное и смешное состояние невесомости. Из-за метели видимость была минимальной: несколько метров заснеженного асфальта с одиноким фонарным столбом и гранитным парапетом висели в пустоте, набитой шарахающимися косяками призрачных снежинок. Рядом по тротуару, слегка наклонившись вперед на сильном ветру, шла девушка в белой куртке. Фурман успел заметить на ее лице какую-то удивительно счастливую улыбку, потом девушка прикрылась ладошкой от порыва вьюги и пропала – машина помчалась дальше. Фурмана внезапно охватил приступ отчаяния. Он готов был просить водителя остановиться и выпустить его, но на площади они не могли этого сделать, а бежать от угла улицы Горького обратно пришлось бы кругом, через весь вокзал… Поздно: она сейчас наверняка уже завернула в метро – вход был прямо на мосту, всего в нескольких шагах от того места. И даже если бы он ее догнал, что бы он ей сказал? «Девушка, постойте, можно с вами познакомиться? Я работаю курьером…»
За окнами проплывали лучащиеся огни главной московской улицы. Нет, слишком счастливое у нее было лицо для одинокого человека… Фурман вдруг ясно осознал, что эта улыбка напомнила ему молчаливую Надю, которая была так доверчиво влюблена в него летом в карельском лагере. До этой минуты он почти и не вспоминал о ней. История с Нателлой все заслонила. А на юбилее ее почему-то не было. Как странно все повернулось… Неужели она и была той любящей Ты, его «второй половинкой», которую он мечтал встретить – и упустил?..
Следующие несколько дней он пребывал в чудесном лихорадочном состоянии, сочиняя длинное стихотворение об этой встрече на мосту среди метели: «Дробно-колючая пурга / Слепит бездомный лик фонарный… Я видел вместо девушки тебя / А я бежал с тобою рядом… И сладко долгим долгим сном / Шептать любимой имена…»
Когда стихотворение закончилось, Фурман, по выражению Мариничевой, выпал в осадок.
Все в жизни разом потеряло смысл, и у него еле хватало сил, чтобы заставить себя доползти до работы. Все свободное время он просто валялся мордой к стенке в какой-то тупой тоске.
И тут ему пришло письмо с приглашением в зимний лагерь «Товарища».
Оказывается, о нем помнили, он был нужен, его ждали! Фурман страшно разволновался, ходил со всеми советоваться, рассказывал о петрозаводских коммунарах, о том, что они «в отличие от нас, заняты настоящим Делом», о Наде, с которой ему, может быть, удастся встретиться ТАМ… «А как же эта твоя Нателла?» – спрашивали его. Он не знал, но в любом случае все это была жизнь, а здесь, в Москве, – только медленное и бесцельное пропадание. Ну что ж, поезжай, говорили ему, может, правда найдешь там свое счастье – по крайней мере, мы все тебе этого желаем…
Оставалось только уладить вопрос с работой. На этот раз Фурману нужна была целая неделя, включая два дня новогодних праздников. Пришлось идти в отдел кадров. Сидевшая там тетка очень удивилась его просьбе об отпуске за свой счет на такой долгий срок. Она понимает, что ему это очень нужно, но кто будет работать вместо него? Когда вам надо уезжать? Через три дня?! Вот эта безумная срочность окончательно ее рассердила, и она уперлась: нет, ничем не могу вам помочь. Если бы вы предупредили заранее, хотя бы за месяц, или, еще лучше, нашли себе какую-то замену, еще было бы о чем говорить. А так… Никакой замены у Фурмана, конечно, не было. Да и письмо он получил всего пару дней назад. Похолодев, он в последний раз попытался умолить ее: поверьте, мне правда очень нужно уехать! Бесполезно. «Хорошо, тогда я прошу уволить меня по собственному желанию.» – «Пожалуйста! – презрительно усмехнулась она. – В таком случае вы должны написать заявление на имя главного редактора. Только напрасно вы думаете, что все так просто: по закону вам придется отработать как минимум две недели. Если вас это устраивает…» Взбесившись, Фурман выкрикнул что-то про рабство, заявил, что он все равно уедет, и потом в ярости написал заявление об уходе с завтрашнего дня. Все рухнуло, ну и черт с ним! Он этого не хотел!
Мариничева с Наппу только руками развели. Он ведь и их подвел – они его рекомендовали.
Родители, конечно, были в шоке: как это «уволился»? Совсем? Но почему?!
Мурманский поезд уходил ровно через час после наступления Нового года. На вокзал Фурман решил ехать не из дома, а от Наппу, у которых собралась вся большая клубная компания. Внутренне Фурман был уже не здесь: его била нервная дрожь, и он то и дело посматривал на часы (от напповского дома до метро было ровно семнадцать минут ходьбы быстрым шагом, а ведь у него с собой еще рюкзак и лыжи), но все хотели с ним попрощаться, словно он отправлялся куда-то очень надолго и его не чаяли больше увидеть. В последний момент, уже в дверях, ему засунули в рюкзак большой конверт, в котором, как выяснилось позднее, была куча записок с дружескими пожеланиями встретить в Петрозаводске «сам знаешь кого», признаниями в братской любви и советами, как правильно себя вести в далекой и полной опасностей Карелии…
Всю дорогу Фурман бежал изо всех сил и, войдя в полутемный, пропахший дымом, жарко натопленный плацкартный вагон, был уже насквозь мокрый. Несмотря на новогоднюю ночь, народу было полно. С трудом запихивая лыжи и рюкзак на боковую багажную полку, где уже лежали чьи-то тюки, Фурман пропустил момент, когда поезд плавно тронулся, и не успел проститься с Москвой по-человечески, как хотел.
Слабый свет в вагоне вскоре почему-то вообще выключился, так что постели все стелили на ощупь, при унылом мелькании заоконных фонарей. У Фурмана было верхнее боковое место, и, чтобы не толкаться с соседями в проходе, он решил переждать всю эту суету, сидя за столиком. Другой угол занимал здоровенный угрюмый мужик – пространство под столом оказалось полностью занято его ножищами. Фурман смиренно пристроился спиной к окну, хотя сидеть так было не слишком удобно – в лопатку упиралось крепление прута, на котором висела занавеска, да и взгляд в темноте остановить было особо не на чем. Пока остальные соседи укладывались, мужик молча выставил на стол пару алюминиевых кружек, уверенно набулькал в них из какой-то нестандартной бутылки и коротко предложил Фурману: «За Новый год». Судя по мерзкому запаху, в кружке был самогон, и Фурман вспомнил, что с обеда почти ничего не ел. Одна из женщин, оказавшаяся в этот момент рядом, неодобрительно посмотрела на него, но отказываться было неудобно. Кружки звякнули: «Ну, поехали!..» Осторожно давясь, Фурман сумел допить эту гадость до конца и с усвоенной на школьных пьянках вежливой неторопливостью закусил кусочком соленого огурца, который вместе с салом был радушно выложен соседом на обрывке газеты. Вообще-то все это было ужасно смешно – вот такое диковатое праздничное начало поездки в неведомое будущее. А ведь еще говорят, что как встретишь Новый год, так его и проживешь… После второй кружки Фурман вдруг почувствовал, что со страшной скоростью пьянеет. Он поблагодарил соседа за угощение, кое-как расстелил белье и, едва не сорвавшись, забрался наверх. Некоторое время он с усилием раскручивал вертушку у себя в голове в обратную сторону и мягко сопротивлялся бортовой качке, а потом был утянут течением ко дну.
Когда он вышел в Петрозаводске, северное небо показалось ему еще ниже и пасмурнее, чем в октябре. С глупой радостью вглядываясь в лица случайных прохожих, Фурман пешком неторопливо отправился к Нателле. Он поднялся по знакомой высокой лестнице на пятый этаж и узнал, что она уже ушла – видимо, к Тяхти, причем с вещами. Вот так, значит, его встречают… До Тяхтиного дома было не очень далеко. Пока Фурман шел туда, стемнело, и в безветренном морозном воздухе по-новогоднему медленно начал падать густой пушистый снег. Под ногами уютно поскрипывало. Эх, как же все-таки хорошо жить!
Тяхти дома тоже не оказалось. Ее мама озабоченно сказала Фурману, что он должен срочно бежать на автовокзал – возможно, еще успеет на автобус, но куда все едут, она не знала… Проклиная свою беспечность и обиженно удивляясь, что ему даже записки не оставили, Фурман помчался в исходную точку – автовокзал находился сразу за железнодорожным, по другую сторону путей. А что если они уже уехали, растерянно думал он на бегу. Не хватало только первого января остаться ночью одному в чужом городе. Да еще с этими треклятыми лыжами!..
Но именно по лыжам его и опознали в самый последний момент: водитель автобуса уже закрыл двери, и тут кто-то сквозь надышанный в замерзшем стекле глазок увидел еще одного «нашего».
– О! Здрасьте! А мы уж подумали, что ты не приехал, – сказала высунувшаяся из дверей Нателла, подзывая Фурмана и одновременно пытаясь удержать на поводке огромную восточно-европейскую овчарку, которая бешено возражала против появления нового пассажира. – Не пугайся, это Риф. Он тебя не укусит.
Надо же, тот самый московский щеночек! Проскочив мимо Рифа, с трудом заблокированного хозяйкой, Фурман тяжело плюхнулся на сиденье, которое для него приветливо освободили, автобус тронулся, и тут же все привычно затянули «Из окон корочкой…». Фурман подпевать пока не мог – сначала надо было немножко отдышаться и прийти в себя.
Минут через десять городские огни остались позади. Встречных машин почти не было, как и признаков жилья в окружающей тьме. Под ровное сильное гудение мотора коллективное пение постепенно угасло. Переговорив о том о сем со знакомым соседом, Фурман выяснил, что «зимовка» (так коммунары называли свой зимний сбор) пройдет в шикарном месте – на даче обкома комсомола, расположенной в лесу на берегу большого и очень красивого озера, что Данилов если и приедет, то только на один день, и что встреча с Надей, ради которой, Фурман, собственно, и рванул сюда, возможно, вообще не состоится: мало того, что ее не будет на «зимовке», но и в самом «Товарище» она после летнего лагеря вроде бы больше не появлялась. Сосед даже вспомнил ее не сразу.
Короткие лучи передних фар выхватывали лишь заснеженную ленту шоссе с ослепленно застывающими у обочины призрачными толпами лесных деревьев. На Фурмана внезапно накатила чудовищная усталость. Он сказал, что, пожалуй, немножко подремлет, сполз пониже, чтобы было к чему прислонить голову, и сразу вырубился.
Когда он пробудился и мучительно разогнул затекшую шею, почти все вокруг спали. Все так же заунывно завывал мотор и с обеих сторон дороги сплошной стеной тянулся темный лес. Единственным развлечением в этом сонном царстве был лежащий у ног Нателлы огромный нервный пес. Однако свое детское знакомство с Фурманом Риф явно не желал признавать. Сама Нателла тоже бодрствовала, но на попытки Фурмана завести беседу отвечала как-то неохотно, предпочитая задумчиво смотреть на пустую дорогу сквозь черное переднее стекло, по краям которого посверкивали тоненькие серебристо-золотистые паутинки-царапинки.
Обкомовская дача действительно оказалась замечательным сооружением. Снаружи она напоминала гигантскую сказочную избушку с высоченной островерхой крышей, а внутри была на удивление просторна и, помимо широких коридоров (в одном из них даже стоял теннисный стол без сетки) и нескольких спален, имела великолепный каминный зал, большую столовую, кухню, городские туалеты и даже душевые (горячая вода, правда, отсутствовала). И все это на шесть дней было в полном распоряжении «товарищей»!
Случайно или нет, Фурмана определили в один отряд с Нателлой. Этот отряд был самым маленьким. Из восьми человек шестеро в нем были девчонки. (Впрочем, примерно такое же соотношение было и в других отрядах. Как говорил Наппу, «бабье царство» было одним из верных признаков того, что коллектив перестал творчески развиваться.) Отряду было велено разместиться в небольшой комнатке с четырьмя унылыми железными койками вдоль стен – середину позднее заняли четыре видавших виды брезентовых раскладушки.
При всей соблазнительности каминного зала, без живого огня там оказалось очень холодно, да и сидеть было не на чем, поэтому общее знакомство и короткие представления отрядов прошли в столовой. Ужин в день заезда был выдан «сухим пайком» и мгновенно умят. Перед отбоем небольшая компания желающих подышать свежим воздухом выбралась наружу и постояла в темной тишине среди сугробов под очистившимся небом, усеянным на всю свою бесконечную прозрачную глубину цветущими звездами…
Следующие три дня все шло по плану. На взгляд Фурмана – очень вяло и по большей части занудно. Он пытался как-то расшевелить свой отряд, но включение в пресловутое «коллективное творчество» давалось стеснительным карельским девушкам довольно туго. Фонтанируя разнообразными идеями, Фурман пару раз с удивлением ощутил себя в роли Наппу, с ходу предлагающего и такую возможность, и такую, – но почему-то все без толку. Тем не менее даже те девчонки, которых он раньше не знал и которые поначалу испуганно замирали от его шуток и поддразниваний, теперь с готовностью хихикали вместе с остальными, а на вечерних обсуждениях тупо повторяли друг за другом, что «у нас в отряде создалась веселая атмосфера». Однако Нателла смотрела на все эти фурмановские усилия довольно скептически и в какой-то момент с неожиданной жесткостью высказала накопившееся недовольство: мол, смеяться, конечно, не вредно, но нельзя ко всему на свете относиться с иронией, есть и серьезные вещи. Как говорится, делу время, потехе час. Произошло это во время отрядной подготовки к очередному общелагерному делу. Все испуганно опустили глаза, Фурман тоже растерялся, но было ясно, что если кому и отвечать, то только ему – не только как очевидному, хотя и не названному заводиле «нехорошего веселья», но и просто как старшему по возрасту. «Ты имеешь в виду какой-то конкретный случай, когда смеяться не стоило, или говоришь вообще?» – осторожно спросил он, нарушив неловкое молчание. Нателла что-то запальчиво ответила, но на самом деле затевать спор было совершенно не ко времени: через пять минут их отряд должен был выступить совсем на другую тему. Фурман сказал, что считает этот вопрос очень важным, поэтому лучше перенести его обсуждение на вечер, когда над ними не будет висеть никаких срочных дел. Все с облегчением закивали, и подготовка к выступлению продолжилась – правда, уже по более «серьезному» варианту сценария, который в самом начале был предложен Нателлой. Фурман первый сказал, что нужно к нему вернуться, и вообще очень старался воздерживаться от шуток и никого не провоцировать.
Ситуация была сложной. Хотя внезапно прорвавшееся раздражение Нателлы отчасти наверняка было вызвано ее старой обидой – и тут уж ничего нельзя было изменить, – за ним стояли и очевидные «идейные расхождения». Вопрос для Фурмана заключался в том, стоит ли обсуждать их открыто и публично. Все-таки он здесь всего лишь гость. А учитывая эмоциональный запал Нателлы и ее твердокаменные политические взгляды (недаром у нее дома на видном месте стояло собрание сочинений Сталина), прямое «выяснение отношений» вполне могло закончиться скандалом. Никакого смысла в этом не было, и Фурман грустно решил спустить все на тормозах. «И здесь я тоже лишний», – подумал он.
Потом одна из девчонок, улучив минутку, по секрету сообщила ему, что многие в их отряде считают, что Нателла была не права в своих упреках. Ведь среди коммунарских лозунгов есть и такой: «Живи для улыбки друга!». Так что пусть Фурман знает: они на его стороне, хотя и вряд ли осмелятся сказать об этом вслух.
Этот жалкий «заговор» растрогал, насмешил и в то же время встревожил Фурмана. Неужели никто из старших «товарищей» не понимает, что нельзя так формально работать с подростками, твердя при этом о самоуправлении, творчестве и прочих замечательных вещах? Кого они хотят обмануть? Если люди перестают им верить, то чем тогда коммунарство отличается от официального комсомола? С лозунгами там тоже все в порядке. Но любое общественное разложение как раз и начинается с того, что слова расходятся с делами, а правда никого не интересует!
Возможность высказаться откровенно все больше вдохновляла Фурмана. Вот только как это воспримет Нателла? Начнет ссориться? Ему стало ее жалко. Он ведь ей не враг – наоборот, он хочет помочь, и разговор не должен превращаться в какое-то темное сражение между ними. Конечно, Нателла порой бывает слишком прямолинейной и жесткой в своих оценках, из-за этого ее авторитет и так уже слегка пошатнулся, но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в отряде произошел раскол. А для этого они оба должны понять, что в чем-то главном они являются союзниками, что у них общая цель. И эта цель – разбудить людей от духовной спячки, освободить их от страха перед другими и помочь им сознательно строить свою жизнь как служение высшим ценностям: Добру, Справедливости, человеческому Братству. Революция должна продолжаться! И кто, если не мы, подхватит ее пошатнувшееся знамя?! «Наша цель – счастье людей! Мы победим, иначе быть не может!»
Однако Нателла отнеслась к попытке Фурмана подготовить почву для предстоящего разговора как-то рассеянно – кажется, она просто обрадовалась тому, что он обратился к ней по-дружески и без привычных подкалываний. А разговоры… «Понимаешь, Сашка, я вообще пришла к выводу, что дело не в словах, а в чем-то другом. Слова иногда только мешают…»
Вокруг них с подчеркнуто незаинтересованным видом постоянно крутился отрядный молодняк, поэтому углубляться сейчас в эти новые смутные мысли Нателлы было вряд ли удобно. В любом случае, примирение между ними состоялось, и это было очень хорошо.
Разговор, напряженно ожидавшийся всеми членами отряда, начался уже перед самым отбоем.
…Вот мы тут часто рассуждаем о том, хорошо или плохо работает комсомол, сказал Фурман. А что такое «комсомол»? Если кто случайно не знает – это организация молодых коммунистов. Значит, мы здесь все по определению коммунисты. Более того, если внимательно к нам присмотреться, можно заметить, что на всех нас одинаковая и довольно необычная одежда: зеленые военные рубашки, красные галстуки, а у некоторых на голове еще и буденновки. Все это символизирует нашу особую верность революционным традициям. То есть мы с вами не просто молодые коммунисты, а, можно сказать, их передовой отряд, «разведчики из будущего», выражаясь словами братьев Стругацких. Зря мы, что ли, по нескольку раз в день хором повторяем тайное заклинание: «Наша цель – счастье людей, мы победим, иначе быть не может!» Да что – мы! По всей нашей огромной стране чуть ли не на каждом шагу можно увидеть красные революционные флаги, портреты и памятники вождям и основателям коммунистического движения, гигантские плакаты с лозунгами: «Вперед, к победе коммунизма!», «Революция продолжается!», «Коммунистическое учение всесильно, потому что оно верно»… В школах и институтах мы все в обязательном порядке изучаем основы коммунистической теории. И даже не важно, что мы в лучшем случае просто вызубриваем перед контрольной или зачетом эти «заумные» слова: «диалектический и исторический материализм», «производительные силы и производственные отношения», «классовая борьба», «смена формаций» и прочее – а потом тут же выбрасываем их из головы. Важна только наша абсолютная уверенность в том, что с воплощением коммунистической идеи в нашей жизни все уже налажено, все работает, и мы прямой дорогой, несмотря на отдельные мелкие проблемы, движемся именно туда, куда надо, то бишь в светлое коммунистическое будущее. Но раз мы в любом случае победим и по-другому просто быть не может, то и беспокоиться вроде бы совершенно не о чем. Счастье людей гарантировано!
Но вот мы, молодые коммунисты, сидим тут, и, если честно, я не вижу никакого прямого – и даже «кривого» – перехода от нас, таких, какие мы есть, к этому самому светлому будущему и к этим счастливым людям, которые якобы являются нашей целью. То есть пересади любого из нас сейчас туда, к ним, – и мы там сразу все испортим. Мы просто по-человечески совершенно не подойдем к этому будущему, за которое вроде бы боремся здесь. Им придется, как минимум, очень долго лечить нас, причем держа в глубоком карантине. Потому что на самом деле мы никакие не коммунисты.
Давайте задумаемся: а что каждый из нас в своей жизни делает именно как коммунист? Чем мы, собственно, отличаемся в своем поведении от других людей, которых мы гордо считаем пошлыми обывателями, безыдейными мещанами, лицемерами и так далее? Сразу скажу, что хорошие отметки в школе, участие в сборе металлолома, помощь старушкам при переходе через улицу и прочий детский лепет тут не считается. И вся эта наша коммунарская униформа тоже.
Тогда во что же мы верим? Или мы на самом деле ни во что не верим и только повторяем, как попугаи, чужие слова, не вкладывая в них никакого своего, личного смысла? «Социализм-коммунизм… Производительные силы, производственные отношения…» Какие отношения-то? Производство – чего? А мы сами-то здесь при чем, если коммунизм – это всего лишь какая-то абстрактная самодвижущаяся машина, не имеющая к нам никакого «производственного» отношения? Ну да, нам здесь приятно сидеть – каникулы, Новый год, собралась теплая компания, песни, игры, природа вокруг, опять же поболтать можно о том о сем…
Руководитель нашего московского клуба Виталий Наппу – вы его наверняка знаете, потому что он тоже из «Товарища», – так вот, он любит ссылаться на одну малоизвестную цитату из раннего Маркса: о том, что «коммунизм есть производство развитых форм общения». Мне эта мысль кажется очень важной и продуктивной, хотя я сам ее пока не до конца понимаю.
Что такое «развитые формы общения»? Видимо, здесь имеются в виду не только такие сложные области, как искусство или наука, но и весь круг человеческого поведения, в том числе и самые обычные, на первый взгляд, вещи: то, как мы едим, например (ведь это можно делать очень по-разному), как читаем, как разговариваем друг с другом, как понимаем или не понимаем, и даже, между прочим, как, когда и над чем смеемся. Вот что такое, оказывается, коммунизм! И в этом смысле он касается каждого человека, поскольку каждый из нас, хочешь не хочешь, является «производителем» тех или иных «форм общения», и речь здесь у Маркса, как я понимаю, идет лишь о степени нашей очеловеченности…
Наверное, Фурман слишком долго готовился к своему выступлению и, что называется, «перегорел»: его не оставляло ощущение, что он говорит не от сердца, а просто повторяет заранее придуманные фразы о творческой свободе и любви к людям, но в них нет ни того, ни другого – одни пустые, фальшиво серьезные слова. А ведь главная его мысль как раз и сводилась к тому, что слова и дела часто противоречат друг другу, а смех позволяет слегка отстраниться от них и увидеть все таким, как оно есть.
Когда он остановился, в комнате повисла долгая нелепая пауза.
– Судя по задумчивому выражению ваших лиц, в моих словах было слишком мало смешного, – криво усмехнулся Фурман. – Это печально. Я прошу прощения за то, что на ночь глядя заморочил вам голову своими дурацкими рассуждениями…
– Нет, почему? – вдруг подал голос второй отрядный мальчишка, фотограф Вася. – Мне, например, было интересно!
Все засмеялись и зашевелились, меняя позы.
Потом девчонка из тайной «фуровской фракции» отважно задала какой-то глуповатый вопрос, Фурман удачно переадресовал его Нателле, и разговор продолжился. При этом обнаружилось, что «стиль сплошного веселья» осуждается не столько Нателлой, сколько малознакомой Фурману широкоплечей девушкой с тяжелым подбородком, большим открытым лбом и спокойным пристальным взглядом. В первый день, когда всех участников сбора представляли на общем кругу, о ней было сказано, что она успешная спортсменка-лыжница, победительница то ли городских, то ли республиканских соревнований. Но в отряде она вела себя очень скромно и до этого момента таила копившееся возмущение. Кроме всего прочего, девушку – уже в этом разговоре – задели «вольнодумные» высказывания Фурмана о том, что формализм и бюрократия пронизывают всю систему комсомольской работы и в зародыше душат любую инициативу, рождающуюся снизу. Она была твердо убеждена, что в комсомоле «все нормально», «работа идет по разным направлениям» и что какие-то отдельные недостатки, наверное, можно найти – особенно если их хорошенько поискать, – но где их нет? Как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. «Нам, жителям небольшой республики, – сказала девушка, – очень не хотелось бы думать, что в Москве – столице нашей страны, которая во всем должна быть примером для остальных, – работа с молодежью поставлена настолько плохо, как об этом рассказывает Саша». Ему, конечно, виднее, раз он приехал к нам оттуда. Но допустим, что какие-то отдельные нарушения в самом деле где-то случаются. Тогда у них должны быть конкретные причины и виновники, которых необходимо найти, чтобы исправить положение. Только и всего. Нас, безусловно, тоже волнуют эти проблемы, хотя нам они кажутся далекими и достаточно абстрактными, потому что в нашем городе ничего такого просто нет. И вообще, критиковать со стороны всегда легко, гораздо труднее честно делать дело на своем месте.
Фурман был так поражен этими «антимосковскими» выпадами и намеками на свою «подрывную деятельность», что обиженно решил на какое-то время самоустраниться из разговора. Пусть «местные» сначала разберутся между собой, кем они его считают – вредоносным чужаком или другом. Многие почувствовали, что спортсменка перегнула палку, и поспешили объяснить ей, что она просто не знает Фурмана, а для тех, кто был с ним в летнем лагере, он безоговорочно «свой», и его мнению вполне можно доверять, тем более что он представляет здесь клуб «Алый парус», которым руководят журналисты «Комсомольской правды» (опровергать или уточнять эти лестные оценки Фурман, конечно, не стал). Попытались возразить ей и по существу – правда, приводя при этом какие-то нелепые детские аргументы «из собственного опыта». И даже Нателла признала, что, например, в работе с «трудными» подростками у городских комсомольских организаций существуют острые и пока неразрешимые проблемы. Но спортсменка, неожиданно для себя оставшись без главной поддержки (Нателла была для нее безусловным авторитетом), только сверкнула глазами, набычилась и с демонстративным хладнокровием продолжала настаивать на своем.
Разговор зашел в тупик, и вскоре все дружно начали зевать, утомленные этой бессмысленной вязкой возней. Упрямая соперница потихоньку торжествовала, и тут Фурман, который сидел с огорченно опущенной головой, наконец завелся. Он еще успел ощутить, как внутри него откуда-то снизу поднимается ледяная волна Гнева Разума, оскорбленного в своих самых чистых и благородных намерениях… И когда в следующее мгновенье он поднял голову, окинул всех внимательным взглядом и негромко заговорил, им уже в полную силу заиграла праведно-хищная страсть Оратора Революции – больше не считающаяся ни с какими «ложными приличиями», сделавшая его тело восхитительно легким, речь – безжалостно откровенной и шокирующе возвышенной, а яростные жесты – отточенными и наглядными. Трагически-надрывное взывание к безответным общечеловеческим ценностям и прямое магическое обращение к темным глубинам души собеседника сопровождались жестким профилактическим выжиганием всей моральной и интеллектуальной территории возможного противника. (О великий Достоевский! Да и Боря сейчас наверняка мог бы гордиться своим младшим братом, который следовал ярчайшим образцам его полемической тактики в скандально беспощадных ночных спорах с мамой об идеалах!) После того как всякое сопротивление было подавлено на корню, произошло истерическое братание немногочисленных уцелевших. И вот это была самая настоящая победа коммунизма, понятого как производство развитых форм общения, над формализмом и бюрократией – пускай и в отдельно взятой комнатушке!
Когда все было кончено, часы показывали уже начало третьего. Отряд, обессиленный драматичными коллективными переживаниями, стал быстренько укладываться спать. Многие даже решили не чистить зубы. Сильно перевозбудившийся Фурман, привычный к поздним ночным бдениям, наоборот, долго и с удовольствием умывался (даже ноги помыл под холодной струей – увы, первый раз в новом году), долго сидел в туалете под непрерывное журчание текущей в соседней кабинке воды, а вернувшись в темную духоту отрядной спальни, зачем-то решил переодеться в чистое и долго на ощупь копался в своем рюкзаке, стараясь не шуметь, хотя все уже явно вырубились. Впрочем, приглядевшись, он обнаружил, что койка Нателлы, стоявшая первой от двери (Нателла всегда вставала раньше всех), пустует. Фурман вдруг подумал, что их бурный разговор вполне мог ее расстроить или даже обидеть, а он в своем самодовольстве этого просто не заметил. Он ведь не подошел к ней и ни о чем не спросил в конце, хотя на самом-то деле именно из-за нее и в большой степени для нее весь этот спектакль и был затеян… Где же она? Он представил, как по ее неподвижному лицу медленно стекают слезы, дрогнул и отправился ее искать.
Поиски ничего не дали. Теряясь в догадках и уже чувствуя накатывающую усталость, Фурман уныло побрел в туалет. В дальнем конце холла перед широким темным окном стояла Нателла – но не одна, а с Вовкой Даниловым, четырнадцатилетним сыном руководителя клуба. Вообще-то он был в другом отряде, но вот, почему-то тоже не спал в такое время. Фурман относился к Вовке с большой симпатией: этот худенький светловолосый озорник с невиннейшими голубыми глазами, ломающимся голосом и обманчиво вялыми движениями был тонким ценителем юмора. Но сейчас между Нателлой и Вовкой происходило что-то непонятное. Фурман даже остановился, не зная, стоит ли ему приближаться. Слегка отстранившись от Вовки, Нателла посмотрела на Фурмана и как-то очень грустно кивнула ему. Он принял это за знак одобрения и с улыбкой двинулся дальше. В этот момент Нателла что-то тихо проговорила Вовке – и вдруг тот с яростным взвизгом закричал ей в лицо: «Она меня достала! Я ненавижу ее! Ненавижу!!!» Крик перешел в сухое рыдание, но тут мальчишка краем глаза наконец заметил Фурмана, закрыл лицо руками и метнулся к двери туалета. «Вовка! Подожди! Вернись, пожалуйста!» – с усталой строгостью сказала Нателла ему вслед. Он же со всего разгона слепо ударился плечом о косяк, жалобно вскрикнул от боли, бессильно разрыдался в полный голос и исчез, грохнув напоследок дверью.
Сцена была абсолютно театральная. Но сама Нателла выглядела настолько раздавленной и опустошенной, что Фурман даже не стал спрашивать ее, что здесь произошло.
– Я могу ему чем-то помочь? – деловито произнес он.
Она горько покачала головой, потом пожала плечами и прошептала «попробуй». Лицо у нее при этом было совершенно мертвое.
– Ты сама-то как? – поинтересовался Фурман, с сомнением глядя на нее.
Нателла вяло показала, что справится.
Войдя в туалет, Фурман сразу увидел Вовку, который тщательно умывался над раковиной. Волосы у него были мокрые – наверное, совал голову под струю. Лицо опухшее, глаза красные, мутные, но смотрят с легким вызовом. Бедный птенец…
– У тебя уже все нормально?
Вовка медленно кивнул. Потом сказал в нос:
– Вод долько вытереться дечеб.
Фурман обрадовался:
– Хочешь, я принесу тебе полотенце?
– Да чего там. Само высохнет. – Вовка хмуро улыбнулся.
– А то давай? Я быстренько сбегаю. Зачем с мокрой головой-то ходить? Заболеешь еще…
– Не, не заболею. Меня, между прочим, вообще никакая зараза не берет. Поэтому предупреждаю: я еще многих здесь переживу, пускай не надеются! К тебе, Фурман, это не относится. Ты хороший человек, так что живи!
– Спасибо, но я надеюсь, что и все остальные еще немножко с нами поживут.
– Вот как раз этого, честно тебе скажу, мне не очень бы хотелось…
Эта притворно-полупьяная беседа тянулась еще некоторое время, но потом Фурману удалось убедить Вовку, что им обоим, и уж тем более ждущей их снаружи одинокой и ужасно уставшей Нателле давно пора на боковую.
Фурман вышел первым, Вовка – через пару минут, уже с зачесанными назад влажными волосами и маской холодного равнодушия на бледном помятом лице. Нателла утомленно усмехнулась ему, но он предпочел гордо держать дистанцию.
– Ну что, проводить тебя до койки? – заботливо предложил ему Фурман.
– Нет, спасибо, я уж сам как-нибудь дойду. Мозги, вроде бы, еще работают – дорогу я помню. Но если что, то не поминайте Вовика лихом!..
Уже попрощавшись на все лады, погасив по просьбе Нателлы свет в коридоре и с шарканьем уйдя за угол, он еще не раз внезапно материализовывался из темноты, то по новой желая им спокойной ночи или доброго утра, то изображая пьяного и смешно выкрикивая какие-то мрачные шутки. Наконец его удалось прогнать.
– Кажется, всё, ушел… – прошептал Фурман, прислушиваясь и с улыбкой поглядывая на Нателлу. Терпеливая забота о Вовке связала их странным чувством родительской пары. – Что будем делать дальше? Пойдем спать? Или ты хочешь поговорить?
– Если честно, то я уже и сама не знаю, чего хочу. Просто все это очень тяжело… Вообще-то я тут ужасно замерзла, – неожиданно добавила она.
Только теперь Фурман заметил, что Нателлу трясет – все это время она стояла у окна в одной рубашке. Он суетливо заставил ее набросить на плечи его свитер и побежал за чем-нибудь теплым.
Когда он вернулся, Нателла смотрела в окно на сказочный зимний пейзаж: неправдоподобно огромный, низко висящий лунный шар ярким потусторонним светом заливал гладко укрытое снегом озеро и нежные прибрежные возвышенности с уходящей к горизонту плотной нервной графикой елового леса. Лежащие на полу тени от оконной рамы были четкими и контрастными, как в солнечный полдень.
Нателле вроде бы стало получше, но добиться от нее объяснения того, что произошло с Вовкой, Фурману удалось не сразу. Она сказала, что все это непосредственно затрагивает личную жизнь некоторых других людей, а она сама просто оказалась, как говорится, в неудачном месте и в неудачное время: Вовке было необходимо кому-то «поплакаться в жилетку», и она позволила ему это сделать. Хотя сам «градус» его напряжения и озлобленности оказался для нее неожиданным. Вовку, конечно, жалко, ему сейчас очень трудно. Но на самом деле проблема вовсе не в нем. Он здесь скорее жертва…
– Понимаешь, мне даже неудобно тебе об этом рассказывать. И я до сих пор для себя не решила, надо ли вообще об этом говорить, и можно ли… И как, какими словами… Я боюсь, что это может вызвать у тебя неприятие или даже отвращение к тем людям, которые здесь замешаны. А это совсем не то, чего мне бы хотелось. Но в любом случае все это должно остаться строго между нами.
Ты знаешь, я впервые в жизни столкнулась с такой сложной ситуацией. И я только сейчас поняла, что мне самой очень нужен чей-то совет, потому что я уже не знаю, что мне делать и как себя вести…
В конце концов Нателла решилась произнести: у Данилова-старшего есть любовница. Фурман удивился и даже слегка рассердился – и это все? То есть в этом, конечно, нет ничего хорошего, но ведь вообще-то в жизни такое случается довольно часто. Из-за чего же столько переживаний? Однако это было еще не все. Роман завязался внутри «Товарища», и избранница руководителя клуба оказалась (заслуженно или нет, уже не важно) в роли «фаворитки» – на этом сборе она была комиссаром. Нателла смущенно призналась, что о подобных вещах она раньше читала только в исторических книжках о жизни царей и императоров. Некоторое время отношения удавалось держать в относительной тайне, но недавно Вовка каким-то образом об этом узнал и, естественно, пришел в дикую ярость. Поскольку он не мог ни поделиться с кем-то своими переживаниями, ни удерживать их в себе, рано или поздно должен был произойти взрыв. О девушке, носившей комиссарскую буденновку, Нателла уклончиво сказала, что человек она непростой. Будучи не слишком опытным комиссаром, она пытается лично контролировать порученную другим работу, вникает во все детали и часто проявляет излишнюю принципиальность в мелочах. Собственно, из-за этого все и случилось. Сегодня днем она сделала Вовке замечание по какому-то пустячному поводу, и парень взбунтовался – при всех грубо наорал на нее. А она в ответ тоже не сдержалась. Хотя, если честно, и ее можно понять, потому что у мальчишки характер тот еще. В общем, нашла коса на камень…
– А хуже всего то, – запальчиво сказала Нателла, – что эта история у Данилова – далеко не первая. Когда именно все это началось и как он дошел до такой жизни, я, конечно, не знаю – да и никто, наверное, об этом не знает, кроме него самого. Но мне абсолютно точно известно, что эта цепочка тянется в прошлое… Ну вот, теперь ты знаешь все наши секреты.
Фурман только головой покачал. Надо же, везде одно и то же. С ума они все посходили, что ли? Просто какая-то эпидемия на сексуальной почве…
– Не знаю, утешит ли тебя это, но я тоже могу поделиться с тобой одной нехорошей тайной.
– Ой, мамочки! – весело содрогнулась Нателла. – Может, уже хватит на сегодня? А то я скоро в обморок упаду от всех этих «нехороших» тайн…
– Нет уж, тебе придется потерпеть. Потому что в нашем клубе точно такие же проблемы, как у вас, но только у обоих руководителей.
– Подожди, я что-то не понимаю… Как это может быть? – Нателла широко раскрыла глаза.
Фурман начал объяснять, но от внезапно открывшегося ужаса обоих охватил совершенно гомерический, неостановимый, наизнанку выворачивающий хохот…
Когда судороги наконец утихли, они, обессилено держась за животы, уставились в окно. Луна за это время успела переплыть к лесу. В безветренном воздухе медленно, словно на ниточках, опускались редкие крупные снежинки, и с этим простым движением вид стал глубже и еще чудеснее. А главное, ничто в нем не напоминало о существовании людей. Их здесь как будто никогда и не было. И казалось, что могучая воля зимы с легкостью покроет все, что посмеет ей противостоять, все перемелет, сотрет все случайные следы, и в мире останутся только эти гладкие, алмазно поблескивающие белые волны с застывшими черными узорными гребнями…
Оттуда, издалека – как бы глазами зимы – Фурман бросил пронизывающий обратный взгляд на «свое» темное окошко, различив за тонкой стеклянной преградой два чуть теплых, прерывисто вздыхающих комочка, которые в своей жалкой печали были бесконечно чужеродны всей этой великой победительной тишине и красоте мира – заблудившиеся инопланетные детеныши, преданные своими взрослыми…
Нателла поежилась. Фурман спросил, не холодно ли ей, она кивнула, и он осторожно обнял ее за плечи одной рукой. Нателла устало и доверчиво прислонилась к нему, и некоторое время они стояли перед окном, тихо обнявшись и глядя на падающий снег.
Для Фурмана это было частью зимнего чуда, бесценным простодушным подарком, означавшим, что он прощен. Ответом на такую доброту могла быть только немедленно отданная жизнь, и он с радостным изумлением ощущал в себе вращение каких-то тяжелых колес, перенастраивающих, словно куранты, механизм его судьбы. Оставалось лишь удивляться тому, как он мог еще совсем недавно тоскливо мечтать о Наде и делать на встречу с ней такие безумные ставки. Конечно, причиной этой пустой игры воображения было одиночество. Проклятое одиночество! Но ведь именно оно привело его к этому волшебному окну, где внезапно выплеснувшие наружу чужие темные страсти, тайные признания, беспомощное сочувствие и благодарность перевернули все его жалкие расчеты… Столько всего произошло в эту ночь…
– Не хочется уходить отсюда, но мне надо хотя бы пару часов поспать. А то я утром не смогу подняться, – сказала Нателла.
Спустя полминуты Фурман спросил: «Ну что, пойдем?» – и мягко убрал руку с ее плеча.
Когда они, держась за руки, тихонько вошли в душную отрядную комнату, он сразу решил передвинуть свою раскладушку вплотную к кровати Нателлы. Наверно, это было неправильно и непедагогично по отношению к остальным членам отряда, да и сама Нателла, поняв, что он хочет сделать, как-то испуганно покачала головой, но невозможность дотронуться до нее казалась ему сейчас нестерпимой. Он боялся, что происшедшее с ним чудо исчезнет. А все остальное можно будет как-нибудь пережить.
Нателла – видимо, от усталости – легла прямо в одежде, и он тоже не стал раздеваться. Приподнявшись на своем скрипучем ложе, он коснулся ее лица и волос, а потом – чувствуя, что это уже совершенно лишнее, – осторожно провел рукой по груди. Ему стало стыдно: он же не вор, надо дать ей хоть немного отдохнуть. Достаточно и ее руки. Казалось, Нателла уже спала, но ее пальцы слегка шевельнулись в ответ…
Утреннюю зарядку они позволили себе пропустить. Конечно, это было плохим примером для младших (не говоря уже о ночной перестановке мебели), но в отряде нашлись деликатные люди, которые взяли руководство на себя и быстренько выгнали всех недоумевающих из комнаты.
Лишние десять минут условного сна на общую мучительную ситуацию не повлияли. К счастью, никаких важных дел на этот день не планировалось, а поскольку с самого утра за окнами все призывно сверкало на солнце, главным событием стала короткая лыжная прогулка по непроходимо заснеженным окрестностям, с последующей оргией валяния в сугробах, веселой и жестокой игрой в снежки, угощением друг друга сосульками, возведением крепости и прочими простыми зимними радостями детей и собак.
На следующий – уже предотъездный – лагерный день фурмановский отряд дежурил по кухне, а на вечер был назначен традиционный коммунарский «откровенный разговор». (Данилов в лагере так и не появился – может, и к лучшему.)
После ужина из столовой вынесли столы и стулья, и все расселись на полу на матрасах и спальниках, оставив в центре небольшой пустой круг с несколькими зажженными свечами. Ход этого волнующего и в то же время необыкновенно занудного ритуала был знаком Фурману по летнему лагерю, и он легко мог делить свое внимание между говорившими, чьи лица освещались передаваемой по кругу свечкой, тесно сбившейся и иронически перешептывающейся компанией «своих людей» и молча сидящей рядом Нателлой.
В основном все повторяли друг за другом стандартный набор благоглупостей; поменять неудобную позу или вытянуть затекшие ноги можно было, лишь заставив подвинуться сразу нескольких соседей, воздух в помещении становился все тяжелее, – и на третьем часу многие начали отрубаться. Поначалу еще можно было посмеиваться над тем, как кто-то бессильно клюет носом или печально похрапывает, но силы сопротивляться дремоте у всех катастрофически таяли.
В какой-то момент Нателла сказала, что ей надо пойти «подышать», но от сопровождения отказалась. Она довольно долго не возвращалась, и именно в это время мирное течение «откровенного разговора» неожиданно нарушилось. Одна из старших девчонок (в летнем лагере она была завхозом, или «жмотом», как называли эту должность в «Товарище»), получив свечку и уверенным голосом выдав порцию простительно неумных и весьма условно «практичных» оценок, объявила, что хочет добавить еще кое-что – по ее словам, очень важное и касающееся не только того, что происходило в лагере, но и судьбы клуба вообще. То ли на третий, то ли на четвертый день, сказала она, я вдруг поймала в себе какое-то давно забытое тревожное ощущение. Сначала я не могла понять, откуда оно взялось, а потом догадалась: просто на меня опять пахнуло пресловутым «духом “Алого паруса”», от которого мы столько натерпелись прошлым летом. (Фурман замер с мгновенно запылавшими ушами.) Те, кто был с нами в Видлице, поймут, о чем я говорю. Тогда нам с большим трудом удалось справиться с этой заразной болезнью, но сейчас ее симптомы появились снова. Обычными стали вызывающие нарушения дисциплины, причем даже со стороны вроде бы вполне ответственных людей (это она про Нателлу и про зарядку, стыдливо догадался Фурман); неподчинение старшим порой доходит до прямых публичных оскорблений (а это про Вовку) – такого безобразия в «Товарище», кажется, еще никогда не случалось, мы – первые, хотя гордиться тут нечем; на общих делах теперь постоянно слышен смех, даже когда речь идет о чем-то серьезном, а во время отрядных обсуждений звучат такие вещи, в частности о комсомоле, которые «молодым» лучше бы вообще не слышать… Ладно, долго перечислять не буду, хотя могла бы. Все это мы однажды уже проходили и, надеюсь, извлекли из этого правильные уроки. И мы никому не позволим разрушать наши традиции.
После ее слов в зале повисло растерянное молчание. Смотреть друг другу в глаза никто не мог, поэтому все взгляды были прикованы к подрагивающим язычкам свечного пламени. Наконец девушка-комиссар, нервно прочистив горло, произнесла какие-то дежурные примирительные фразы и передала слово следующему по кругу.
Хотя Фурман ужасно расстроился и разволновался, ему было ясно, что жанр «откровенного разговора» не предполагает никаких споров или дискуссий. Конечно, очень странно, что столь серьезные обвинения скрывались до последнего момента и были вынесены сразу на общий сбор, а не на обсуждение, например, Большого совета, который собирался в конце каждого дня и в который Фурман входил на правах взрослого «старшего друга». Но там о «пресловутом духе “Алого паруса”» речи ни разу не было. (Формулировка, кстати, чеканная. Жалко, Мариничева ее не слышала.) И Фурману все только улыбались…
Когда вернувшейся Нателле пересказали прозвучавшие обвинения, она с веселым удивлением сказала: «Да? Ну-ну! Хорошо, что меня при этом не было», – а потом посоветовала Фурману не переживать и просто не обращать внимания на словесные выпады рьяной защитницы «товарищеских» традиций, которая на самом деле уже давно не участвует ни в каких клубных делах и появляется только от случая к случаю.
Между тем томительный ритуал продолжался, и Тяхти, фотограф Вася, Вовка Данилов и еще кто-то, когда наступила их очередь говорить, дипломатично (Вовку, правда, пришлось пару раз пихать в бок) выразили свое несогласие с высказанными ранее жесткими оценками. Для «другой стороны» такая реакция, похоже, была вполне ожидаемой. У Фурмана было время подумать перед своим выступлением, и он решил не обострять ситуацию. Его сильно огорчило открытие, что в «Товарище» идет какая-то нехорошая подковерная борьба: тайные «фракции» вербуют себе сторонников, засылают к «противнику» информаторов, устраивают публичные провокации и вообще занимаются черт знает чем. И это происходит с коммунарами! Беда…
Но теперь рядом была Нателла, и все остальное можно было отодвинуть.
В Петрозаводске Нателла без лишних слов оставила Фурмана у себя (ее старшая сестра уступила ему свою комнату, хотя Риф отнесся к этим переменам с недоверием и всю ночь караулил нового, подозрительно ласкового к нему постояльца). Обратного билета в Москву у Фурмана не было, причин торопиться с возвращением – тоже, новогодние каникулы еще продолжались, и два следующих дня пролетели в угарном послесборовском общении, в которое легко втягивались и те «товарищи», которые по каким-то причинам не ездили на «зимовку» («Как? А разве тебя там с нами не было?..»). Фурман со многими успел познакомиться и даже подружиться, хотя глаза его во время любого разговора то и дело искали Нателлу. На улице она всегда брала его за руку (впрочем, в «Товарище» все так ходили, по-детски держась «за ручки»), но остаться вдвоем им удавалось, только когда они ночью выгуливали Рифа в длинном пустом парке на набережной. И каждый раз это заставало их врасплох. Чувствуя неловкость, они как заведенные продолжали свою шутливую дневную пикировку, становившуюся все более острой и даже обидной, или настороженно молчали, вслушиваясь в жесткое поскрипывание снега под подошвами и задумчиво выдыхая пар в морозный воздух.
В какой-то момент Нателла вышла на работу, потом и у всех остальных начались учеба и прочие будничные занятия, и Фурман оказался в каком-то странном подвешенном положении – задержавшийся гость в чужом городе, застывший влюбленный, потерявший свое место в жизни… Пожалуй, ревнивая подозрительность Нателлиного пса была вполне оправданна. Но разве мог Фурман теперь вот так просто взять и уехать от его хозяйки?
Работала Нателла недалеко от дома, в центральном адресном столе милиции. У нее был какой-то сложный график, и одной из тихих радостей Фурмана стало ходить около полуночи к мрачному гранитному зданию городского УВД, вокруг которого в этот поздний час кипела экзотически тревожная жизнь, и ждать, иногда подолгу, когда тяжелые «государственные» двери в очередной раз медленно приоткроются – и вдруг появится она. Она! Но с серым от усталости лицом, тусклым озабоченным взглядом и кривой усмешкой на губах в ответ на прощальную грубоватую шутку вышедшего вместе с ней плечистого «коллеги» в штатском. Если Нателла была одна, они могли на миг с утешительной нежностью прижаться друг к другу. Задерживаться было нельзя – дома ждал Риф, и через несколько минут они уже поднимались по лестнице на высокий пятый этаж, брали возбужденно поскуливающего пса и шли на набережную. А там между ними снова возникала какая-то глупая и злая стена, которую невозможно было преодолеть ни неуклюжими зимними объятиями, ни поцелуями до потери дыхания.
Чтобы разрушить эту крепнущую стену, Фурман решил прекратить свои постоянные подкалывания и поддразнивания и начал серьезно расспрашивать Нателлу о ее жизни, отношениях в семье и о том, что она собирается делать дальше. Он ведь ничего о ней не знал! Оказалось, что с домашними у Нателлы все совсем не так гладко, как Фурману представлялось в его благодарном ослеплении, и ее главным желанием было уехать из дома, лучше всего куда-нибудь в деревню, поближе к природе, – а работать с детьми, как она хотела, можно везде. Фурману все это странным образом напомнило Борины мечты и его неудачную «попытку к бегству» на Камчатку. Он хорошо знал, что отговаривать человека на этой стадии бесполезно – только поссоришься с ним. Что ж, его самого тоже вроде бы ничего не держало ни в том городе, ни в этом, и он легко вообразил себе их уединенную жизнь где-то в зимней глуши, в маленькой закопченной избушке: Нателла работает в местном детском саду или в школе пионервожатой и вся в заботах о своих запущенных воспитанниках, а он – сторож, грузчик, почтальон, без разницы, по утрам колет на снегу дрова, топит печь (кстати, придется всему этому научиться), а по ночам, когда усталая любимая засыпает, садится писать при мерцающем свете керосиновой лампы или свечи; в крохотном заросшем окошке виден тонкий месяц, и плотную космическую тишину время от времени нарушает лишь отрывистый лай соседских собак или доносящийся откуда-то издалека тоскливый волчий вой… А уж летом-то там, наверное, как хорошо, или осенью. Конечно, ему будет не с кем поговорить о книгах и о литературе, но тут уж ничего не поделаешь. Да ведь это не навсегда, рано или поздно они вернутся, и, возможно, за время вынужденного молчания он даже правильнее, глубже созреет как писатель. Немного тревожило его лишь одно: сумеет ли он справиться с неожиданно овладевающим Нателлой огненным упрямством? Хватит ли его любви и терпения, чтобы удержать ее, не вступая при этом в бессмысленные и безжалостные споры? Интересно, а у него самого есть что-то такое, на чем он стал бы настаивать до последнего – даже рискуя потерять ее? Пожалуй, это только его мечта о писании. Хотя и от нее, наверное, можно было бы отказаться. Но ведь тогда он окажется никем. И все рассыпется…
В первые дни, пока Нателла была на службе, забота о Фурмане, его перемещениях и кормлении перепоручалась верной Тяхти или кому-нибудь из добровольцев, ненадолго освободившихся от своих дел. Но вскоре он уже и сам стал ориентироваться в центральной части города и с удовольствием устремлялся к назначенному месту очередной дружеской встречи или просто гулял по заснеженным улицам, глазея по сторонам.
Он чувствовал себя необыкновенно счастливым: в чудесной чаще зимы, в этом неспешно живущем, уютном северном городе, в просторной, очень просто и скромно обставленной квартире с полами из крашеных досок, из окна кухни которой через всегда открытую форточку в ясный день было видно огромное поле укрытого снегом озера и два маленьких темных острова в верхнем правом углу рамки… Счастьем был и новый круг поразительно доброжелательных к нему сверстников. Но все это счастье было лишь случайным фоном непрерывно ощущаемого им присутствия медноволосой девушки с карими глазами и золотисто-пепельной кожей. Это ощущение почти не зависело от того, была ли она рядом или отодвигалась, скрывалась за непрозрачными перегородками, удалялась (он плохо понимал зачем, ради чего). Из-за того что он совершенно выпал из общего будничного хода времени, любое разделяющее их расстояние стало восприниматься им как расставание, и его тело с готовностью откликнулось на этот постоянно переживаемый разрыв такой же постоянной легкой тянущей болью чуть пониже солнечного сплетения. Даже одежда (а ее всегда было слишком много) ощущалась как боль. Терпимая, вполне терпимая.
Самым странным было то, что они почти ничего не говорили друг другу. Либо ожесточенно спорили по любому поводу, либо молча целовались на морозе холодными губами, вдруг проникая в их горячую влажную изнанку, – у обоих текло из носа, вместо слов вырывалось дыхание, и другие глаза были близко-близко, перед тем как дрогнуть и закрыться…
Лишь однажды, когда они, оба ужасно замерзшие, торопливо возвращались откуда-то в темноте, Нателла, не глядя на Фурмана, не сбавляя шага и слегка задыхаясь на ходу, произнесла: «Знаешь, сейчас у меня есть только одно желание. Больше всего на свете я хотела бы оказаться с тобой вдвоем в какой-нибудь теплой пустой комнате. И чтобы про нас все забыли». Он покрепче сжал ее варежку своей ледышкой в перчатке, и они побежали дальше – до ее подъезда было уже совсем недалеко. Такой комнаты, где они могли бы остаться вдвоем, в мире не было.
Они уже сидели на кухне, обхватив ладонями горячие чашки, – и вдруг он в мгновенной панике едва сумел сдержать накатившие слезы. Это было настолько неожиданно, пугающе и нелепо, что он тут же чуть не засмеялся. Господи, да что же это со мной происходит?! Совсем с ума сошел… Ему еще повезло, что сидевшая рядом сестра Нателлы – черноволосая, хмурая и довольно резкая на язык девушка по имени Цирико – как раз в этот момент встала, чтобы прикрыть форточку, и повернулась к нему спиной. «Нателкин кавалер» ни с того ни с сего расплакался как ребенок – вот было бы смеху!
«Саня, с тобой все в порядке?» – встревожено спросила Нателла. Страдальчески сощурив глаза, в которых еще гроздьями висели дурацкие слезы, он аккуратно опустил полную чашку на стол и успокоительно покивал. Черт, куда подевался платок?
Эта постыдная плаксивость, безусловно, говорила о каком-то опасном глубинном повреждении его духа. Но что с этим делать и как защититься, он не знал.
Шла вторая неделя жизни Фурмана в Петрозаводске. Он уже вполне автономно поддерживал дружеское общение со многими «товарищами». Между тем в самом клубе затевались какие-то новые дела, требовавшие активного участия Нателлы, и в этой суете она стала как-то незаметно ускользать от него. На поверхности вроде бы ничего не происходило, но все так складывалось, что они уже несколько дней подряд виделись только поздно вечером за чаем у нее на кухне, да и то в присутствии сестры. Даже от их короткого уединения после работы она сумела уклониться, «из чисто практических соображений» предложив Цирико сопровождать Фурмана и заодно выгулять Рифа. Послушное следование этой новой схеме оставило у всех исполнителей какой-то печальный осадок. Пришлось Фурману, использовав «военную хитрость», подловить Нателлу днем, прямо на улице, когда она куда-то бодро направилась по делам, и по дороге попытаться выяснить, что за всем этим стоит. Но серьезного разговора не получилось. Не удалось даже проводить ее дальше автобусной остановки. Правда, Нателла пообещала уделить ему свое драгоценное внимание и как-нибудь вечером сходить погулять с ним и с Рифом на набережную, как прежде.
И такая прогулка действительно состоялась. Фурман очень старался не передавить, ведь Нателла пошла ему навстречу. И вообще, он просто хотел понять, что у нее на душе, и помочь как друг, если, конечно, ей нужна помощь. Он терпеливо, на разные лады убеждал в этом свою упорно молчавшую и отводившую глаза подругу, и наконец вроде бы убедил: она начала подыскивать слова, чтобы объяснить – «хотя бы самой себе», – что же в ней сейчас не так (то есть она это признавала!), что изменилось. Но то, на что она указывала, Фурману очень не понравилось – возможно, потому, что не имело никакого отношения к нему и его любви к ней. Слушая знакомые песни о якобы абсолютном непонимании со стороны окружающих (в глаза ему она по-прежнему не могла смотреть) и о необходимости в ближайшее время принять какое-то «свободное и самостоятельное решение», «уехать куда-нибудь подальше», Фурман сначала расстроился, а потом стал все больше злиться. Все это было не то, не о том. Так говорили все, это было общим местом, юношеской пошлостью. По большому счету, это можно было даже назвать враньем. Во всяком случае, с ее душой происходило совсем не это. Почему она ни разу не сказала, что любит его? Извини, но мне кажется, ты юлишь, жестко сказал он. Ты хочешь уехать из города? Так давай уедем вместе. Я готов это сделать. И я очень хочу, чтобы мы были вместе. А чего хочешь ты, только по правде? Она смутилась и даже слегка покраснела: твои слова для меня неожиданность, если честно, я не готова тебе ответить, мне надо еще немного подумать…» В общем, они хоть и не рассорились окончательно, но оба остались огорченными, обиженными и разочарованными. Не примирил их и поцелуй, на котором Фурман настоял и который получился слишком «техничным» (если не злым).
Ночью он впервые подумал, не пора ли ему возвращаться домой.
Было еще светло. Заскочив в подъезд и придержав дверь, чтоб не хлопнула, Фурман радостно побежал вверх по лестнице и примерно посередине наткнулся на спускающуюся Нателлу. На вопрос, куда она идет и надолго ли, Нателла ответила загадочно и с какой-то очень нехорошей грустной ухмылкой. Вообще-то она говорила, что сегодня будет дома, и он на это рассчитывал. Что ж, иногда планы меняются. А все-таки, куда это она собралась? Секрет. И когда оттуда вернется? Не знает. Но точно нескоро. Слово за слово, игра приняла рискованный, почти скандальный характер. Изображая бесстыжего дворового хулигана, нагло пристающего к соседке, Фурман загородил дорогу и стал требовать ясного ответа. Скажи куда – и все, я тебя отпущу! А ты уверен, что действительно хочешь это узнать, спросила она с горьким вызовом…
«У меня появился другой человек». Так, неприятно поразился Фурман, и кто же он, этот «другой человек»? Выяснилось, что неделю назад она «совершенно случайно» столкнулась где-то со своим предыдущим ухажером (из «трудных» подростков, то есть самым настоящим, а не карнавальным хулиганом) и они снова стали встречаться. Выходит, все это время у нее шла какая-то параллельная тайная жизнь… Теперь многое стало понятно. (Интересно, знал ли об этом кто-нибудь еще, например Тяхти?) Конечно, надо было отпустить бедную девушку туда, где ей было лучше, но на прощанье Фурман все же захотел узнать, почему ей лучше «там». То есть почему с ним – хуже. «Потому что у нас с тобой все началось грязно», – в отчаянии бросила она. «Ах вот оно что. А с ним у тебя, значит, всё чисто? – с машинальной обидой ответил он. Было уже не важно, что еще она скажет. – Ладно, все, пока».
Она ушла, а он, постояв несколько секунд и поняв краем сознания, что немедленно должен куда-то двигаться, целенаправленно шевелиться, иначе ужас полностью овладеет им и вырвется наружу, – на подгибающихся ногах поднялся к ней домой, что-то успокоительно наврал Цире по поводу своего бледного вида, взял оставшиеся деньги и поплелся на вокзал. Увы, оказалось, что в кассе есть билеты только на завтрашний вечерний поезд, без вариантов.
Впереди у Фурмана были целые сутки. «Грязь, грязь, грязь, – яростно шумело и билось в его голове, – я грязен, а она чиста…»
Парус
Отдельная запись Фурмана на листах, вырванных из белого блокнота
9 января, Петрозаводск
За окном прилепилась белесая морозная плесень, в которой близко-далеко лучатся и расплываются холодные шарики огней. Или вдруг налетит черная метель леса, и нескончаемо долго поскрипывает и топочет в ней ровным привычным перестуком невидимый, но ощущаемый во всю длину поезд, который хранит в душной, тесной коробке меня и Новый год. Поезд несет меня, несет из родного, но больного города в другой – любимый, где живут любимые люди: много людей. Сзади остались тоже любимые, но не любящие. Люди в любимом городе занимаются Делом, а последние полгода я чистил себя под воспоминаниями об их лицах, глазах… И теперь предстоит не вспомнить, а увидеть их. Как странно – или страшно? – звучит: снова стать честным. Освободиться от постоянного чувства недосказанности, фальши в отношениях даже с самыми близкими. Возможно ли это вообще – сбросить свою верхнюю, всю в шрамах и ушибах кожу, оставшись в последней тонюсенькой шкурке, которая лишь чуть-чуть прикрывает сердце и мысли…
Распахнув глаза, смотрю в окно на медленно надвигающийся город, ищу и узнаю знакомые дома, деревья. «Вот я здесь», – шепчу, ступив на белое плечо платформы, и вдыхаю белый воздух, которым дышат друзья…
Люда Лукашова – Фурману
2 февраля, Петрозаводск
…Ты знаешь, вчера на работе сидела, и вдруг шальная мысль – ты никуда не уехал. И так поверила в это, что, выходя на улицу, приняла какую-то белую шапку за твою, но… А потом ехала в автобусе, из окна увидела ближе человека в белой шапке и улыбнулась себе и была благодарна ему. А он шел, ни о чем не подозревая, вот так!
Приедешь?
Фурман – Люде Лукашовой
Начало февраля, Москва
…Шапку – мою верную белую шапку с косой полоской на лбу, как у красногвардейца, только в другую сторону, и с дыркой, прогрызенной Рифом, – ее отдали в ремонт и чистку до 8 февраля! Будто бы ей нужен этот ремонт! И чистка! Химическая!!!
О-ох, как я устал…
НАМ НАДО БЫТЬ МУЖЕСТВЕННЫМИ И СИЛЬНЫМИ, или хотя бы говорить короткими, вескими фразами и пить-пить-пить, словно мы хемингуэйские герои. Перечел почти весь его двухтомник и люблю рассказ «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера»…
Скоро меня заберут в армию.
УЖ ОНА-ТО ВЫБЬЕТ ИЗ … ВСЮ ДУРЬ!
ГНУСАВЫЙ ГОЛОС: не ездь.
не ездий.
не ехай.
не надо.
«В маленьком зеркале глаза, губы, иногда руки у глаз и губ. И пальцы – пожалуй, самое правдивое из того, что есть в зеркале: если они и трясутся, то совершенно, исключительно незаметно, поверьте.
Ничего не написал. Ну ладно…
А там – вечера в чужой комнате у чужих людей. Зимой рано темнеет. И столовые. Денежные расчеты. И стыдно просить у ХОЗЯЙКИ чай, сахар, ложечку. Работа-прописка-выписка-военкоматы-учеты-устройства. Друг, в лучшем случае два (подлец – ты или я – как к себе обращаться?), которым можно через день поныть и посетовать на дрянную жизнь. Душные попытки развеселить товарищей на средах… и так далее».
Вот как просто стать грязным. И даже то, что вывод из всего вышесказанного один – «вышка», не оправдывает ни одного слова. И кавычек тоже. Теперь об этом хватит. Стыд. Но…
Хотя говорили-говорили о том, чего мне не хватает, чтобы остаться, но здесь уж совсем ничего не хватает, но все хватает за руки и за ноги и тащит в «пучину морскую», а ведь не рыба же я ХЕК. Как только вернут шапку, хочу обратно…
Вчера, в бурном разговоре с папой и мамой на эту животрепещущую тему, мною было сказано след. – е: а именно: я сказал:
«Моя главная цель в жизни – это выжить».
Недоуменные взгляды. Но продолжаю:
«Да. Это главная цель всех и каждого, кого бросают в жизнь. Только мне, в отличие от животного, сделать это намного сложнее, потому что меня не только могут съесть на каждом шагу, но я еще и сам могу себя убить. Этим человек отличается от животных – он может покончить жизнь самоубийством».
Я еще много всего сказал. И еще кто-то сказал, а я потом повторил и повторил (боюсь сказать «повторяю»):
«КАЖДОМУ СВОЕ».
Все это есть правда и объективная реальность, за исключением моральных, нравственных, орфографических и прочих ошибок, а остальное верно.
Признаюсь, что писал все это, с первой до последней строчки, не по своей вине выпимши и накурившись, хотя не употребляю ни того ни другого в быту и личной жизни. С мокрыми местами иду спать.
Это уже на следующий день.
Много чего обязан был бы написать; да и сомневаюсь, нужно ли отправлять такие путаные послания: их лучше уничтожать или хранить в темных местах.
Но пусть будет «каждому свое».
Фурман – Марине Логиновой
6–7 февраля, Москва
Нет, просто Добрый Друг.
Давно уже: годы ли, месяцы – мечтаю я рассказать Тебе о чем-то. Есть особое чувство, желание приблизиться к человеку, в общем-то мало до того известному, но в котором предполагаешь, тайно лелея в себе, массу и даже погибель разнообразнейших и прекрасных достоинств и качеств. Приятно и бодряще жить, проходя сквозь великие и малые беды и невзгоды, неся в своей закопченной свечным огнем впалой и узкой груди крепкую, счастливую мысль о существовании, пусть в нчи и полдне тоскливого пути, такого живого человека; коий, быть может, и не догадывается о твоих этих и подобных мечтаниях и фантазиях… Тем более радостно растить в себе такое чувство в наше холодное и весьма печальное и трудное для проявления его, этого чувства, время, когда люди – не разумеющие молодые и обезумевшие старики – в который раз за эту полную прискорбных ошибок Историю предпочитают грубость, злобность, обман и жестокосердие – осознанному добру и… впрочем, что нам толковать о сих вещах – без толку. Вспомним лучше о вещах, по возможности не внушающих негодных уныний – а полных задушевности и тайной радостной нежности (Ты не относишься предосудительно к этому слову?)…
…Сейчас я каждую ночь шлю – точнее, только пишу – письма, длинные и глупые. Дело за малым – нет ответов.
Так хочется видеть всех вас, далеких, рядом…
Может, плохо и неправильно так спрашивать, но что у тебя с «Товарищем», с ребятами?
Даже если есть что сказать об этом и обо всем, и хочется, – тебе не придется, наверное, слать письмо в Москву, потому что я твердо уверен, что скоро приеду в Город и останусь по крайней мере до лета. Или нет? О-ох…
Фурман – без адресата
Начало февраля, Москва
Вот уже третью ночь я остаюсь один перед листом и говорю с людьми, которых я люблю и которых здесь нет.
В эту ночь я зажег свечу.
Я еще не знаю, с кем буду говорить сегодня, и родные лица близко придвигаются к глазам. После вчерашнего письма я почувствовал, что не могу не встретить вас, мои товарищи, ночью: сейчас, и завтра, и в другие ночи. Это стало для меня необходимостью…
Свеча горит плохо, но попробую быть откровенным до… не хочу писать «конца» – а до чего? До того, пока говорится.
Из всех людей я хочу быть только с вами. Вообразив, что вас нет, я кончаюсь, мои мысли и желания обрываются, я не могу и не хочу существовать.
Зажгу свет и буду говорить «ты», так ближе, а свечка гаснет, как ни старайся. Выходит совсем не такое письмо, о котором думал. Наверное, на третий раз надо молчать. И сейчас пробежала мысль: и на все остальные тоже надо было. Плохо. Или вместе петь в темноте.
Мысли разворачиваются, уходят, а писать боюсь. Кто ты?!! Почти все, о ком я думаю, говоря «вы»…
не знаю, не знаю как сказать, чтобы… понять?
Ты поймешь смотри
Нателка, Людка, Таня, Лариска, Вовка, Ирка, Людка Минина, Маринка Логинова
Что это? Или просто так много… вас – ведь один Вовка
ТЫ ПОНИМАЕШЬ? ТЫ ПОНЯЛА, ЧТО Я ПОДУМАЛ
Я сошел с ума, да? Я ненормальный, так?
или дурак и осел
Ближе вас, да – вас всех – у меня нет, никого
А кто вы мне – все – сестры? Я псих?
Я же не могу не имею права с этим к вам!
Я говорю: Ты поняла?
Вопрос себе: я в грязи или это глупость. До конца!!!
Фурман – Люде Лукашовой
10 февраля, Москва
…Получено писем от вас всех – одно – Твое, про белые шапки и незнакомых дядек. По прочтении его я и начал писать письма каждую ночь. Для меня уже стало обязательным выдумывать вас и говорить с вами, когда все вокруг ложатся спать.
Письмо тебе помню очень плохо, но все, что там было сказано, писано в минуты страшной слабости. Причины ее такие: в Москву я уехал от Нателки, думая по приезде сесть за работу и написать одну мысль. Начать я смог на третий день, но за следующие 6 дней ничего не сделал; по этому поводу впал в депрессивное состояние, так как понял, что ничего написать и не смогу. Вернуться в Город я рассчитывал «человеком с положением», что оправдывало бы такое относительно противоестественное нахождение мое вне служб и институтов. При сделанной работе я бы спокойно поступил на любую службу и место. Ошибка совершенно банальная и типичная: писать, конечно, хотелось, и кое-что было в замысле, но еще больше хотелось того самого «положения». Виновата моя глупая ГОРДЫНЯ. Я стал писать для «славы», а не для чести, что делать запрещено строжайше… Поганое состояние с погаными мыслями длилось чуть больше одного дня, я его быстро преодолел. Но успел-таки написать Тебе проклятое письмо… Хуже всего было, когда я заперся в ванной, включил громко воду и, глядя в зеркало, начал злобно и фальшиво врать себе в глаза, что нет у меня ничего за душой – ни друзей, ни любви к кому бы то ни было, ни писания, ни желаний, ни надежды. Причем знал, что лгу, – поэтому быстро справился и выкинул грязь.
Как здорово, что у меня есть вы. В этот раз – наверно, можно сказать – ВЫЖИЛ только из-за вас. Ваше существование – доказательство реальности всего радостного и честного в мире. Видишь, какую силу вы, товарищи люди, имеете. И надо мной – заставили меня жить дальше после неправды, беды и грязи. Сейчас все, или многое, хорошо. Только никак не уеду отсюда. Но до 18-го (среды) точно буду. Срочно нужна квартира и работа. Первое время буду жить у Напповской мамы…
Теперь о нашей ссоре с Нателлой в последний день. Сейчас я многое переоценил и исправил (в себе только, к сожалению) в том, что случилось и произошло, – написал какую-то нескладную и глупую фразу… Ну ладно. Прости, конечно, за это «ну ладно» – просто время уже полтретьего ночи. Нет, нельзя все равно. Сейчас я думаю, что в главном вел себя с Нателкой неверно и нечестно – когда мы с ней поссорились. Ты, кстати, этому содействовала своими поддакиваниями мне. Меня теперь тошнит при воспоминании о ншем последнем выяснении отношений. А наши «принципиальные» споры на общественные темы: Нателка скрывала от себя, что хочет ссориться и обзываться, а я, как вспоминаю, сознательно заставлял ее ругаться, чтобы вскрыть ее ложь, и еще даже наслаждался этим как подтверждением своей объективности и справедливости. Фу, какая пакость. Я ведь чувствовал тогда, перед ее уходом, что делаю плохо, но только усмехался холодно, глядя на ее застывшее в гримасе лицо и невидящие глаза. Получилось подлое издевательство: видя ее состояние и понимая его, я дразнил и дразнил ее, делая так, что она выглядела еще хуже и неприятнее на фоне моей чистоты, спокойствия и правдивости светлой идеи, которую я защищал. И после этого еще у вас устало и доверительно справлялся, как учитель, все ли вам было понятно в этом спектакле. Ну и гадость.
После драки кулаками не машут, а что делать. Вот приеду, и буду все строить и строить со всеми…
Люда Лукашова – Фурману