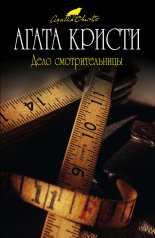Кирза и лира Вишневский Владислав
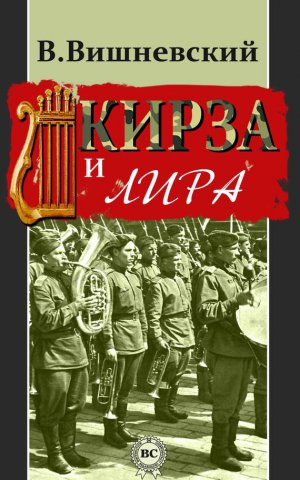
А всё равно попадаются, но только молодые и редко салаги. Молодые чаще потому, как не выдерживают нагрузок, сопляки ещё. Салаги, например, те уже учёные, уже осторожные. Они уже знают: «чё почём, и чё в мешках!», в смысле знают, когда можно нарушать, и как. А старики, дембеля, вообще никогда. Не потому, конечно, что уже умеют в противогазе бегать или терпенья хватает, нет, а потому, как их на ученьях-то уже и нет вовсе. Они, как и сегодня, все уже давно загасились, кто — где.
Одни накануне тревоги заступили в наряд — кто по части, кто по роте, кто в столовую. Более ловкие, медицинские освобождения взяли по причине вдруг высокой температуры, сильных натёртостей ног, острых болей в желудке. Кое кто даже залёг в санчасть на полном каком-то основании. И правильно, чего уродоваться, когда дембель-то уже вот он, рядом! Пусть уж молодые теперь и салаги стараются. Им это нужно, у них ещё вся служба — о-го-го ещё где! Как в песне: «Всё еще впереди…», вся еще впереди!
Другие, как я, например, музыкант, но старик-дембель, все же попали на последние в нашей службе учения, но я, в этот раз, загасился в качестве трубача-сигнальщика. Нет, я не духовик, не трубач, но к третьему году службы, загодя, от нечего делать, освоил это нехитрое дело, и теперь, как матрос на мачте в бочке, сижу на сигнальной вышке ищу глазами землю, в смысле жду следующих одна за другой, команд. Дудю, дужу, дудею или как там правильно сказать? Короче, сигналы подаю. В начале: «Внимание! Слушайте все!». Потом, «Огонь!» или «Отбой!», в разной последовательности.
А вид отсюда, с вышки, открывается — мама родная! — закачаешься. Самый раз песни петь и стихи рассказывать: Мне сверху видно всё, ты так и знай!..
Видно отсюда действительно всё так здорово, и так отлично, как даже командующему учений из своего командного пункта не видно. А потому, что моя-то вышка наполовину выше командирской, если не больше. Я, как тот орёл в гнезде, зорко оглядываю поле битвы там внизу… Передо мной, как на ладони, всё поле учений в развернутом, перепаханном виде…
- Поле, русское по-о-о-оле
- Светит луна-а или падает сне-ег…
Нет, про луну и снег, это сейчас не в масть, не в ту степь, называется. Но поле, пусть и перепахано, бедное, нами всё напрочь, на миллион рядов и никогда и ничего уже, наверное, не родит, кроме нас — стойких защитников Родины и великих её полководцев, естественно, но всё равно, даже этот замученный клочок природы меня, например, вдохновляет. Если, конечно, вот так вот, смотреть на всё это сверху, с вышки. Главным образом вдохновляет потому, что я уже дембель. Дембель! Понимаете? Де-м-бе-ль! Почти свободная птица. Если бы не так, ползал бы я сейчас, как те молодые и салаги, там в низу. Причем, на брюхе. Но, это, слава богу, уже пройденный этап. Лучше всё же смотреть вверх и вдаль. Вверх и вдаль. Конечно, помня, что там внизу. Вернее, не забывая об этом.
Как всё же хорошо на природе!.. Йеэх-х!.. Кр-расота!
Чистый, вольный воздух и манящий вдаль простор завораживают, притягивают. Взлететь бы сейчас вверх над всем этим пьянящим раздольем… Легко и свободно зависнуть, широко раскинув крылья над землей, над всем этим великолепием — как вот эти счастливые птицы… Парить, парить вместе с ними!.. Взлетать, взлетать… Подниматься всё выше, выше… и… Улететь бы отсюда, к херам, куда подальше. Домой! Домой! Домой!.. Как же эта долбанная солдатская неволя надоела, кто б знал! Эх!..
А там, внизу, на уровне солдатских сапог, если глянуть, никакой поэзии, одна проза. Одних гоняют по лужам, другие в это время, как черепахи высоко задрав голову над панцирем, ползают по грязи, третьи стреляют по хлипким мишеням, четвертые бьют болванками из РГД по макету танка, пятые бросают учебные гранаты…
Кстати, я тут не один в гнезде. Тут ещё один орел есть. Такой же орёл, как и я, только от связистов. Мы с ним, с моим корешем, тоже дембелем, и тоже тёзкой, хорошо видим всё, что сейчас делается там, внизу. Видим, как наши БМПэшки, грязные все — поросята и те чище! — сначала стащили с дороги полевые кухни, поставили их в кустики, к лесочку, ближе к речке, чтоб посуду, значит, после еды далеко не таскать, мыть быстрее. Еда… О! Не вовремя, чёрт, выскочила. Еда — больная тема, лучше бы её сейчас не затрагивать… в желудке сразу бурлить начинает.
Жрать хочется, братцы… и домой! Жрать — всегда, домой — немедленно! Нет в службе никакой ни патетики, ни патриотики, нет! И никакого долга!.. Потому она и обязательная… Какой дурак — добровольно! — захочет всё это терпеть!.. Что вы! А так… Призвали!.. И на, тебе, молодой, мордой об патетику!.. А не понравилось — заставим! А убежишь — «турма». Неволя, в общем. Причём, почти голодная. Да!.. Сейчас бы… Эх!.. Ладно, у нас уже дембель! Дем-бель!
Куда бы мы с Пашкой, тёзкой орлом-связистом, не смотрели сверху, а глаза всё одно — сами собой — к полевым кухням возвращаются. Рефлекс такой. Не машут ли нам черпаками-разводягами: «Идите ребята кушать! Садитесь жрать, пожалуйста!» А вот действительно, почему это так притягивает, а? Никто не скажет… Загадка века? Молодой организм… изьм, коммунизьм… онанизьм… империокрити… цизьм.
Короче, хочется, чтобы кашевары скорее жрать готовили. По времени, так давно бы уже пора нас накормить. Давно пора. Чего они так долго возятся?.. Нет, вижу сверху, там ребят подгонять не надо, молодцы, «поварёшки», уже вовсю суетятся. Они тоже сегодня свои нормативы сдают, тоже, наверное, стараются. Значит, скоро что-то вкусное лопать будем. Как всё же трубы кашеварок призывно дымят, красиво так, как у паровозов! А запах… Нет, запах сюда долетает другой… Не скажу какой, но точно где-то рядом свинарник всеми своими тухлыми дырками в атмосферу дышит — это точно. Ффу, ты, погань какая!.. Но аппетиту это не вредит, хоть в тот свинарник нас посади…
Вдруг мой тезка встрепенулся, встряхнул головой, получив в наушник какую-то очередную команду. «Дудеть, что ли будем?» — одними глазами спрашиваю. «Наверное», — тоже одними глазами подтверждает тёзка, продолжая слушать…
А я пока наблюдаю сверху, как авторота, например, серые закорючки, согнувшись, спотыкаясь, развернувшись неровной цепью, в атаку идёт… А часть из них, под руководством размахивающих руками механиков, под раскоряченными машинами, лежа на спине, туда-сюда под ними лазают, ремонтируют что-то. Вижу, как санчасть зачёты сдает — пункт приема раненых разворачивает. Ага, думаю, пока эти медбратья по такой грязи тебя, раненого, донесут до санчасти, в лучшем случае просто в грязи и утопят… Весь полк здесь на огромном полигоне, вижу, запросто уместился, расползся, занял разные боевые позиции по участкам, и отрабатывает свои штатные нормативы.
Нас на вышке двое: я, трубач, и солдат-связист, тоже старший сержант, и тоже дембель — Пашка Синицын из Нижнего Новгорода. Курим, болтаем, наблюдаем за военными действиями учебного порядка. Вспоминаем, как сами, когда-то — давно уже — тоже, как те салаги и молодые, ползали здесь на брюхе… Х-ха, и не раз ползали! Небрежно сплевываем с вышки.
В общем-то, если откровенно, всё это действо, там, внизу, не вдохновляет. Не серьезно это, по детски, больше на игрушки похоже, на детсад. Действительно, большой взрослый детский сад только со «взрослой» техникой, оружием и даже боевыми патронами. Игры! Баловство! И вся служба там, и учёба, происходят нехотя, через силу, из-под палки, с соплями и со слезами. В армии постоянно одна треть солдат вообще ещё ничего не умеет, вторая, только-только понимать начинает, а третья часть, уже ничего не делает, в окно на дорогу смотрит, сачкует. Отсюда и результаты. Как не рисуй отчёты, а детсад — есть детсад. «Молодых» натаскиваем — пыль в глаза, патроны на ветер.
И глядя на наш полигон, совсем не вериться, что эта вот орава пацанов, в военной форме, может запросто победить любого врага. Уменьем победить! Уменьем, не чем иным!! Про число можно не говорить, этого у нас «добра» полно. За пару дней, военспецы говорят, всю страну могут под ружье поставить, любые амбразуры ими заткнуть. Это уже было, это мы проходили. Столько людей тогда бездарно, говорят, положили в той Великой Отечественной войне, в голове не укладывается. Миллионы!! Жалко, конечно, людей, очень жалко. Одного человека жалко, а тут, шутка ли — десятки миллионов! Кошмар!! Пусть и за Родину, да, но не такой же ценой, люди! И не правильно говорят, что Победа все спишет. Не всё она спишет. Вернее, не всем она спишет. С кого-то и спросится, должно спроситься… В принципе, и хрен бы сейчас с бездарными генералиссимусами, да лже-патриотами, главное, чтоб урок из всего был извлечен. Настоящий урок, чтоб без повторений ошибок, чтоб всё потом было грамотно, профессионально. Каждым словом дорожа, каждым шагом, каждой жизнью. Во имя памяти павших… Так бы вот всё надо.
Столько уж лет прошло, вроде уже и должны бы научится, а на деле уменья так и не видно. Разве что на словах. О, тут у нас порядок, полный ажур. Мы, срочники, это хорошо видим! Уменья нет. Нет его, и не будет. Это не радует. Грустно это.
Армия… Армия… Армия!
А к дембелю, в полку вообще стало грустно. Очень грустно!
Генка Иванов опять в отпуске. Теперь у него отец нашёлся. Почему опять? Да потому, что в прошлом году, тоже летом, у него вдруг мать нашлась. Он же у нас с детства детдомовский — ни отца, ни матери. Уехал. Всем полком тогда за него радовались. Съездил Генка — десять суток не считая дороги — вернулся, не опоздал. Довольный. Нам подарки-сувениры привез — хорошо отпраздновали. Тогда, ночью, часа в два, меня разбудил дневальный:
— Товарищ старший сержант, вас срочно в штаб вызывают. Звонили!
— Какой штаб, ты чё, молодой?
— Так точно, товарищ старший сержант, в штаб. Сказали, чтоб бегом!
— А который час?
— Два часа ночи… уже.
— Ааа, два часа! — Доходит до меня, мы ж договаривались, вспоминаю. Сую ноги в сапоги, и, как был в трусах и майке, не умываясь, топаю в штаб. «Молодой» дневальный от удивления выпучив глаза, смотрит на мой внешний вид, пытаясь понять, как это так легко и здорово живется дембелям, если они по вызову в штаб, вот так вот, запросто могут ходить не по форме, не одеваясь, в одних трусах (?!) Вот это лафа, вот это жизнь-малина! Эх, откровенно вздыхает дневальный, дожить бы до такого!
А мы, на кухне, в подсобке, пили «чачу» за Генкино возвращение и ели жареное мясо без гарнира с остро наперчённой приправой, заедали все это виноградом, «дамские пальчики» называется. Не помню, как и до койки меня дотащили, сильно опьянел с непривычки. «Чача» очень уж крепкой оказалась. Теперь вот, Генка снова уехал. На этот раз — отец нашелся. Всем ансамблем, плюс оркестр, за него радовались. Счастливый Генка и в этот раз добился невозможного, пробил себе в Политотделе внеочередной отпуск, уехал знакомиться с отцом — святое дело! Ждём теперь. Дня через два, по нашим подсчетам, если всё нормально, должен уже и вернуться. Ждать устали. Интересно, что на этот раз Генка вкусненького нам привезет, а? Ждём, короче.
А тут и эти ученья — не было печали — подвернулись, с выездом и развёртыванием… Последние, для нас, дембелей.
Правда наши дембеля музыканты, как и другие в ротах, все в полку остались, никто не поехали на учения. Артур загасился со своим эпидермисом, с грибком на обеих ногах. Где-то в душевой, говорит — хитрюга! — подхватил. С гримасой боли на лице ходит сейчас в пляжных тапочках, жутко воняет мазью, демонстрирует всем свои больные ласты: «Грибок, смотрите, падла!» Ну, это у нас случается! Как пить дать. Я по своей учебке очень хорошо эту пакость помню: поганая штука, если запустишь. Валька Филиппов, валторнист-гитарист, остался дежурить по оркестру со справкой-освобождением. Зуб у него удалили — не пожалел. Опухоль, говорит, может получиться, нельзя ехать, потому как температура. Врачи и справку дали, чтоб не застудил.
Я поехал потому, что во-первых, из стариков-музыкантов больше некому, и потому, что на ученьях обязательно нужен сигнальщик. Только потому и торчу сейчас здесь, на этой вышке, а все молодые, наши музыканты, там внизу: И Мишка Кротов, и Фомушкин Венька, и Колька Бодров, и Артак Давтян. Все молодые там. С первой ротой нормативы сдают, с капитаном Коно… Коноваловым. Кстати, ему снова присвоили капитана, во-второй или третий раз. В роте праздник был. О, ещё какой!! А чуть дальше, вижу, отдельно ото всех, в стороне, собрали сверхсрочников со всего полка — и наши музыканты-сверхсрочники там. Сейчас они, выстроившись, строят друг другу глазки… Сверкают круглыми очами противогазов. Месят грязь, парятся, бедолаги, зачёты свои сверхсрочнические сдают. Ничего-ничего, пусть потренируются, им полезно жирок растрясти. Они деньги с пайковыми за службу родине получают, не то что мы, срочники.
— Слышь, тезка, — толкает меня связист, прерывая дремотные наблюдения. — Что-то у нас там случилось! Какое-то ЧП — коновалы засуетились. В автороте, говорят, травма.
— Какая травма? Где? — Поворачиваюсь в ту сторону, ищу глазами. Пока наблюдал за сверхсрочниками, пропустил какой-то важный момент. — Что там? Где?
— Там, — показывает рукой в сторону загорающих в ремонте машин, — слева, которая с разбитой мордой. Видишь, толпа?
— Ну!
— Там, что-то. Погоди… — морщится, прислушиваясь к бормотанию в наушниках. Потом, глядя на меня выпученным, остановившимся взглядом, удивленно подняв брови, качает головой.
— Ну… ну! — тороплю связиста. — Что там, Пашка? С кем? Придавило что ли?
— Сейчас, подожди… О-о! Ни хрена себе! — ошалело вращая глазами, присвистнул связист. — У кого-то, говорят… ранение!.. в грудь! — с ужасом смотрит на меня. — Ранение!
— Какое ранение, ты что? Откуда? Срикошетило что ли? Да нет, не должно!.. — Я же вижу где находится полигон для стрельбы, а где ремонтники кувыркаются. Пуля, хоть она и дура, но она не только должна пролететь точно в обратном направлении, но и обогнуть кучу деревьев, пролететь над поляной, нырнуть в овражек, облететь пригорок, повернуть к тем трем машинам, и… — Нет, не может быть — это исключено. Это не с полигона. А как же тогда? А у кого? Да что там случилось? — Волнуюсь, видя, как от палатки санчасти, беззвучно хлопая на ходу дверцами, уже рвётся санитарка-уазик, а с другой стороны поля, от палатки командующего газуют, разбрасывая длинные грязные хвосты сразу три «четыреста шестьдесят девятых». Командиры летят.
— Конкретно… ничего не говорят. — Отрицательно качая головой, докладывает Пашка-связист.
— Может нечаянно кто бабахнул…
— А может, опять самострел, а? — гадает тёзка.
— Ты что, дурак? Чего тут в себя-то стрелять?
— Дурак не дурак, а доведут, бля, и не такое в запале сделаешь.
На это возражать нечего, тут всё понятно. Такое уже бывало. Нам и раньше, на политзанятиях, несколько раз уже зачитывали сводки таких вот происшествий по нашим войскам. Да я и сам, иногда, помню — и я ли один — ловил себя на мысли, особенно в начале службы: «Сейчас бы, падла, автомат в руки, да рассчитаться бы сполна за все унижения!» Такая злость от безысходности порой накатывала, — кто б знал! Но как-то обошлось. Только морды-лиц, как говорится, друг другу иногда расквашивали. А тут… Опять?
Прижался ухом к Пашкиному наушнику, но видимо опоздал, связь вдруг, прервалась. Ага, режим секретности…
— Отключились. Во, тёзка, называется, дожили мы с тобой до дембеля… Ранение! В полку такого вроде и не было, да?
— В нашем, я не слыхал.
В районе тех грузовиков столпились и солдаты, и сверхсрочники, есть и офицеры. Стоят, машут руками, крутят головами, заслоняя собой что-то находящееся перед ними. Наверное, тот раненый там… Первой, конечно, подскочила санитарка, она ближе всех была. От нее, на ходу выскакивая, побежали медики в халатах с чемоданчиком, двое вытаскивают носилки.
— Слушай, что-то серьезное. Жаль бинокля нет!
— Вот тебе, на хрен, и настоящая боевая вводная! Не то, что эти размазня-учения.
— Да, всё в натуре…
Сейчас бы сбегать туда, но мы на посту, без разрешения нельзя. Да и там, на месте, уже полно, уже не протолкнуться. Сверху-то, пожалуй и лучше будет… А вот и командирские УАЗики, соревнуясь, подскочили.
Мгновенно, от их команд, наверное, всех солдат как ветром сдуло, офицеров тоже. Остались только санитары, несколько ремонтников, они в тёмных комбинезонах, сверхсрочники, и три офицера. И срочник… Он, склонив голову, сложившись пополам сидит на земле, маленький такой, жалкий, прислонившись спиной к переднему колесу машины. Над ним склонились, то и дело собой загораживая, что-то там делая, медики. Вот они потянули его вперёд, вытягивая за ноги и перехватывая под руки, переложили на носилки. Рядом топчутся подъехавшие на уазиках офицеры. Один, — командир полка, и другой, наверное, из дивизии, нервно размахивают руками на остальных присутствующих офицеров. Все они стоят развернувшись к тем, которые в комбинезонах… Вздрючивают, наверное! Ага!.. Правильно! Хотя, хрен ли сейчас вздрючивать, уже поздно.
Медбратья, тяжело подняв, раскачиваясь и утопая в грязи, с трудом потащили носилки к машине. Раненого парня видно не было, его заслонял идущий рядом врач. Загрузив носилки в машину, медики быстро запрыгнули в неё, хлопнули дверцами, и она, жужжа и завывая, медленно поползла через поле в сторону шоссе. Ага, в госпиталь значит повезли. Действительно, видать, дело дрянь. Кто же это такой? Что там случилось?
— Пашка, всё, гуди отбой. — Передавая появившуюся команду, толкает меня тёзка. — Канэц вайна, жрать малэнька пуза нада! — Связист весело смеется шутке. — Глянь, кашевары уже и белые куртки надели, значит, они уже отстрелялись, готово. — Гуди, давай, гуди быстрее!
Это запросто. Облизываю губы, прижимаю мундштук к губам. Губы с непривычки опухли, болят, позорно киксанул даже в начале. Скосив глаза вниз, понимаю, музыканты-сверхсрочники точно теперь ехидничать будут. Но сигнал «Бери ложку, бери хлеб…» отдудел нормально. Получилось точно, а, главное, громко. Оглядываю поле, все слышали, нет? Отбой, пацаны, бегом к кухням.
— Семьдесят четвертый, семьдесят четвертый, я семьдесят девятый… Разрешите пост с вышки снять? Да, так точно, с музыкантом, с горнистом!.. Есть! — Сбрасывает на шею наушники, собирая своё снаряжение, весело толкает. — Разрешили, Пашка. Ну её, войну эту, дурацкую, на хрен! Валим отсюда вниз. Жрать… жрать… Скорее жрать!
— Автомат не забудь. — Ехидно замечаю.
— Ну дык, не первый раз замужем. Так привык, так привык, уже и спать без него не ложуся. — Подкидывая задом висящую на поясе амуницию, вихляя бедрами, балуется Пашка-связист.
— Он что, сдурел?
— Вот, бля, дурак! И зачем это?..
— Зачем, зачем… Задолбали, говорят, в автороте прапора. Взъелись на него чё та.
— Ну и что? У нас тоже такие, как начнут, падла, права качать…
— Да, они везде одинаковые. Выдрючиваются только.
— Да нет, мужики, я слышал, там всё из-за девчонки, из-за бабы.
— Какой, на хер, из-за девчонки, он в полку-то всего ничего — полгода. Какая у него может быть тут баба?
— Не тут, а там, на гражданке.
— Ну, и что? Из-за этого себя ножом тыкать?.. Он что, дурак, что ли? Чего народ смешить?
— Правильно, если из-за каждой бабы себя резать, места не хватит. Я вот, на гражданке…
— Отхлынь ты… со своей гражданкой. Мы не о тебе, трепач, говорим.
— Кто трепач? Я трепач?
— Отстань, тебе говорят. Ну и что, что там было-то?..
— Мужики, а что за нож у него был? Штык-нож, что ли? Кто, пацаны, слышал?
— Ну да, штык нож!.. Ты что? Им слона можно завалить. Какой-то, говорят, складной.
— Складной! Ну, это херня.
— Ничего себе, херня… Ткнул-то в сердце.
— Прямо-прямо в сердце?
— Ага. Говорят, проникающее ранение в область сердца, но ребро чуть скривило.
— Скривило… ребро! Повезло пацану! Выживет, нет?
— Если довезут… Вон, как тут авторота классно утром елозила…
Шкрябая ложками по мискам и солдатским котелкам, уминая рисовую кашу с тушенкой, запивая сладким чаем, сидим, обсуждаем случившееся ЧП. Сидим, как и в полку: повзводно, по отделениям, но по приятельским группам. Роба у всех мокрая и грязная, в позах вялость и расслабленность, но глаза горят, движения ещё резкие и порывистые. Сказывается прошедшее напряжение. Хотя каша вкусная, и с маслом, и с мясом — кашевары, молодцы, постарались — но мысли у всех заняты другим. Все уже знают, в полку серьёзное ЧП. Но это не самострел, хотя, какая разница — так, или иначе — ножом себя, молодой, пацан из автороты ткнул. Сам — себя!.. Прямо в сердце!
— Отчаянный парень.
— Да-к доеб… я же говорю, и не то сделаешь.
— Слабак он.
— Сам слабак.
— А кто это? Что за пацан?
— Молодой какой-то, водила. То ли Васильев, то ли Савельев. Кажись, Савельев… Вроде да, Савельев. Это у пацанов в автороте можно узнать.
— Нет, всё равно, я бы так не смог. Я бы скорее наоборот, я бы их зацепил…
— Ага, зацепишь… Их вон сколько. В момент под трибунал залетишь, под вышку.
— Это влёгкую.
— На них руку нельзя поднимать…
— А на нас можно, да?
— Да-к, то на нас…
— Вот я и говорю, слышь, мужики, можете верить, можете нет, но сверхсрочники говорили, его не прапора в роте достали, а какое-то письмо он с гражданки получил, не хорошее. Вот и расстроился. Они говорят, что он, наверное, псих какой-то.
— А ты и поверил… Я же говорю, прицепятся, и ты психом станешь!
— А что?.. Вон, меня тоже, наш Семёныч, старший прапор, однажды, этой весной достал. Доколупался до меня в ружпарке, я тогда внеочередной наряд там отрабатывал, ротный наказал — красил там всё. Стоит рядом и доё… — почему, говорит, долбоёб, медленно красишь, а почему сейчас неровно, а зачем капаешь, а почему не стараешься? А вот здесь, ну-ка, перекрась, а вот здесь у тебя, мудак, видишь, течёт… Еще и оскорбляет, падла! Ну, достал он меня, на-хуй-бля, короче. А я, наверное, угорел там в этой краске, терпел, терпел, а потом, у меня внутри как взорвётся всё, как вспыхнет. Хватаю, на-хуй-бля, первый попавшийся автомат, благо двери ружпарка были открыты, раз его с предохранителя, щёлк затвором… Убью, ору, на-хуй-бля, заебал, падла! Он, верите, нет, побелел весь, и дристанул от меня. Как ветром его из ружпарка сдуло. Сразу, говорю, свалил. Я маленько посидел, на-хуй-бля успокоился, отошел. Ну, думаю, всё, засадят меня теперь в тюрьму… Нет, гляжу, ничего — тишина. Пронесло вроде, всё в порядке. Теперь Семены со мной как шёлковый, — видели, да? Стороной обходит.
— Тебе повезло, что вы там одни тогда были, без свидетелей.
— Да, наверное.
— Цепляться ко всему, власть показать, это они умеют. Это их, и сержантский состав, мёдом не корми. Мы же без прав.
— Какие права, на-хуй-бля, чисто рабы.
— Мы не рабы! Рабы не…
— Ага! Букварь вспомнил? А кто же мы тогда, а?
— Мы — солдаты.
— Кто? Мы — солдаты? Какие мы на хер солдаты?! Ни стрелять нормально, ни по тревоге выехать. Гля, как на полигон позорно въехали, вояки, хреновы. Стыдуха одна, а не армия.
— Успокойся. Ты чё? Нормально въехали.
— Ни чё… Стыдно потому что. Хорошо что учения… а если б по настоящему… а? Кто б тут живым остался?
— Если б по-настоящему?..
— Наверно никто!
— То-то, что никто. А кому это надо?.. Матери его, моей?.. Родине?..
— Да ладно вы, мужики, успокойтесь. Чё так раздухарились? Еще услышат. Да и кто на нас войной-то пойдет, по настоящему-то, кто? Кто ж, осмелится? Мы ж, вон, какая большая страна. Больше четырёхсот миллионов нас. И ракеты у нас… Космос…
— Не в этом дело, не в миллионах и космосе… В Китае, например, уже давно за миллиард, а ракеты у всех есть, а если нет, так будут. Просто, мы здесь хернёй занимаемся, а не учимся. Разве не видно? В пустую прожигаем время своё и деньги народные. Вот и вся наша служба.
— Ну, тебя разнесло сегодня… Ты чё, Пашка? Еще что ли каши подбросить? Не наелся, да? Кончай, дембель, давление поднимать, итак хреново.
— Не разнесло, не разнесло. Пацана этого, молодого, жалко… и мать его. Она же узнает… Я только по своей представил — мне уже плохо. Моя, что случится, не переживет. Я один у нее. Каково ей одной потом жить?!
— Ооо, мать, конечно, расстроится… Это да! Любая. Для матери это… удар, как пить дать. Да и для отца тоже.
— Зря тот пацан, зря.
— Достали, точно достали… Только, так вот он, зря.
— Конечно, зря.
— Да нет, я же говорю, никто его не доставал. Письмо он какое-то получил… Я сам слышал. Он психованный, говорят.
— Ага, а ты и поверил. Так они тебе и сознаются. Всё на него и свалят, вот увидишь.
«Чашки, ложки помыть, пять минут перекур, через десять минут построение». — Звучит громкая команда.
Яркое, горячее солнце, с усилием раздвигая облака, с трудом все же пробивается, и с укоризной заглядывает вниз, на землю.
«Ты посмотри!.. Ну, ты посмотри, что они тут без меня опять понавытворяли, а? Ох уж мне эти облака! Ох уж мне эта мокрота тёмная… Ну что ты будешь с ними делать? Всегда так, как только вместе сойдутся, так из-за них, проказников, что-нибудь там, внизу, да в темноте нехорошее обязательно и произойдет. Ни на минуту их нельзя одних оставить, ни на минуту. И этот ветер тоже, неслух, понимаешь… Вместо того, чтобы разогнать их быстренько, безобразников, в разные стороны, не дать им вместе собраться, мешать им, он наоборот, потворствует облакам. Соберёт — эти темные силы вместе и радуется, хулиган, а они и рады стараться. А как только отвечать, фьють его, ветра-то, и нету, испарился он, проказник. Ох, подождите вы у меня! Ох, доберусь я до вас, ох, доберусь!.. Вон, как всё не хорошо там, внизу, у человеков-то, без меня, получилось. Ай-яй-яй!»
Да! Действительно: ай-яй-яй!
Армия, армия, армия…
60. Да всё абгэмахт, товарищи!
Ничего и не ай-яй-яй. Всё в порядке. Всё в норме, всё в армейских нормативах. И молодых поднатаскали, салаг встряхнули-подтянули, и сверхсрочников протрясли, и офицеры добротно на пленэре проветрились, покомандовали себе, размялись, что называется. Нормально всё. Только вот промокли все сильно, в грязи как чушки вымазались, да ещё, это вот ЧП. А так всё нормально, ученье, как ученье. Не зимой же, правильно, — не помёрзли. А о том солдате, который себя ножом ткнул, недели две-три, вообще «сверху» ни слуху, ни духу. Как и небыло ЧП. Потом уж, правда, от медбратьев, прошёл слушок, что всё в порядке, мол, «выжил тот парень-то, помните, да? Операцию ему удачно сделали. Повезло. В рубашке родился. Скользнул нож от ребра. Задел, но не повредил сердечную сумку». Вот как — задел сумку, но не повредил. А ведь мог и зацепить нож, мог, но, к счастью, не зацепил. Бывает, оказывается, и такое. Ну и ладно, что не зацепил, пусть живёт себе.
К тому же, на очередном отчетном комсомольском собрании полка выяснилось: «Небывалый случай! Медиками зафиксирован тревожный случай психического отклонения у одного из наших солдат, хвост проблем которого, оказывается, остался там, на гражданке, а не возник у нас в полку, как многие, наверное, подумали». Хотя секретарь и медики и не уточнили о ком идет речь, мы сразу поняли кто это. «…Случай, конечно, печальный, — продолжает читать по бумажке секретарь комитета комсомола части, кандидат в члены КПСС срочник старший сержант Белобородов, — безусловно портящий собой ряд достойных показателей в нашем армейском социалистическом соревновании, но, к счастью, правда не существенный, так как корни его не наши, не армейские. Псих он был не явный, не активный, а скрытный, внешне и не заметный. А вот, достаточно, оказалось, небольшой магнитной бури, на солнце. Кстати, официально зафиксированный факт, и справка соответствующая прилагается, товарищи, — и всё, готов человек, поехала крыша. Хорошо что так вот получилось с ним, а не иначе. Но всё уже нормально, всё позади. И чтобы уж окончательно поставить точку, докладываю вам, товарищи, он уже изолирован, вернее, комиссован из армии вчистую, совсем. Домой он уехал, потому что статья такая есть». Потом, секретарь, всё больше и больше воодушевляясь, говорил о привычном, о нашей готовности следовать курсу, намеченному великим очередным, двадцать… следующим съездом КПСС, и др., и пр… И пр., и др…
«Домой он уехал… — размышляли мы в это время. — Вот это да!»
Оживленно потом обсуждали эту проблему: в курилке, в койках, кто — где. Серьёзная тема, как оказалось. Старики, например, за себя, я знаю, уже не беспокоились, если за почти три года крыша ни у кого из нас не поехала, теперь уже точно не уедет… Не должна вроде. Разве от радости, если раньше вдруг дембельнут. А вот салаг и молодых, оказывается, нужно опасаться. Внешне они вроде и не заметны, эти отклонения, а вот ежели какая магнитная буря неожиданно вспыхнет, на солнце там или на луне вдруг, и всё, хана тебе, или полку, и на дембель не уедешь. Короче, единогласно решили старики, держаться от них, всех, молодых и салаг, как можно дальше. Даже дальше, чем дальше. В отдалении оно и не пахнет… И второе. Как выяснилось, никто и не знал, что есть такая комиссующая статья, при которой, оказывается, можно сразу уехать домой, вчистую. Даже на первом году!.. Только, очень важно, чтобы ТА сумка была задета, но не повреждена… Может даже и не задета, а чтоб очень рядом, но чтоб не повреждена. Не повреждена?! Тут был полный… тупик. Такое жесткое условие вышибало, как замыкание «плюса» с «минусом». В таком действии ничтожные миллиметры с микронами отделяют жизнь от… А если дрогнет рука?! А если простое землетрясение в это время рядом случится… совсем-совсем случайно. Что тогда? Как тут всё рассчитаешь? Никак. Вот же ж чёрт, до молодых бы не дошло! Не дотумкали бы, придурки… Начнут ещё с тоски на себе или на других тренироваться! Да… Не было печали!..
Армия… Армия… Армия!..
61. Дембельские страдания
Служба в полку, меж тем шла своим чередом. Молодежь и салаги периодически бегали по учебной тревоге; где-то ползали; везде, где можно-нужно-ненужно — топали строевым шагом; как мартовские коты отчаянно горланили утром и вечером положенные в строю песни: «У солда-та вы-ход-ной, пуг-говицы в ряд…»; несли (тащили) службу из наряда в наряд и обратно; терпели выходки ротного и копирующих его сержантов; дремали на занятиях, мечтали о дополнительном пайке хлеба, бегали в самоволки, стоически боролись с разного рода локальными и общего вида болячками на своем теле и внутри него; силой кулака втихаря утверждались в курилке, в туалете, в Ленкомнате, в любом другом месте, где застанет необходимая мордобойная ситуация; грезили о свободе, доме, увольнительных, доступных и недоступных девушках, письмах, и прочем невозможном.
Рутина. Обычные дела. Армия!
Только старики, замерев в ожидании своего дембеля, сохли как саксаулы в ожидании очередного жаркого суховея, как древние аксакалы в ожидании наступления вселенской мудрости, замерли дембеля, в ожидании своего долгожданного дембельского приказа. Они жили в другом измерении. Они ещё были здесь, но их как бы уже и не было вовсе. Для них — все знали — всё теперь зависит от каких-то неуправляемых штабных бумажных случайностей. Каждый день мог быть уже последним для них или предпоследним. Только поэтому, каждое новое утро у дембелей начиналось с тревожного вопроса к писарю: «Ну что там? Как? Когда?..» «Давно уже все ваши документы на подписи. Вы ж знаете», — нервно сообщал молоденький писарь, и норовил быстренько слинять из под обстрела. Его, не менее нервно, даже угрожающе, придерживали за рукав: «Ты смотри там, салага, двигай, давай, наши бумажки куда надо, не то…» Писарь дёргался, сверкал глазками, получал по шее. А что он ещё мог для дембелей сделать, что? Была б его воля, он бы давно уже всё сам подписал, и себе в том числе, себе бы, может, и раньше даже.
Ситуация с дембелями в полку назрела, вызрела, уже и перезрела, как затянувшиеся роды. Смотреть на них было жалко, и терпеть невмоготу. Дембеля, если уж откровенно, давно всех достали, читалось на лицах нетерпеливых салаг, быстрее бы уж уехали. Вот уедут — ой, скорее бы! — произойдет естественная и долгожданная смена времён, смена власти в ротах, в полку. Салаги станут стариками, перейдут в ранг неприкасаемых, молодые — салагами, на вновь прибывших ездить начнут. Салаги вздохнут! Выдохнут! Красота-а-а! В армии так каждый год. Как смена дня и ночи, как приход зимы и лета. Но есть ещё и хмурое утро, есть и тяжёлый, муторный вечер, которые надо ещё как-то пережить. А уж потом… наступит малина. Наступит, наступит. Дембель неизбежен. Это любой солдат знает. И офицеры знают, и прапорщики — все. Так что, главное, всё это перетерпеть или приноровиться… Всё как в природе, всё своим чередом. Так и в армии.
А действительно, что ещё в полку старикам было делать? Ими всё уже было выполнено: долг Родине отдан, временная дистанция, день за днем, год за годом, пройдена, смена воспитана — вон, какая, падла, шустрая бегает по казарме, только отпусти!.. Всё что нужно было достичь здесь — достигнуто, что нужно было съесть — съедено, грудь стала колесом, хэбэшка от распирающих грудных мышц по швам трещит, при том, вся в ярких армейских значках, пальцем ткнуть некуда. Можно бы и на спину, но, там почему-то не принято. Да и спереди понятней, кто есть кто. Мозг сверлит одна мысль: скорее бы домой! Только домой! Домой! Домой! На гражданку, на волю. К свободе, к возможности беспредельно располагать собой и своим временем, своими поступками, своими желаниями. Эх!!
И костюм… О, костюм! Гражданский костюм, цивильный, уже куплен за целых сто восемнадцать рублей, уже приготовлен, уже ждет!.. Деньги? Хм, конечно из дома. Разве ж тут накопишь, на солдатских-то деньгах, пусть и сержантских. Слезы, можно сказать это, не деньги. Из дома, конечно, от матери. Она, молодец, ждала, скопила… По блату костюм и куплен здесь, строго в специальном магазине «Для новобрачных». Там официально только для них, для новобрачных, если справка из ЗАГСа есть и, конечно, для дембелей — но это строго неофициально. Дембелям даже охотнее продают. Советуют и дают на выбор, во как! А в другом месте и не достать таких. Голяк потому что везде. Еще и рычат продавщицы, как пантеры: «Чего-о-о? Импортный костюм он захотел! Ишь ты, какой шустрый!.. Нету я говорю таких, нет и не было… А я при чем? Вот ещё…Что я тебе, рожу его что ли!» Ну, конечно, нужна она была, гундявая такая, со своими родами. Да пусть себе рычат, работа у продавщиц, наверное, такая.
Но костюм достался — повезло! — сказка! Темно-серый в черную полоску. Красивый, слов нет!.. Любовно и аккуратно уже подогнан в полковой швейной мастерской. Ночью, под завистливые взгляды салаг, бывшим учеником знаменитого, говорят, где-то там, на гражданке, столичного закройщика с какой-то еврейской фамилией. Это пофиг, главное, чтоб костюм хорошо сидел. А он действительно сидит как влитой. «Молодец, салага, тем концом руки вставлены… Молоток!» Салага, и по виду, и по фамилии чисто еврей — Кершенгольц, счастливо цветет радужной улыбкой от результатов своей работы и от похвалы дембеля. Это дорогого стоит, это как солдату неожиданно пять рублей на полу найти… да нет, даже больше, чем пять — сто! И пара белых рубашек под галстук куплена к нему. Рубашки — «цымус», только воротник чуть-чуть какой-то непривычный, но, всё равно здорово! Даже шикарно, если уж говорить правду. И туфли… Черные, невероятно блестящие, как в ружейной смазке. «Цэбо» называются. Импортные, значит, ждут в картонной коробке… И носки! Да, и носки. Носки — это вообще что-то запредельное… после привычных портянок. Тонкие, легкие, нежные на ноге носки. Светлые, с затейливым рисунком, с пружинистой резинкой вверху. Облегают ногу словно «так и було». Эх…
Туфли блестящие натянешь… без брюк, без брюк — зачем раньше времени мять? — только в трусах и носках, и примериваешься к ним. К походке, к обуви. «А я иду шугаюсь по Москве, а я пройти еще смогу!..» Туда — сюда пройдёшься, напевая, по каптёрке. Ты, сам, и присутствующие какие дембеля и, естественно, братаны-салаги, просто стонут от восторга и восхищения… И зависти, конечно! Красота! Да-а-а! Слов нет!
— Паш, дай примерить, дай!
— Н-на, примерь.
— И мне…
— И мне…
Грохот сбрасываемых в разные стороны сапог, натужное кряхтенье, и… нежное притопывание об пол… «Да!.. — Тяжкий восхищенный стон. — Да, Паша, красота! Класс, туфли у тебя, ни чё не скажешь! Удобно-то как, мужики, бля! Я уже и забыл».
— Ну-ка, дай мне подержать!.. Ух, ты!..
— Да-а, кл-ла-асс, чуваки!
— Точно!..
Те туфли, с солдатскими галифе, ни в какие ворота: ни уму, ни сердцу. Не в ту дуду, как говориться, не в масть. Это и понятно, нельзя запрячь в одну упряжку коня и трепетную лань. На фоне солдатских сапог, туфли «Цэбо» — двадцать баллов по пятибалльной системе тянут. Любую фору дадут любым офицерским хромачам, не говоря уж об юфтевых.
Всё уже есть для гражданки, в смысле для жизни гражданской, даже платок носовой. И чемоданчик уже дембельский собран. Давно собран! Полгода, как. Нет только приказа.
Нет его и всё тут… Пока!.. Это пока…
Вот и слоняются мелкими стайками дембеля по воинской части, портят собой интерьер и экстерьер полка, боевой части, армейского подразделения. Нарушают праздношатающимся своим видом чёткие линии строевого плаца, и прочих армейских архитектурных, мягко сказать, ансамблей. Ненавязчиво вроде, как мелкие мухи, они, но докучают своими глупо-просящими лицами страшно занятых работников строевого отдела и разных мелких писарей. Толкутся в коридорах, как в баню, как в клуб на лучшие места, как на трое суток в увольнение, как в санчасть на очередную прививку с освобождением… А я! А я! А мне!..
Достали всех.
— И чем там командир полка в своём кабинете занимается, спрашивается, а? Что он там делает? — Волнуются дембеля, волной морской — шумной, мутной, холодной — накатывая на полковой строевой отдел.
— Он что, специально нервы нам всем мотает, да? Бумаги же у него? — в тысячный раз спрашивают канцелярских военных сотрудников.
— У него. — Отвечают те.
— На столе? — Спрашивают.
— А где же еще?
— Ну, так и что?
— А и ничего. Что вы у меня-то спрашиваете? — Вспыхивает очередная прапорщица из «бумажно-строевого» отдела. — У командира части и спросите.
— Хэ-х! — Понимающе усмехается очередь. — Ага!..
Это она так выдрючивается перед дембелями, цену себе набивает. Её предложение, как удар ниже пояса. Все понимают, болтать можно с кем угодно, со всеми, но только не с командиром части. К нему не зайдешь с вопросом: «Ну, как там, старина, наши дела? Когда, понимаешь, приказ подпишешь?» Нет, зайти, конечно, можно, даже вопрос задать можно, если хочешь задержаться в части на лишнюю пару-тройку месяцев, до ноябрьских праздников, до белых мух. Это легко, даже очень легко: легче-лёгкого. Только, кому это надо?.. Никому. Как говорится, дураков нет. Остается только почти нейтрально заметить прапорщице, да и всем им, бумагомаральщикам:
— Вот, волынщики тут… собрались. У-у-у… Бюрократы, понимаешь…
Говорить между собой дембелям вроде уже и не о чем. У всех, в головах и на слуху, вопросы только одного порядка: «Ну, что там слышно — сегодня поедем или завтра?» «А может, всё же сегодня приказ будет, нет?.. Значит, тогда, завтра… да?» Остальное всё уже давно сказано.
Сам момент отъезда-расставания, дембелями переживался и обсуждался под разными углами, в разных аспектах, в любых мыслимых и немыслимых ситуациях (в кузове армейской машины, в ожидании отбоя, в наряде, на кухне, на толчке, на службе, в увольнении, на перекуре, везде) на сто рядов, всеми солдатами, всех поколений, сразу же, начиная с момента перехода их от статуса «салаги», в статус «старика». Значит, минимум за восемь-десять месяцев до того как… Даже и раньше, если точно просчитать, но это глубоко в тайне.
Давно уже дембеля между собой обсудили и закрепили разными клятвами, под звуки сдвигаемых где «люминиевых», где стеклянных емкостей с чем-то крепким, кто, как и с кем будет всегда переписываться, всегда. Когда, где и как будут потом непременно, раз в году, не реже — конечно, не реже! — встречаться. «Мужики, подожди, подожди, мужики. Слушайте сюда. Если я, слышите, я вот, Сашка Столяров, ваш друг, хоть раз, один только раз, к вам на встречу не приеду… то… то… можете меня… приехать и отпиз… хоть все сразу. Слова не скажу, вот». В одобрительном согласии сдвигаются в центре ёмкости — молодец, Сашка, хорошо сказал. Свой парень. Братан. Сразу же за этим, обязательно, кем-нибудь вносится обобщающее дополнение к клятве: «Или если кто-то из нас не приедет, без уважительной причины… хоть раз… Всё, мужики, тогда всё, прощенья ему нет. Никогда. Правильно, пацаны, нет?» Бурные, продолжительные апл… Нет, не то, не правильно написал… Аплодисменты у нас только на комсомольских собраниях могут быть или на концертах. Здесь — другое, тут — настоящее… У нас крепкие продолжительные рукопожатия, с еще более крепкими дружественными объятиями. Вот! И, пожалуйста, без иронии тут, если не хотите под глаз… сейчас! Потому что за столом, мужчинам, дружбу, по-другому закрепить никак… Только так.
Накал такого рода страстей всегда зависел от количества, как присутствующих, так и количества запретной в армии пьяной жидкости. И от её крепости тоже. Хотя, в армии, да всегда почти натощак, и пиво в голову бьёт, что тебе шрапнель. Но, это деталь. Главное — бьёт.
В большинстве своем, все сходились на Москве. Почему так далеко? Х-ха, ну и глупый вопрос! Расстояние, чтоб вы знали, в дружбе роли не играет, это пофиг. Друзьям, настоящим друзьям, а тут, за три года службы, все такие — кто-то сомневается? — встречаться нужно в городе не ниже чем столица нашей Родины. Правильно, мужики, я говорю? Да, правильно, тёзка, только в Москве… Причём, в самом главном её центре, в ресторане… в этом, как его?.. Ну, «Москва» или какой-нибудь «Центральный» там, «Арагви», «Будапешт», или что там ещё. Тут были расхождения, а не все к тому времени знали самый значимый ресторан в далёкой столице. Но это мелочи, все понимали. Потом установим, решали… Главное, чтоб в Москве, и чтоб в самом солидном ресторане. Обязательно с шумом чтоб… А пусть все видят, радуются и завидуют нашей солдатской дружбе. Такая вот, почти один-в-один, была намечена дембельская программа братства там, на гражданке. «И помогать будем друг другу… да, всегда! Последний кусок хлеба… рубашку… деньги, да всё, если что. Правильно, да, мужики?» «Д-да! — подтверждает пьяный, задиристый хор голосов. Наливай!..» Это уж обязательно, вне всякого сомнения. Никто и не сомневался, что так оно и будет. А потом, решали, лет через пять-десять, встречаться они будут уже с женами… «О, точно, мужики, с женами!.. Обязательно с женами. А что, правильно!» Это наполняло смысл будущих традиционных встреч новыми эмоциями, новыми неизведанными «взрослыми» ощущениями на уровне научной фантастики. «А что, это интересно. Хорошее предложение сказал про жен, за это нужно обязательно выпить. Наливай». Это давало новую пищу сладостным, чаще бахвально-восторженным фантазиям. Потом, мол, с детьми приезжать будем, а потом и с внуками… Ну, это действительно уж очень далеко, это уж, дальше далекого… «Крепкая потому что. Не-не, не про дружбу я сказал щас… жидкость эта… а чё это мы пьем?.. совсем уж крепкая, мужики, попалась, что-то… Дружба, она, всё же — дружба. Потому, крепче всего. Крепче стали, крепче алмаза… Или какой там самый крепкий камень, мужики, в мире? Во, я и говорю, алмаз. И дружба наша не меркнет и не пылится, как алмаз. Правильно, мужики?
Так вот или примерно так обсуждалась и закреплялась эта установка на долгие годы вперёд. Всеми.
Тем, кто находится вне этого братства, сейчас вот, читая, наверное, и не понять чувства молодых, не опытных ещё парней. Могут кому-то показаться смешными и наивными, даже глупыми. Но это так кажется для вас, опытных и мудрых, умных там, как говориться, за печкою, но не для них. Их сейчас сближают собственные, личные, вместе с тем, многочисленные общие физические ощущения, проблемы и трудности. Оправданные и неоправданные трудности, солдатская каша, пусть не всегда проваренная и безвкусная, но — важный фактор! — из одного котла, общий сотрясающий ночной холод от стояния в муторном наряде, чинарик папиросы из урны, и многое-многое другое, чего посторонним и не понять. А потом, в тепле, за чаркой, видится только хорошее, только славное, кто это испытал. Всё кажется хорошим и приятным… лёгким и преодолимым. А потому, что дружба. Да не просто дружба, а солдатская дружба. А солдатская дружба, она и на Марсе дружба, если хотите знать, а уж тут-то, на Земле!..
Весь остаток службы, до самого дембеля, тянется очень тяжело, невероятно замедленно, на взгляд любого дембеля. Как пытка, даже хуже…
— Товарищ капитан, ну, что там, наконец, с нашим приказом?
— О, Пронин, ты ещё здесь? — преувеличенно удивляется ротный, капитан Коновалов. — А я думал, ты уже дома. Вижу, на проверке тебя совсем что-то нет, думал, уехал уже. А? — И капитан Коновалов гогочет, радуясь своей шутке. Знает ротный слабое место любого дембеля. — Не было что ли ещё вашего приказа? Да? Нет?
— Нет, вроде. Я думал, может, вы что знаете?
— Нет, не слыхал что-то. А то оставайся у меня, Пронин, в роте, на сверхсрочную… Парень ты нормальный, толковый. И место для тебя есть… А? — Хитро сощурившись, смотрит. Ждёт.
— Не-не-не! Только не это. Я домой. Только домой! Во, как уже сыт здесь. Спасибо, товарищ капитан, за заботу.
— Ну смотри. Наше дело предложить, ваше дело… сам понимаешь. А Фролов, например, уже остался и Азаров тоже. Рапорты подали. Кушкинбаев в офицерскую школу едет по направлению, — документы оформляет. Ваш Филиппов, я слышал, тоже уехал…
— Филиппов-то в дирижерское.
— Не важно. Один хрен — военное училище. Ну!..
Крыть нечем. С Валькой Филипповым всё понятно, правильно сделал парень. Дирижер — это всё же дирижёр, руководитель, не простой сверхсрочник, как остальные, пусть и хороший валторнист. А Фрол, и Азаров — это не понятно. Вроде трепались о доме, о гражданке… а сами рапорты писали! Интересное кино. Надо спросить у них, чем таким заманили?
Ладно. Нужно ещё раз потеребить дирижера, а потом и с переметнувшимися переговорить.
— Товарищ подполковник, разрешите обратиться? — ловлю дирижера на перерыве.
— А, Пронин, давай, обращайся. Что такое у вас?
— Вы не знаете, товарищ подполковник, что там с нашим приказом? Когда будет?
— С приказом?.. В своё время. Документы уже у командира. Подпишет, и поедете.
— Так раньше бы надо, товарищ подполковник. Лето уже, вон, проходит… Мы ж договаривались — подготовлю смену, и поеду. Ну!.. Обещали же…
— Обещал, обещал. И к командиру ходил, просил и за вас и за Дорошенко, и за всех наших. Он тоже обещал. Сказал, как только, так сразу… И как после этого я опять к нему пойду, спрашивается, а? Не могу я к нему идти, устав нарушать. Нужно ждать. Вот, значит, и ждите пока. Загорайте. А то можете с молодыми позаниматься, лажаются что-то часто…
— Кто лажается? Кротов?!
— А все, и Кротов ваш…
— И Кротов?! Это мы исправим, товар…
— Вот и исправляйте пока, товарищ старший сержант.
— А можно в увольнение сходить? — спрашиваю.
— Ммм-можно, в общем, если не на трое суток. — Разрешает подполковник.
— Нет, на сутки надо, не меньше. — Торгуюсь.
— На сутки много. До ноля часов если…
— На сутки лучше, товарищ подполковник… — стою на своем.
— Только без ЧП, там.
— Конечно, я же понимаю…
— Ладно. Выпиши у старшины.