Заклятие (сборник) Бронте Шарлотта
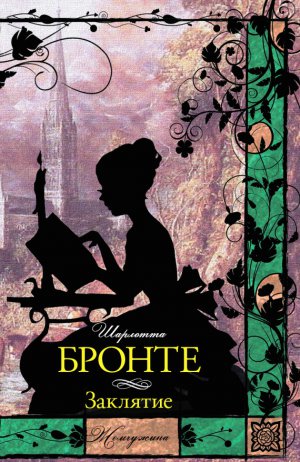
– Эрнесту не понадобится регент, – ответил тот. – Теперь я все сказал и требую покоя и тишины, чтобы заглянуть в ненасытную бездну, что разверзается подо мной.
– Да будет так! – воскликнул Арундел.
– Я заколю первого, кто посмеет заговорить! – подхватил Каслрей.
Нортенгерленд остался неколебим.
– Кто будет регентом? – повторил он. – Говори скорее, монарх. Если ты умрешь, не выразив свою волю, горе Ангрии! Стенания огласят каждый кров, каждое жилище в ее пределах. Меч войны вышел из ножен, и многих сразит его клинок еще до того, как Адриан остынет в могиле.
– Дурной, безжалостный человек! – проговорил герцог Фиденский, распаляясь гневом. – Такие ли речи должны звучать над смертным одром монарха, вашего зятя, над смертным одром Заморны? Довольно, милорд! Я этого не потерплю! Пусть испустит последний вздох в тиши. Артур, Артур, отвратись от этого мира к лучшему. Боже милостивый! Я верю: счастливый свет озаряет твою ведущую вверх тропу.
– Джон, – отвечал король, – света нет. Лишь река смерти катит предо мною свои воды, черные, будто ночь, но я сумею пройти ее бесстрашно, бестрепетно. Уже полдень?
– Еще пять минут, – ответил неожиданно скрипучий голос одного из нотариусов за столом.
Внезапно герцог сел на постели. Это выглядело так, будто дернулся гальванизированный труп.
– Злодей! – воскликнул он с неожиданной энергией в голосе и на лице. – Ты здесь? Коли так, у меня есть силы жить! Я поборюсь с тобой, я одолею тебя! Сойдемся в рукопашную и посмотрим, кто кого! Еще пять минут. Я думал, время давно прошло. Мужайся, Заморна! Звезда еще сияет. Она не может, не смеет обмануть!
Незнакомец ответил глухим смехом.
– Я слышу звук, – продолжал герцог. – Далекий, легкий, быстрый; ни одно ухо не может его различить. Это ее поступь, ее дивные шаги. Трепещи, мерзавец! Явилась моя защитница!
– Ее колесница застряла в пути, – сказал нотариус, вставая и подходя к окну. – Я гляжу наружу и не вижу развеваемого ветром женского платья. А стрелки на часах церкви Святого Августина вот-вот сойдутся. В полдень весть о смерти ее героя разнесется по всему Витрополю.
Он умолк. Все разом прислушались и различили шаги. Дверь задрожала и распахнулась так резко, что казалось – ее раскололи пополам. Вбежала дама. Она двигалась стремительно, как молния, и почти так же бесшумно. Мы все машинально попятились. Она упала на колени рядом с ложем и прижалась лицом к руке, которую протянул ей Заморна.
– Спасен! – только и выговорили ее губы. И тут городские колокола начали бить двенадцать. Когда отзвучал последний удар, дама поднялась и обвела собравшихся пронзительным взглядом прекрасных черных глаз.
– Джентльмены, – сказала она, вспыхивая румянцем смущения и, как мне показалось, гнева, – надеюсь, вы не собираетесь здесь оставаться. Вопрос о престолонаследии решать больше не надо. Заморна не умрет, и эта мрачная комната напрасно погружена во тьму.
Дама, по очереди подходя к каждому окну, быстро отдернула занавеси, распахнула рамы, задула все свечи, велела оставшемуся нотариусу уйти (другой уже исчез, мы и не заметили как) быстрым и решительным голосом, которому тот немедленно подчинился, после чего еще раз нетерпеливо оглядела нас.
– Все это требует объяснений, любезная, – сказал граф Нортенгерлендский.
– Да, милорд, – отвечала она, делая глубокий реверанс, – однако, возможно, вы позволите отложить объяснения до той поры, когда мой хозяин сам решит, давать их или нет.
– Мина… – проговорил герцог Веллингтон.
При его словах девушка вздрогнула и покраснела; в следующий миг она уже стояла у его ног на одном колене, припав головой к другому.
– Что привело тебя сюда, моя девочка? – спросил герцог самым своим ласковым голосом.
– Милорд, – ответила она, – если мне здесь не место, я уйду. Однако сегодня утром Кунштюк сообщил мне, что сыну моей покойной госпожи может быть полезно мое присутствие. Смела ли я бездействовать, когда ему требовалась моя помощь?
– Боюсь, это было бы не в твоих силах, – сказал его светлость. – Впрочем, ты славное дитя, а твоя сегодняшняя услуга увеличивает его без того немалый долг. Он отплатит тебе так же, как платил раньше.
Мисс Лори сжалась, словно ее придавили к земле. Голова опустилась так низко, что смоляно-черные кудри рассыпались по ковру.
– Иди и служи ему, Мина, – продолжал герцог. – Влачи жизнь в рабстве египетском. Как я вижу, его цепи сковывают тебя по рукам и ногам.
– Да, – гордо отвечала она, вставая. – И лишь смерть их разобьет. Я – его рабыня от рождения и до могилы.
Тут врачи, которые тем временем осмотрели Заморну, в изумлении объявили о чудесной перемене к лучшему. Кровообращение восстановилось, пульс прослушивался, сердце вновь билось, а лицу вернулся живой оттенок.
Такую глубокую сдерживаемую радость, какая отразилась при этом известии на лице Мины, мне редко доводилось видеть. Она подошла к герцогу, склонилась над ним и заглянула ему в глаза так, будто в их темной сияющей глубине заключалась для нее вся вселенная. Казалось, она считала, что может так открыто и смело смотреть на него сейчас по праву искупления. Чувство это, впрочем, лишь мелькнуло на ее лице и тут же исчезло: теперь она вновь была обреченная раба страсти, захваченная единственной мыслью, мечтающая об одном: самозабвенно нести ярмо того, чье обаяние сковало ее так крепко. Смыслом ее бытия, гордостью ее жизни было неустанно трудиться ради Заморны. Он сжал ей руку, улыбнулся с бесконечной нежностью и что-то произнес тоном самого ласкового снисхождения. Это, как я понял, сторицей вознаградило глупенькую девочку.
Мы все, за исключением герцога Веллингтона, графини Сеймур, Мины, Розьера и Кунштюка, вышли. Спускаясь по лестнице, я немного отстал от остальных. На одной из площадок меня окликнули: то был Эдвард Лори. Он стоял, прислонясь к стене и скрестивши руки на груди; красивое лицо побагровело, темные глаза сверкали из-под насупленных бровей. Меня поразило сходство между дочерью и отцом.
– Доктор, – спросил он, – это не Мина Лори приехала?
Я ответил утвердительно.
– Проклятье! – воскликнул он. – Девчонке бы хоть немного ума, а герцогу Заморне – хоть немного совести. Я бы его возненавидел, да только он мой король, и я учил его стрелять из ружья и охотиться. Славный он был мальчонка, настоящий храбрец, а рука какая твердая! Кабы не это, кабы не ходил он со мною много дней, много лунных ночей по оленьим следам, по пустошам да по лесным тропинкам, я бы давно всадил в него либо холодную сталь, либо горячий свинец. Я был дурак и хуже дурака, что взял его тогда, раненого, в свою лачугу. Знал ведь, что он необуздан и бессердечен – бессердечен, хочу сказать, в некоторых вещах, – так нет, надо было принести змею домой и пригреть у себя на груди! С тех пор за свою доброту я пью его яд – и ведь прикипел же к нему душой так, что жизнь за него отдам! Вот болван! Я-то не женщина! Так что мне мешает зарезать его и убежать?
– Не сомневаюсь, что у вас есть причины действовать мудрее и лучше, – ответил я, желая его успокоить.
– Причины! Нет никаких причин, только одно его колдовство. Знаете, доктор, как он себя вел, когда меня ранили в битве при Велино? Уложил в собственном шатре, на своей походной постели, каждый день сам осматривал мою рану, а если врачи были заняты, то и перевязывал ее. По ночам накрывал меня своим плащом, а сам ложился на пол, и, сколько бы я ни возражал, так продолжалось, пока я совсем не выздоровел. Заставлял меня пить вино из своего рациона, еду мне носили с генеральского стола. Он взял мою сторону в той истории с сэром Джоном Букетом – теперь лордом Ричтоном – и как-то в потасовке трое против одного спас меня, рискуя собственной жизнью. Так что презирать его я не могу, по крайней мере долго. К тому же мы с ним оба в каком-то смысле ирландцы, а значит – не злопамятны. И все же сейчас я его выносить не могу, так что подамся куда-нибудь подальше, пока малость не остыну.
Эдвард что есть силы ударил в пол прикладом длинного охотничьего ружья, которое держал в руках, бегом спустился по лестнице и пропал с глаз.
Я вошел в салон, куда удалились другие джентльмены, и увидел, что все они разъехались, кроме Нортенгерленда. Граф сидел на диване подле дочери и что-то с жаром ей говорил. Сочтя себя лишним, я вознамерился уйти, но граф меня окликнул.
– Доктор, – промолвил он, – герцогиня хочет видеть своего доброго, заботливого супруга – что вы на это скажете? Прочие лекари наложили на ее посещение свое вето.
– Боюсь, – ответил я, – что вынужден с ними согласиться. Прошлый визит к супругу пагубно отразился на здоровье ее светлости, и я не рекомендую повторять его так скоро.
– Хорошо, – вздохнула она. – Наверное, я должна покориться, но начиная с завтрашнего дня ничьи указания, кроме его собственных, не помешают мне с ним увидеться.
Граф встал и поманил меня в нишу.
– Элфорд, – резко начал он, – я хочу знать, как давно Заморна болеет.
– За последние четыре дня он ни разу не покидал дома, – ответил я.
– Чистейшие враки, сэр! – ответил Нортенгерленд. – Как смеете вы так говорить, если вчера я видел его у Монморанси в отменном здравии, всем бы вашим пациентам такое. Он поехал со мной обедать в Элрингтон-Холле, а потом, как болван, потащился с графиней на дурацкое сборище каких-то ученых идиотов, где, по ее словам, особенно блистал.
– Да, милорд, я прочел об этом в газете и, уверяю вас, был совершенно обескуражен. За подтверждением моих слов ваше сиятельство может обратиться к герцогине.
– Я с нею говорил перед самым вашим появлением, – произнес он, – и услышал то же самое. Я счел, что она от горя повредилась в уме, теперь так же думаю о вас. Не пытайтесь разубедить меня в том, что я видел своими глазами, сэр. Повторяю: герцог Заморна был вчера со мною полдня и часть вечера. Он выглядел, говорил, смеялся и бахвалился как обычно. Я чрезвычайно удивился, когда на следующий день мне принесли записку от мистера Максвелла с указанием прибыть к смертному одру герцога. Затем его внезапный недуг, поведение нотариуса, приезд девушки… сплошная дьявольщина, клянусь костями Сциллы!
С этими словами его сиятельство вышел из комнаты. Герцогиня оставила нас еще раньше, так что я потребовал экипаж и отправился домой.
Глава 6
Прошло пять дней. За это время Заморна благодаря ласковому уходу Мины Лори и умелому попечению доктора Элфорда быстро восстанавливал почти утраченное здоровье. Герцогиня наконец получила от супруга дозволение его навестить. Она завтракала, когда вошел Эжен и подал сложенный в несколько раз листок, на котором почерком ее мужа были написаны карандашом долгожданные слова:
«Приходите ко мне, Мэри, как только сможете. Элфорд считает, что сейчас это не только допустимо, но и желательно. Он говорит, вы истаяли, как тень. Боюсь, милая, в минуты бреда я дурно отплатил вам за вашу любовь. Не знаю и не желаю знать, что именно я говорил. В сознании остался лишь смутный и пугающий сон, подробности которого мне менее всего хочется вспоминать. Вы найдете меня одного в гардеробной. Я только что оделся и отослал Кунштюка.
Ваш любящий
Адриан».
Герцогиня вскочила, едва не опрокинув столик розового дерева вместе с бесценным фарфором. Она пробежала через вестибюль и уже поставила ногу на первую ступеньку лестницы, когда рядом послышался обрывок мелодии. Кто-то небрежно, но с большим мастерством перебирал гитарные струны. Играли в одном из многочисленных салонов, примыкающих к вестибюлю. Кто это мог быть? Герцогиня знала манеру игры – она слышала ее много раз. Неужто герцог… нет, невозможно. Она вновь прислушалась. Напев зазвучал громче – нежный, меланхолический, монотонный и в то же время изысканно задумчивый. Звук пропадал, и вновь набирал силу, и снова затихал, и пробуждался к жизни, затем, помедлив напоследок на низкой ноте, с неохотой уступил место тишине.
– Это он, это он! – воскликнула Мэри. – Мое ухо, столько раз упивавшееся его игрой, не может ошибаться.
Она слегка растерялась от того, что звуки доносились из части дома, прямо противоположной той, которую герцог указал в записке. Казалось бы, не стоит сильно тревожиться из-за такого пустяка, однако герцогиня почему-то ощутила нервическое волнение. Тут снова дрогнули струны, и прихотливый изменчивый напев – именно так любил импровизировать герцог, когда в руки ему попадала гитара, – заполнил вестибюль. И все же она медлила. Ее как будто приковало цепями к месту; но вот струны умолкли, и чары недвижности рассеялись. Мэри вздрогнула, шагнула к неплотно притворенной двери в салон, откуда доносилась музыка, открыла ее и вошла. Заморна совершенно определенно был здесь. Он стоял у стола в дальнем конце комнаты; гитара лежала рядом, и герцог, листая большой, прекрасно переплетенный том, напевал себе под нос мелодию, которую только что сыграл.
Мэри замерла, разглядывая мужа. Ни тени недуга, ни малейших следов болезни или хотя бы слабости, какой обычно бывают отмечены движения человека, перед тем долго прикованного к постели, не осталось в его царственном облике. Лицо было свежо, как в лучшие дни, орлиные глаза сияли, будто их не коснулась иссушающая лихорадка.
– Смерть была ко мне милостива, – проговорила Генриетта, делая шаг вперед. – Она прошла мимо, не оставив на моем благородном и прекрасном кумире никаких отметин.
Герцог, разумеется, поднял голову. Странное выражение лица предстало его супруге: брови выгнуты, карминно-алая губа закушена, словно в попытке сдержать дурашливую ухмылку. Глаза смотрели высокомерно, испытующе, насмешливо, хоть и не без доброты; их взгляд не пугал, но как будто отталкивал Мэри, словно предупреждая: ее готовая хлынуть через край нежность тут неуместна. Она замерла, покрасневшая и смущенная.
– Мой дорогой Артур, – проговорила она наконец, – почему вы смотрите на меня так холодно, так равнодушно, как на чужую? Я хочу знать причину! Я буду трудиться день и ночь, пока не заслужу хоть чуточку более теплый прием.
– Я не сержусь на вас, Мэри, – ответил Заморна. – И даже напротив. Я всецело к вам расположен, но ответьте, маленькая колдунья, что привело вас в тот вечер на виллу Доуро?
– Сказать по правде, Адриан, любопытство. Я хотела знать, вправду ли мисс Лори так хороша, а Фицартур так похож на вас, как говорят люди.
– И что же вы теперь думаете, Мэри? – спросил Заморна, беря ее за руку. – Девчонка и впрямь хороша собой? Не ревнуйте больше. Торжественно клянусь, что за всю жизнь не сказал ей больше трех слов кряду, да и то по самым мелким житейским поводам. Уверяю вас, она принадлежит другому, и подойди я к ней так близко, как сейчас к вам, крик поднялся бы такой, что Башня всех народов содрогнулась бы до основания. Так скажите честно, нашли ли вы ее хорошенькой?
– Очень, – вздохнула бедная Мэри. – А Эрнест и маленькая Эмили очень, очень на вас похожи.
Герцог рассмеялся:
– Да, так и есть. Отрицать бесполезно. Однако не горюйте, Мэри, не горюйте, придет время, когда это сходство перестанет вас огорчать.
Герцогиня мотнула головой. По бледным щекам покатились слезы. Однако поведение герцога – он хоть и не выказывал любви, но держался мягко и дружелюбно – обнадеживало, и она попыталась прижать свою руку, которую он держал за кончики пальцев, к его ладони. И тут в лице ее мужа мелькнуло выражение, какого она никогда прежде не видела: смесь недоброго озорства и какого-то другого, странного чувства на миг совершенно изменила его черты. Одновременно он стиснул ее руку так немилосердно, что кольца вдавились в пальцы. Герцогиня тихонько вскрикнула от боли. В то же мгновение дверь распахнулась, и влетел Кунштюк. Маленькие звериные глазки на безобразном лице горели бенгальскими огнями, он гримасничал, жестикулировал и пританцовывал. Герцог сперва рассмеялся, затем, отвесив карлику звонкую оплеуху, подошел к окну, распахнул раму, выпрыгнул в сад и вскоре пропал за деревьями.
– Что тебе здесь надо, Кунштюк? – спросила Мэри, гневно поворачиваясь к карлику.
Тот упал перед ней на колени, прижимая руки к груди и касаясь лбом ковра.
– Довольно фиглярства! – воскликнула она, забыв в гневе, что карлик ее не слышит. – Твое поведение крайне дерзко и совершенно необъяснимо! Не успеваю я сказать супругу и двух слов, как появляешься ты и не даешь нам поговорить! Что на тебя находит? Я не желаю больше этого терпеть. Но, бедный уродец, с тем же успехом я могла бы обращаться к статуе. Отпусти мое платье, любезный!
Она вырвала подол из длинных тонких пальцев карлика и, не слушая умоляющего мычания, вышла из салона.
У дверей она едва не столкнулась с Эженом Розьером, что только подлило масла в огонь. Мэри была в том состоянии (не слишком для нее редком), когда поводом для досады становился любой пустяк.
– Что? – вскричала она. – Подслушиваешь, не преступлю ли я границы приличия? Странные порядки! Я не понимаю их и не желаю больше терпеть! Отвечай, любезный: хозяин приказал тебе и этому мерзкому выродку за мною следить?
– Хозяин ничего мне не приказывал, мэм, – обескураженно проговорил Розьер, – только велел спросить, прочли ли вы его записку?
– Записку? Да, сударь, прочла и тут же поспешила на зов. Однако я с тем же успехом могла остаться у себя в комнате – он не удостоил меня и двух слов.
Эжен вытянул губы, словно намереваясь присвистнуть, однако почтение к хозяйке его удержало.
– Мадам, – сказал он, – герцог просил узнать, почему вы не посетили его в гардеробной. Вот и все.
– Не испытывай мое терпение! – воскликнула герцогиня. – Он был в салоне минуту назад и, судя по всему, не очень-то меня и ждал.
Мгновение паж озадаченно молчал, затем подмигнул и хитро ухмыльнулся, давая понять, что разрешил загадку.
– Ах, миледи, если мне позволено так сказать, на герцога иногда находит. Но если вы сейчас подниметесь в гардеробную, ставлю мою ливрею против куртки мусорщика, вас ждет совершенно иной прием.
Покуда Розьер говорил, из салона донеслось «кхе-хм», очень похожее на голос Заморны.
– Он вернулся, – сказала Мэри. – Попробую поговорить с ним еще раз.
Она уже хотела войти в салон, однако Эжен с невиданной прежде дерзостью снял руку герцогини с дверной ручки, встал между хозяйкой и входом и, решительно глядя ей прямо в глаза, сказал:
– Мадам, я не позволю вам туда войти.
Герцогиня попятилась, оторопев от такой наглости. Прежде чем она заговорила, раздался вопль Кунштюка, а затем смех – такое знакомое «ха-ха» Заморны, – и не менее знакомый голос позвал:
– Мэри, пробивайтесь сквозь все преграды! Я здесь и приказываю вам идти ко мне!
Она снова бросилась к дверям и взялась за ручку.
– Мадам, – начал Розьер, – прошу, умоляю, заклинаю вас, миледи, меня выслушать. – Но нет, она была глуха к его уговорам. Тогда он сменил просительно-смиренное выражение на более свойственное ему вызывающее, выпрямился во весь рост, расправил сильные плечи и, схватив хозяйку за руки, сказал: – Сударыня, не соблаговолите ли пройти наверх? Если вы ответите «да», я упаду на колени и буду молить о прощении за свое самоуправство. Если ответите «нет», я вынужден буду применить силу. Мне до конца жизни не простится, что я посмел прикоснуться к вам, но моя жизнь закончится прямо сейчас, если я этого не сделаю. За то, что я вас удерживаю, герцог может меня заколоть, однако, если я вас не задержу, он точно всадит мне пулю в лоб.
С дрожащими губами, белая как мел, герцогиня, сверкнув глазами, высвободилась из его хватки и пошла прочь. Сейчас она была точной копией своего отца. В презрении, с которым она глянула на распоясавшегося пажа, сквозила беспримесная ненависть.
– Mon Dieu! – проговорил тот, когда она величаво прошествовала мимо. – C’est fait de moi![30] Она меня не простит! Вот что бывает от излишнего рвения. Лучше бы я предоставил им с герцогом разбираться между собой. С другой стороны, потом отвечать… А он – вот ведь злоехидна! Зачем надо было ее звать? Parbleu[31], она от этого совсем обезумела. Ладно, пока она у себя, попробую-ка я объясниться первым!
И он со всегдашней своей прытью устремился через вестибюль к лестнице.
Мэри удалилась к себе в комнаты. Она села, закрыла белое лицо еще более белыми руками и полчаса сидела в полной неподвижности. Наконец в дверь тихонько постучали. Герцогиня не ответила, однако дверь все равно отворилась и вплыла высокая дама, затянутая в шуршащие черные шелка. Мэри вскинула голову.
– Почему вы входите без приглашения, Темпл? Или уже и стены собственных покоев не защищают меня от назойливости слуг?
– Моя дорогая госпожа, – ответила почтенная матрона, – вы, как я вижу, расстроены, иначе бы не рассердились на то, что я пришла к вам с просьбой герцога посетить его в гардеробной.
– Опять гардеробная! – воскликнула герцогиня. – Сколько мне будут твердить это слово? Я говорю, что он не в гардеробной, и удивляюсь, что вы, Темпл, передаете мне сообщения, которые ничего не изменят. Он не хочет меня видеть! – И тут избалованная детская натура не выдержала. Юная герцогиня разразилась слезами. Она рыдала и плакала, повторяя: – Я не пойду! Он за мной не посылал! Он меня ненавидит!
– Миледи, миледи, – встревоженно проговорила Темпл, – Бога ради, не испытывайте больше терпение супруга. Он пока не сердится, но мне страшно смотреть в его застывшее как маска лицо. Обопритесь на мою руку, миледи, ибо вы чересчур взволнованны, и идемте, пока не разразилась буря.
– Ладно, ладно, Темпл, – сказала Мэри; она была отходчива и не умела долго сердиться на слуг. – Если вы оставите меня в покое, я, возможно, скоро встану и пойду. Только ведь он не хочет меня видеть! А потом гадкий карлик и нахальный паж ворвутся, и он позволит им оскорблять меня, как захотят. Нет, Темпл, я не пойду! Не пойду!
– О нет, моя дражайшая госпожа, подумайте еще раз. Если я и впрямь передам ваши слова, он ответит: «Очень хорошо, Темпл, засвидетельствуйте вашей хозяйке мое почтение; я сожалею, что напрасно ее обеспокоил», а потом сядет неподвижно – ни дать ни взять его бюст у вас в кабинете, – и следующего приглашения вы будете ждать еще много дней.
Герцогиня некоторое время молчала, затем медленно поднялась и – все так же в слезах, с явной неохотой – позволила достойной экономке взять себя под руку, что та и сделала весьма почтительно и в то же время ласково. Они вместе вышли из комнаты и, миновав вестибюль и лестницу, вступили в ненавистную гардеробную. Вездесущий Заморна самым определенным образом был здесь, как до того в салоне, однако в совершенно ином расположении духа; даже облик его как будто переменился. Высокий худой юноша за столом, заваленным книгами, выглядел исхудавшим. Кудрявая голова опиралась на обессиленную руку, лоб покрывала нездоровая бледность, а в глазах, устремленных на страницу ученого трактата, горел болезненный огонь. Над камином висел портрет герцогини Веллингтонской – и как же велико было сходство между матерью и ее прославленным сыном!
– Что ж, Темпл, – сказал Заморна, вставая при звуке шагов, – вижу, вы преуспели больше других. Женщина всегда найдет подход к женщине! Но, Боже мой, в чем дело? Вы плачете, Мэри? Поднимите личико, любовь моя!
Однако Мэри по-прежнему смотрела в пол. Когда муж шагнул к ней, она сжалась, отвела глаза и даже легонько оттолкнула его рукой. Мгновение герцог молчал. Затем его до сей минуты ласковое лицо приняло пугающе спокойное выражение.
– Аннабель, – обратился он к домоправительнице, – объясните, как это понимать. На вашу хозяйку что-то нашло.
– О, милорд, сейчас все уладится, – ответила миссис Темпл и вполголоса сказала госпоже: – Миледи, умоляю вас, не играйте со своим счастьем.
– Я не играю со своим счастьем, – прорыдала Мэри. – Если он меня тронет, то его мерзкие прихвостни тут же сбегутся, а он уйдет, предоставив им меня оскорблять.
– Безумие, – пробормотала миссис Темпл. – Я никогда не видела вас в таком состоянии, миледи.
– Аннабель, не утруждайте себя дальнейшими уговорами, – сказал герцог. – Проводите вашу хозяйку в ее покои.
Он снова сел, подпер голову рукой и, казалось, целиком ушел в книгу, которую перед этим штудировал. Герцогине стало стыдно. Она взглянула на мужа и впервые увидела, как изнурила его болезнь. Чувства ее мгновенно переменились: слезы полились еще сильнее, грудь содрогнулась от душащих рыданий. Взбалмошность избалованного аристократического ребенка выплеснулась в новой форме: герцогиня оттолкнула Темпл, уже собиравшуюся подать ей руку, чтобы вместе выйти из комнаты, подошла к мужу и замерла, плача и дрожа всем телом. Герцог недолго сохранял напускное равнодушие: довольно скоро он встал, усадил Мэри на диван и, сев рядом, вытер ей слезы собственным платком.
– Можете идти, Аннабель, – сказал он. – Думаю, теперь все будет хорошо.
Добрая женщина выслушала его с улыбкой, но, как писал старик Беньян, «глаза ее увлажнились»[32], и, выходя, она добавила со смелостью, свойственной особо приближенным слугам:
– А теперь, милорд, довольно невозмутимости: не надо походить на собственный бюст.
– Не буду, Аннабель, – отвечал герцог. Улыбка и тон его смягчились. Он повернулся к своей слабой половине и промолвил: – Ну, Мария пьянджендо[33], когда этот ливень утихнет и выглянет солнце?
Она не ответила, но ее лучистые очи за алмазным дождем слез блеснули чуть веселее.
– Ах, – сказал он, – вижу, небо расчищается и на горизонте уже проглядывает синева. Теперь объясните, душа моя, почему вы так долго не откликались на просьбу в моей записке?
– Дорогой, дорогой Артур, как вы могли забыть, что я была у вас в малиновом салоне менее получаса назад? И вы едва коснулись моей руки, говорили и смотрели так странно, совсем не как сейчас – даже выглядели иначе: менее бледным, менее осунувшимся.
– Более пригожим, – с неприятным смешком перебил герцог.
– Нет, Артур, сейчас вы нравитесь мне куда больше. Но я не могу объяснить, в чем разница. У меня что-то случилось со зрением: вы показались мне здоровым и крепким как никогда. А руки… О, милорд, как исхудали ваши пальцы! Кольца на них не держатся, а ведь я отчетливо помню, как вы раз или два провели ими по лбу, и солнце ярко вспыхнуло на драгоценных каменьях.
Герцог смутился.
– Чепуха, дитя, – сказал он, – вам привиделось.
– О нет, Артур, вот наглядное подтверждение. Вы помните, как сильно сжали мне руку?
– Сильно сжал вам руку? – переспросил он, вздрогнув. – Для чего вы так близко ко мне подошли? Скажите, мадам, был ли я очень добр? Сердечен? Чрезвычайно нежен? Клянусь небом, если вы ответите «да»… – Он осекся; что-то явно взбудоражило его до крайности.
– Нет, милорд, напротив. Ваша холодность весьма меня опечалила, и руку вы мне стиснули не ласково, а как будто со злостью. Вот напоминание.
И она показала ему руку с синяками там, где кольца вдавились в пальцы.
– Что ж, – проговорил он, – меня это радует, хотя поступок, конечно, очень грубый и жестокий. Как мог я причинить боль таким прелестным и хрупким пальчикам? – И он нежно прижал ее руку к губам. Мэри улыбнулась сквозь слезы.
– Так вы не совсем меня ненавидите, мой благородный Адриан? – проговорила она не без оттенка тревоги. – Где Кунштюк? Разве он сейчас не вмешается?
– Сейчас нет, Мэри. А теперь расскажите, душа моя, как и что я говорил во время загадочной сцены в малиновом салоне. Не удивляйтесь моему вопросу. Все это может пока представляться в высшей степени необъяснимым, но дайте срок, и, возможно, туман рассеется. Во-первых, как я вас встретил?
– Очень холодно, Артур. Я хотела обвить вам шею руками и не смогла. Вы оттолкнули меня первым же взглядом. Как будто плеснули на пылающее масло водой.
– Отлично, – сказал герцог. – Но продолжайте. О чем я с вами беседовал?
– Вы, помимо прочего, спросили, нашла ли я Мину Лори хорошенькой, и велели не ревновать, потому что за всю жизнь не сказали ей больше трех слов кряду.
Герцог выразительно кашлянул и отвел глаза. Лицо его покраснело так сильно, как только могло при нынешней своей бледности.
– Вы поверили мне, Мэри? – тихо спросил он. Она со вздохом мотнула головой. – Ладно, продолжайте.
– Затем вы спросили, как на мой взгляд, очень ли Фицартур на вас похож. Я ответила: «Да, и маленькая Эмили тоже», ибо, милорд, оба они – ваши точные миниатюрные подобия.
– Черт! – процедил он сквозь зубы. – Не желаю больше слышать! Зачем ему… то есть мне – потребовалось нести такую дьявольскую чушь? Но я с ним поквитаюсь! Пора Кунштюку вмешаться, и Эжену тоже. Вот что, Мэри. Всякий раз, как вы застанете меня в таком дурацком расположении духа, отвечайте на мои выходки звонкой пощечиной. Не бойтесь, что я ударю вас в ответ или буду долго сердиться. Это приказ, и поцелуй – нет, сотня поцелуев будет вам наградой, когда я приду в себя.
Мэри улыбнулась и положила голову ему на плечо.
– Артур, – сказала она, – мне начинает казаться, что вы ведете двойное существование. Я уверена, что Заморна в салоне – не тот Заморна, что сидит со мною сейчас. Тому не было до меня дела, этот, готова поверить – нет, знаю твердо, – меня любит, тот силен и в полном цвету, этот пока поник. Однако мне улыбающиеся бледные губы в тысячу, в миллион раз милее рубиновых, презрительно кривившихся час назад. Эти пальцы бледны и худы, но я люблю их куда больше округлых, недавно с такой злостью стиснувших мою руку. Хотя о чем я говорю? На земле не может быть двух Заморн – она бы их не вместила! У меня и впрямь мрачится ум, если в него пришла такая нелепая мысль! Глупая, невозможная химера! Вы думаете, я повредилась рассудком, Адриан?
Он расхохотался – громко, мелодично, но неискренне.
– Бог с вами, Мэри, я сам, наверное, еще безумнее. Впрочем, довольно: это опасная тема. И все же проклятие, видимо, слабеет. Неделю назад треть того, что я сегодня выслушал так спокойно, меня бы убила. Идите пока к себе, душа моя, мне надо заново обдумать утренние события.
Он прижал ее к себе, нежно поцеловал и проводил до двери. Мэри медленно, неохотно вышла. Никогда не испытывала она к нему такой нежности, как сейчас. Было что-то невыразимо трогательное в его величавой фигуре и благородных чертах, лишенных своего обычного блеска, но исполненных кроткого меланхолического очарования, прежде им совершенно чуждого – по крайней мере в последние годы. Раньше, в шестнадцать, семнадцать, восемнадцать и девятнадцать лет, когда он был хрупким, худеньким мальчиком, тонким как щепка из-за того, что слишком быстро тянулся вверх, его отличала куда большая мягкость. Как изменился Артур после двадцати! Тогда в его облике не было величия, в лице – воинственности. Он выглядел изящным, изнеженным, задумчивым и скорее напоминал высокую красивую девушку, нежели удалого фанфарона. Да, слушайте, о дамы Африки: герцог Заморна некогда смахивал на девчонку! Трудно поверить в это сейчас, когда мы смотрим в заносчивое, властное лицо юного ангрийского султана с его огненным повелительным взором и быстрой сменой выражений, являющей все новые оттенки гордости, вызова и запальчивости. Ранее эти пороки проявлялись в нем, только если его разозлят. И впрямь двенадцатилетний лорд Доуро, захваченный водоворотом чувств, бывал отвратительно похож на герцога Заморну в его двадцать два. В таких же приступах ярости жилы вздувались на белом лбу и не менее белой шее, кудри на гордо вскинутой голове взлетали, словно челка гарцующего жеребца, а в стычках с противником (обычно Квоши[34]) гибкое тело напрягалось, словно дух в моральных судорогах тщился силою желания достичь того, с чем бренная оболочка не справлялась по своей слабости.
Я мог бы еще долго об этом говорить, но сейчас вынужден продолжать нынешний рассказ. Читатель, если ты не уснул, переходи к следующей главе.
Глава 7
Долина Витрополя! Звук, что ласкает слух и волнует душу! Орошаемая Нилом долина Египта, усеянная розами долина Персии тоже объемлют множество славных, пышных и восхитительных мест, но разве Каир подобен Царице народов? Разве в Исфахан или Кандагар стекаются с товаром все купцы мира? Нет, дорогой читатель. Ты думаешь, что после этой преамбулы я перейду к подробному описанию нашей долины во всей ее красе и во всем изобилии, расскажу, как Нигер катит свои чистые воды меж тучных пажитей и холмов, с умиротворенным величием взирающих на свои зеленые подножия и возносящих главы к бездонным, словно океан, небесам; воды, подернутые зыбью речных волн и тающими облачками пены, белой и прозрачной, словно черемуха. Если таковы твои страхи, отбрось их. Я всего лишь приглашаю выйти вместе со мной из шестичасового утреннего дилижанса, мчащегося на север по дороге, широкой и ровной, словно прибрежная полоса песка. Крикни кучеру, чтобы остановил там, где от северного тракта отходит тенистый проселок. Я собираюсь позавтракать на вилле Доуро, но попасть туда не через большую гранитную арку в могучей парковой стене – откуда до усадьбы мили две по аллее, вьющейся меж рощ и лужаек, – а напрямик сквозь живописные поля по тропке, к которой, я знаю, ведет упомянутый проселок.
Дойдя до второго поля, я уселся на деревянную лесенку, приставленную к живой изгороди, под раскидистыми ветвями двух высоких вязов. Утро было раннее, воздух – свежий и прохладный, трава – зеленая и росистая, цветы на живой изгороди источали сладостный аромат. Вдоль края пастбища бежал ручеек, вокруг раскрывались в своей румяной красе герани, гиацинты, душистый горошек и примулы, покачивались розовые метелки конского щавеля. Ничто не нарушало покойную тишину – я говорю о звуках, которые производит человек, потому что в древесных кронах пели дрозды, в небе звенели жаворонки, а из различимого вдали Гернингтон-Холла доносился грачиный грай. Последний звук отнюдь не резал мне слух: он придавал всему пейзажу налет сельской уединенности, который я с удовольствием ощущал, но едва ли сумею описать. Изгородь, на которой я сидел, отделяла поле от парка. Олени не могли ее перепрыгнуть, поскольку она была высажена на вершине природного земляного вала футов восемь высотой. Прислонясь к толстой ветви склонившегося над изгородью вяза, я мог со всеми удобствами любоваться здешними красотами. Вниз от меня уходил зеленый склон, оживленный величавыми деревьями. Там и сям резвились легконогие олени; опьяненные восхитительной свежестью благоуханного утра, они скакали и прыгали во все стороны. Ниже листва густела, превращаясь в лес, а на дне лощины из этих эдемских рощ вставали колонны, портик и арки греческой виллы, озаренной ранним утренним солнцем. Она располагалась на небольшом холме в окружении аккуратно подстриженных газонов, являвших приятный контраст более темной зелени лесистого парка. Невозможно вообразить себе зрелище более очаровательное, более изящное, более элизийское. Вилла ничуть не походила на древнюю фамильную вотчину; она представлялась обиталищем вкуса, утонченности и аристократической гордыни.
Пейзаж без человеческих фигур скучен, и сейчас мой карандаш, вернее, перо, оживит ими нарисованную на полотне картину. По склону цветущего холма, на котором я сидел, медленно поднималась молодая красивая дама. Она была без шляпы. Румяные щеки и смоляно-черные кудри выдавали в ней Мину Лори. На руках она несла ребенка, второй – Эрнест Фицартур – бежал впереди нее. Они тоже были без головных уборов; кудри плясали на ветру, ангельские личики раскраснелись от удовольствия и от свежего воздуха. Эрнест первым выбрался наверх и тут же распростерся под дерновой стеной.
– Скорей, Мина, скорей! – воскликнул он. – Отсюда я вижу дорогу, только папенька еще не едет. Там много людей и лошадей, и кареты есть, и все они маленькие, как точечки, но папеньку я бы сразу узнал по плюмажу, а его пока не видно.
Мина вскоре поднялась на его наблюдательный пост. Она села на траву и усадила рядом маленькое кареглазое существо, которое до того несла на руках. Дитя прижалось щечкой к атласному платью Мины и подняло на нее живой выразительный взгляд, говоривший красноречивее любых слов.
– Эмили ждет маменьку, – сказал Фицартур. – Мина, почему она не выходит, ведь утро такое чудесное! Она бы успела до папенькиного приезда вдоволь нагуляться по парку с Харриет и Бланш.
– Она в часовне, милорд, – отвечала мисс Лори, – и ее фрейлины тоже. Думаю, она закончит молитвы и сразу выйдет на лужайку.
– Отец Гонсальви заставляет ее слишком много молиться, – продолжал Эрнест. – Я не хочу быть католиком, и папенька говорит, мне и не надо. А вот Эмили будет, ей придется всякий вечер читать молитвы по четкам и каждую неделю ходить к исповеди. Я ненавижу исповедь больше всего на свете! Если отец Гонсальви велит мне перечислить мои грехи, я лучше откушу себе язык, чем отвечу. А ты, Мина?
Мисс Лори улыбнулась.
– Отец Гонсальви хороший человек, милорд, – сказала она, – но я не его веры, так что вряд ли соглашусь преклонить перед ним колени в исповедальне.
– Правильно, Мина! А ты знаешь, что Заморна велел ему не приставать к тебе, чтобы ты поверила в мощи и святую воду?
Мина покраснела.
– Неужто герцог говорил обо мне, неужто счел достойным своего внимания… – Она осеклась.
– Да, да, – с наивной простотой отвечал Эрнест. – Заморна очень тебя любит. Судя по тому, какая ты печальная, Мина, ты так не думаешь, но это правда. Ты была в комнате и зачем-то вышла, а он взглянул на Гонсальви очень сурово и сказал: «Святой отец, вот овечка, которую не удастся привести в стадо единственно правильной веры. Сударь, Мина Лори моя. Посему учтите: она не может быть прихожанкой вашей матери-церкви. Ясно?» – и маменькин духовник улыбнулся в своей обычной вкрадчивой манере и низко поклонился, но потом я видел, как он украдкой закусил губу, а это у него верный признак гнева.
Мина не ответила. Ее мысли, судя по всему, унеслись прочь от болтовни маленького утешителя к другим, давним воспоминаниям, и на миг прекрасные черты осветились счастьем. Как трогательны были эти мгновения тишины! Все заливал солнечный свет, слышалось лишь журчание скрытого в траве ручейка, песнь незримого жаворонка в эфире да шелест листвы из долины, где деревья вкруг палладианской виллы качали ветками на ветру.
Эрнест заговорил снова.
– Мина, – сказал он, – говорят, что Заморна в мои годы был в точности как я. Ты не думаешь, что я в его годы стану как он?
– Конечно, милорд, и умом, и телом.
– Тогда, Мина, не грусти больше, потому что я торжественно обещаю на тебе жениться.
Мисс Лори вздрогнула и взглянула на него удивленно.
– О чем ты, малыш? – проговорила она с натужным смешком.
– О том, – серьезно отвечал мальчик, – что ты хочешь быть женою Заморны, а значит, если я стану как Заморна, то буду не хуже его, и если он на тебе не женится, то женюсь я.
– Глупости, малыш. Умоляю вас, милорд Равенсвуд, не надо об этом больше. Вы сами не понимаете, что говорите, и только расстраиваете меня еще сильнее.
– Нет, – настаивал Эрнест. – Я твердо решил, что ты станешь графиней Равенсвуд и мы поселимся в замке Оронсей, потому что ты же знаешь, через двадцать лет он будет моим, и я уверен, тебе там понравится. Замок стоит на озере, а вокруг горы, куда выше здешних, некоторые зимой черные, летом – лиловые, а на некоторых растут высокие деревья, называются – сосны. Комнаты в Оронсее не такие, как здесь, на вилле Доуро. Там нет мраморных потолков и стен и таких светлых окон. Когда входишь, залы как будто смотрят на тебя неприветливо, а в галерее висят портреты мужчин в доспехах и женщин в кринолинах, очень мрачные, но бояться их не надо. Они ничего плохого сделать не могут, они просто нарисованные. А еще есть комнаты в западном крыле, там лица на портретах молодые и красивые, а рамы у картин сплошь золоченые, и все завешано бархатом, и окна выходят на замковую эспланаду. И ты, Мина, будешь сидеть со мною в нише окна – они там глубокие-глубокие, а стены толстые и прочные, как скала, – и в ненастные дни мы будем смотреть, как облака клубятся над Бен-Карнахом, окутывая его вершину туманом и дождем, и слушать далекий рокот у обрывов Ардерини. Когда он раздается, это значит, что будет гроза, и скоро ты увидишь, как гнутся от ветра деревья в долине Глен-Авон и белая пена вскипает внизу, а волны озера Лох-Сунарт разом устремляются к подножию замка. Я так люблю на это смотреть, и ты тоже полюбишь, я уверен! Стань хозяйкой Равенсвуда! Пожалуйста, Мина! Ты и представить не можешь, как я тебя люблю!
– Вовремя начинаешь, мой мальчик, – произнес голос рядом со мной, и в тот же миг кто-то крепкой рукой уперся в мое плечо, перемахнул через восьмифутовую стену и приземлился на лужайке перед Миной. То был Заморна. Он прошел через поля той же тропинкою, что и я; увлеченный словами Фицартура, я не заметил, как подошел его отец. Мисс Лори встала; она совсем не выглядела смущенной или взволнованной. Эрнест с возгласом радости запрыгнул отцу на руки.
– Откуда вы пришли, папенька? – спросил он. – Мы здесь сидим, чтобы вас заранее увидеть. Я думал, что узнаю вас на дороге по плюмажу, а вот не заметил.
– «А вот не заметил»! Немудрено, сударь, ты ведь осыпал вопросами эту черноокую леди. И как же она приняла твое предложение руки, сердца и графского титула? Вижу, что не покраснела, – дурной знак.
– Я не предлагал ей руку, сердце и графский титул, папенька, только сказал, что женюсь на ней через двадцать лет.
– Ну-ну, слишком вяло для такого раннего ухаживания! Надо было назначить свадьбу на завтра, чтобы отец Гонсальви связал вас самыми крепкими узами, какие знает наша святая церковь. Помни, Эдвард, в любви удачлив тот, кто смел.
– Да, я помню. Я помню все, что вы мне говорили, папенька, и при всяком случае повторяю.
– Не сомневаюсь! Так где Эмили?
– Здесь, папенька. Карабкается на вас, словно дикий котенок.
– Я хотел сказать, моя Эмили, твоя мать. А ты бесенок в юбке! Ну и глазищи у нее! Еще убийственней, чем у тебя, Эдвард. Маленькая антилопа, не зыркай на меня так, ради всего святого!
Он с отцовской нежностью поцеловал свое миниатюрное подобие, затем, не выпуская девочку из рук, повалился на траву. Пока Эмили сидела у него на груди, Эдвард катался по нему с радостным визгом; молодой отец то отпихивал мальчика, то крепко прижимал к себе и чуть не защекотал до смерти. Тем временем из дома выбежали две огромные собаки, и возня стала еще более шумной. Обе, заливисто лая и тряся стальными ошейниками, кинулись к хозяину, принялись вылизывать ему руки и лицо, едва не напугали малышку Эмили, а Фицартура и вовсе было не видать за мордами и отвислыми ушами, которые они положили ему на лицо. Заморна подбадривал борзых голосом и поглаживанием, пока те совсем не обезумели от восторга; думаю, их лай долетал до Северного тракта, как и смех герцога, то приглушенный, когда собачьи языки касались его рта, то рвущийся во всю свою звучную мощь.
Что подумали бы ангрийцы, увидь они своего монарха, как видел его сейчас я? Не сомневаюсь, многие из них проезжали в то время по широкому тракту, откуда доносился беспрестанный стук колес и нестихающее цоканье лошадиных копыт – знак близости к большому городу. Наконец из лощины донесся музыкальный раскат колокола.
– Браво! – крикнул Заморна. – Сириус! Кондор! Эдвард! Посмотрим, кто первый добежит до виллы. Ну, мисс Лори, забирайте мой цветочек.
Он передал девочку Мине, и они все припустили бегом – отец, сын и борзые, стремительные, словно живые молнии. Их фигуры исчезли в лесу – ветви, казалось, вздрагивали, когда под ними проносились бегуны. Через мгновение все четверо показались с другой стороны, быстрее орлов пересекли золотистую от солнца лужайку, взлетели на мраморное крыльцо и пропали из виду.
Я белкой спрыгнул со своего насеста под вязами и стремглав пронесся по склону не хуже их, метеором обогнал Мину Лори и был у двери через пять минут после того, как они за ней скрылись.
Заморна в вестибюле отдавал распоряжения лакею. Когда он закончил, я вышел вперед. Его быстрый взгляд тут же меня заметил.
– Чарлз, подойди, – сказал герцог, но я попятился, испугавшись румянца, прихлынувшего в ту минуту к его щекам. – Проклятье! – воскликнул он, делая шаг ко мне. – Чего ты боишься? Я видел, как ты подслушивал, сидя на изгороди, и если сразу не вышиб тебе мозги, теперь-то зачем?
– Решительно незачем, Артур, – был мой ответ. – И я надеюсь, что у себя в доме ты будешь учтив и не пожалеешь для голодного гостя крошку-другую от своего завтрака.
Он наклонился и пристально поглядел мне в глаза, так что наши лица почти соприкоснулись. Я поцеловал его впервые за много лет. Герцог тут же отпрянул и провел пальцами по губам, словно мое прикосновение их осквернило, и в то же время улыбнулся почти дружески.
– Вот что, мартышка, – сказал он, – теперь твои пронырливые глаза большого вреда причинить не могут, и не беда, что ты здесь. Однако, сударь, поймай я тебя тут неделю назад – затоптал бы насмерть.
– Охотно верю, – ответил я, очень довольный, поскольку любопытство мое достигло белого каления.
Герцог царственной поступью направился в дом, я за ним. Настежь – в обычной своей властно-нетерпеливой манере – распахнул он дверь, и на меня повеяло сладостным ароматом дворцовой залы, к которому примешивалась прохлада росистого утра, напоенная благоуханием свежих трав; благодарными ноздрями вбирая дивные запахи, я вошел в просторное высокое помещение со множеством больших окон – все они были открыты, дыхание и свет рождающегося дня струились на персидский ковер, алебастровые вазы с полевыми цветами, бархатные занавеси, колышимые легким ветерком, и все прочее великолепие вкуса, богатства и аристократичности.
Навстречу нам поднялась дама. Это очаровательное создание казалось истинным воплощением патрицианской грации. Все в ней восхищало: стройная, но величавая фигура, изысканная округлость форм, мраморная шея, чью лебединую царственность открывал маленький кружевной воротник, большие влажные синие глаза, завитые и уложенные венком волосы, такие густые и пышные, что вплетенные в локоны тонкие золотые цепочки с трудом удерживали их тяжесть; а более всего восхищала ее чарующая, завораживающая, пленительная улыбка.
– Мария Стюарт, Мария Стюарт, – прошептал я, вне себя от изумления и восторга. – Дивный призрак, обворожительный кумир. Но во имя небес, как это видение связано с Заморной?
– Что ж, моя католическая Эмили, – молвил герцог, беря даму за руки и касаясь губами ее губ, – вот я, твой и больше ничей, без обмана и притворства. Все закончилось. Сегодня вечером тайна будет раскрыта, и герцогская корона наконец увенчает это прекрасное высокородное чело.
– Мне нет до нее дела, – ответила дама. – Я никогда не мечтала об избавлении ради себя, только ради вас. И теперь, коли вы счастливы сбросить оковы, то счастлива и я. Однако вы наверняка на ногах со вчерашнего дня. Вечером будет время для важных дел, а сейчас – завтракать. Харриет, подавайте на стол. Бланш может идти к мисс Лори – я видела, что она направляется сюда с Газелью. Вы знаете, милорд, что я дала Эмили это восточное имя? Ваши глаза под ее бровями горят диким очарованием Востока.
Герцог улыбнулся и уселся рядом с Марией Стюарт на диван подле окна.
Покуда они так сидели, я прошел сзади и шепнул Заморне в ухо: «Бедная Генриетта», ибо меня терзали самые дурные предчувствия.
– Бедная Генриетта! – передразнил он, ничуть не тронутый моими словами. – Да, она сейчас свела бы очаровательные бровки, стала бы такой печальной, такой умоляющей, подняла бы ко мне свое удивительное личико с носиком, словно выточенным из слоновой кости, властным открытым лбом и золотыми кудрями. А затем ее светло-карие глаза сверкнули бы через такую бурю слез! Она стиснула бы мою руку тоненькими пальчиками и зарыдала, точно ее сердце разбито. Но так не годится, верно, Эмили? Думаю, хорошо, что Кунштюк раз или два встревал между нами, иначе я не ручался бы за свой стоицизм, хотя больше всего мне хотелось смеяться. Итак, прочь это ревнивое облачко, моя королевская лилия, и смотрите веселей. Ваша улыбка, я часто это говорю, талисман, связывающий наши сердца одной лентой.
– Тогда получайте ее, – ответила дама, улыбаясь со всей нежностью. – Надеюсь, ее власть реальна, а не придумана, ибо, сказать по правде, я немного испугалась этой хорошенькой девочки, которая отвечала мне так заносчиво и держалась так надменно и гордо при всей своей детской субтильности. Но смотрите, милорд, – продолжала она, вздрогнув, – там на лужайке ваши гости, они идут сюда. Это, верно, Эдвард, он очень похож на сестру, только у нее глаза карие, у него – голубые; даже рука, которую он сейчас поднес ко лбу, такая же белая и точеная. А второй, должно быть, Фидена – строгий и непреклонный принц. Не будь я вашей женой, я бы сейчас оробела.
– Клянусь Верховными духами! – проговорил Заморна с тихим многозначительным смехом. – Он сегодня и впрямь под завязку набит суровостью. Эй! Джон! Сюда! Эдвард, уклоните свои праведные стопы с прямой дороги в направлении этой стеклянной двери.
Они приблизились – Эдвард быстрой, нетерпеливой походкой, Джон медленнее. Оба прошли под низкой аркой и остановились перед Заморной и незнакомой дамой. Герцог выглядел исполином – хоть и пригожим, но безусловным Люцифером во плоти. Что-то исключительно темное, коварное, нехорошее затаилось в его взгляде, в изгибе губ, во всем его величавом облике. Фидена смотрел спокойно и ровно, Эдвард заранее горячился, готовый с порога ринуться в бой. Мой брат заговорил первым.
– Итак, джентльмены, – сказал он, – спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Позвольте представить вам Эмили Инес Уэлсли, самого близкого и дорогого члена моей семьи.
– Твоя жена или сестра? – спросил Фидена.
– Конечно, жена, – с неприятной усмешкой произнес Эдвард Перси, – они у него по одной на каждый день недели, как бритвенные лезвия.
– Эдвард прав, – отвечал Заморна, отвешивая ироничный поклон. – Эта дама – моя жена.
Фидена сел, на мгновение подпер голову рукой, затем поднял глаза и проговорил очень тихо:
– Итак, Адриан, именно это ты и хотел нам сообщить? Меня огорчает твое непостоянство, которое, на мой взгляд, граничит с безумием и заставляет тебя совершать крайне жестокие поступки. Один раз ты уже стал убийцей, мой друг. Мне казалось, твои чувства при виде цветка, завядшего у твоих ног, были не столь завидны, чтобы желать их повторения.
– Я понимаю, о чем ты говоришь, Джон, – произнес Заморна с тем же спокойствием. – Ты имеешь в виду Марианну. Она была хрупким подснежником, но, уверяю тебя, о досточтимейший из Солонов нашего времени, не моя хладность заморозила ее лепестки.
– Разумеется, – перебил мистер Перси. – Она умерла от чахотки, и, полагаю, Мэри предстоит уйти со сцены таким же образом, хотя, если я хоть немного ее знаю – и хотел бы я видеть человека, который меня опровергнет, – она скорее перережет горло себе или кому другому.






