Заклятие (сборник) Бронте Шарлотта
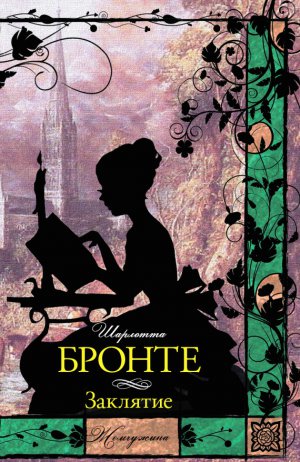
Незнакомец пребывал в самом расцвете молодости. Его совершенный, словно изваянный скульптором, торс, горделиво возвышавшийся над толпой, нес отпечаток чего-то невыразимого: благородства, порывистости, несгибаемости – того, что трудно описать одним словом. Под пышными волосами цвета воронова крыла скрывался гладкий лоб оттенка слоновой кости, неожиданно светлого для обладателя таких смоляных итальянских кудрей. Длинные темно-коричневые ресницы и яркие карие глаза оттенялись широкими черными бровями. Завитки на висках плавно переходили в пышные черные бакенбарды и усы, совершенно скрывающие подбородок и бледные щеки. Мне показалось, что столь буйная растительность плохо вяжется с его очевидной молодостью. Кораллово-алым губам и белоснежным зубам позавидовала бы любая красавица, а надменный изгиб греческой верхней губы был слишком хорошо мне знаком.
С первого взгляда я решил, что передо мной человек военный. В пользу сего предположения свидетельствовала бравая выправка, сдержанная воинственная отстраненность и размеренная величавая поступь. Даже его наряд, почти неразличимый под кружевом, эполетами и галуном, явственно напоминал военный мундир – синий сюртук, черный шарф, белый жилет и панталоны, головной убор военного образца с мехом, надвинутый на лоб, до блеска начищенные сапоги щегольского кроя, подчеркивающие изящество черкесских ступней.
– Как он красив, – заметила Мария Перси, разглядывая незнакомца. – Поистине этот человек принадлежит к тем редким людям, на ком хочется задержать взгляд. Кто-нибудь его знает? О чем шепчутся моя невестка Сесилия и леди Ричтон?
– Мария произнесла мое имя? – спросила Сесилия Перси с мягким лукавством, наклонившись вперед.
– Да, девочка моя, знакомы ли вы с этим черноволосым Титаном?
– Нет, – сухо отвечала Сесилия. – А вы, Матильда? (к леди Ричтон).
– Нет.
– Клянусь, я узнаю его имя, – не унималась Мария.
– Не стоит, – холодно возразила Эдит. – Сомневаюсь, что он нашего круга.
– А я все равно спрошу, но так, чтобы он не возгордился.
– Вы не успокоитесь, пока не добьетесь своего, Мария, – заметила леди Сидни.
С достоинством, которое так пристало ее красоте и высокому положению, Мария перегнулась через перила и надменно промолвила:
– Приблизьтесь, сэр.
Незнакомец не тронулся с места, лишь слегка повернул голову.
– Что угодно, красавица? – с поразительной непочтительностью ответствовал он одной из знатнейших и прекраснейших дам Африки. Моя кузина Джулия взвилась бы от ярости, Марию отпор лишь раззадорил.
– Что мне угодно, сэр? Всего лишь узнать ваше имя, чтобы передать вас в руки властей за незаконное вторжение.
– Выходит, я должен сообщить вам свое имя против воли? Полегче, красавица.
– Я велю арестовать вас на месте, если не подчинитесь! Здесь мои слуги! – вспылила разгневанная принцесса.
– Неужто посмеешь? – спросил незнакомец внезапно севшим голосом.
Мария вздрогнула, алый румянец залил шею, лоб и щеки, и она опустилась в кресло, кроткая, словно овечка.
Незнакомец, смеясь, приблизился.
– Право, мадам, я вовсе не намерен ссориться с вами, ведь я так мало вас знаю! Мое имя майор Альберт Говард из Уост-Уотер-Фореста на западе, ныне из Монли-Крега в Арундел, и я понятия не имел, что закон запрещает перелезать через этот забор. Посему примите мои извинения.
– Принимаю, – изящно склонив головку, любезно улыбнулась Мария.
Майор Альберт улыбнулся в ответ, но гордой головы так и не склонил и в молчании удалился.
– Какую дурочку я сваляла… – пробормотала Мария, когда он скрылся из виду.
Хорошенькое личико Сесилии склонилось над ее плечом.
– Держу пари, это был он, сестрица, – лукаво заметила она.
– Или его дух, – отвечала принцесса.
– С такими-то черными кудрями, как у тебя, Мария?
– А пусть бы и с золотистыми, как у тебя, Сесил.
– Чем меньше будет об этом сказано, тем лучше, – завершила леди Арундел.
– Понятия не имею, о чем вы там шепчетесь, – сказала леди Джулия. – Этот мужчина очень красив и, вне всяких сомнений, джентльмен. Он похож на моего кузена Заморну больше, чем кто-либо другой. Но с чего вы решили, будто он и есть Заморна, – неужели все дело в крашеных волосах, фальшивых бакенбардах, странном наряде и измененном голосе? Ах, почему я с ним не заговорила? Так вот почему вы покраснели, Мария! «Неужто посмеешь?» – так мог сказать только Заморна, но, с другой стороны, майор Говард! Уост-Уотер-Форест! Монли-Крег! Нет-нет, едва ли, да и бакенбарды не похожи на фальшивые, не правда ли, Харриет?
– При таком-то цвете лица? – усомнилась леди Каслрей.
Тем временем джентльмены присоединились к дамам. Сияющий Каслрей примчался первым.
– И вы здесь, леди Сидни, какая приятная неожиданность! Что скажете о нашем собрании? Все прошло как по маслу! Какое единодушие, какая демонстрация народного единомыслия! Его величеству грех жаловаться. Я был хорошим спикером? Оправдал ваши надежды?
– Нашему кружку вы доставили самое большое удовлетворение.
– Вашему кружку? О большем я и не мечтал! Ха-ха-ха, превосходно! Сурена, мой носовой платок!
Сурена вытащил квадрат алого шелка размером с парус фрегата. Его светлость несколько минут встряхивал и вертел его, распространяя ароматы одеколона и пудры (розовая вода и прочая, и прочая), затем высморкал аристократический нос, сплюнул аристократическую слюну на двадцать с лишним ярдов и продолжил:
– А что до речей, так некоторые оказались весьма недурны – Эдвард Перси не оплошал, как и ваш покорный слуга. Морли был на высоте, если бы не всегдашние дьявольски нудные разглагольствования о развитом уме, бесполезных знаниях и занятной чепухе.
– Полноте, милорд Каслрей, полноте! – воскликнул Морли, стоявший рядом. – Я призываю вашу светлость одуматься! Вы злонамеренно упоминаете сии понятия в презрительном ключе. (Обращаясь к леди Джулии.) Если вы уделите мне полчаса своего драгоценного времени, мадам, обещаю что сумею со всем усердием потрафить вашему интеллекту, доказав, что развитой ум, бесполезные знания и занятная чепуха суть три приправы, придающие обществу блеск. Вашей светлости известно, что существует тринадцать способов определения различий – пять истинных и восемь воображаемых. К этим тринадцати – для ровного счета – я добавлю четырнадцатый и позволю себе разбить свое доказательство на несколько частей. Во-первых…
– Помилуйте! – перебила Джулия. – Ради Бога, мистер Морли, пощадите нас! Как-нибудь в другой раз, когда мы будем наедине, а сейчас…
– А сейчас, ваша светлость, выслушайте меня, – раздался хриплый голос Чарлза Уорнера: они с неразлучным Джоном притопали к подмосткам, словно разгоряченные вином гиганты, и схватили несопротивляющуюся Джулию за обе руки.
– Моя несравненная госпожа, – почти прорыдал Чарлз, – вы золотое кольцо в носу у свиньи[57], если позволительно так сказать о даме! Если бы не вы, я бы не знал, что смогу, а того, что произошло сегодня, никогда бы не случилось!
– Чарлз был на высоте! – подхватил Джон. – Ей-богу, когда он сказал, что это счастливейший день в его жизни, я прослезился! Это я-то! А когда я открыл рот, мне показалось, что ручка вашей светлости махнула платочком нам обоим.
– Ну разумеется! – воскликнула Джулия. В глазах моей кузины сверкали веселые искорки – наконец-то она попала в свою стихию. – Я размахивала бы всеми флагами на площади, будь это в моей власти. Мне не доводилось слышать ничего подобного. Просто сердце замирало! Перед вашим красноречием, джентльмены, никто не устоит – своими искусными речами вы любого уговорите повеситься, утопиться или застрелиться. Поистине опасное умение!
– Нет-нет, ни в коем случае, вашей светлости нечего опасаться. А в знак признательности я хотел бы преподнести вам моего пойнтера Шустрого, лучшего в Уорнерских холмах.
– Чарлз, твоя щедрость послужит славе семейства, к тому же это так по-джентльменски! Со своей стороны я добавлю пятерых хорьков. Прошлой весной Шило и Жало разорили кроличий садок Ричарда Агара. Он так и не простил им гибели своего жалкого выводка.
– Не только им, но и Джону, а наш Генри взял сторону Ричарда, стыд и срам!
– Что верно, то верно, Чарлз. А наш Ромилли поставил на них пять золотых адрианов.
– И Джордж обыграл его.
– А выигрыш потратил на дюжину бутылок мадеры, из которых твой Уильям вылакал четыре.
– Зато твой Джеймс осилил всего пару.
– Причем половину сблевал обратно.
Не ведаю, как долго достойные сквайры обменивались бы учеными замечаниями, если бы их не прервал звучный голос Эдварда Перси:
– Ни слова больше! Милорды, дамы и господа, я приглашаю всех провести вечер в Эдвардстон-Холле. Солнце село, часы пробили шесть, кареты ждут, не мешкайте!
Немедленно вся сцена пришла в движение. Дамы поднялись с кресел и предстали пред нами во всей красе: качались плюмажи и кудри, сияли глаза и бриллианты. Никогда прежде мне не доводилось созерцать подобного великолепия. Их мужья, поклонники и братья предлагали спутницам руку, чтобы сопроводить их к экипажам. Джулия, смеясь, шла к карете, опираясь на Торнтона и Чарлза. Джон, которому доверили нести ее платочек и веер, замыкал процессию. Неожиданно чело Джулии омрачилось, но тут же разгладилось. Что было тому причиной? Думы о Сидни?
– Сесилия, – обратилась Мария Перси к невестке, которую любила за незлобивый нрав, такой несхожий с ее собственным гордым и надменным норовом, – едем с нами, умоляю.
Молодой светловолосый господин выступил вперед и завладел локтем моей кузины.
– Сесилия с радостью последовала бы за вами, но она не может быть гостьей в доме моего брата, – промолвил он и удалился под руку с женой.
Длинная процессия растянулась по Стюартвиллской дороге в меркнущем свете дня, и лишь спустя полчаса последний зевака оставил свой пост на обочине, а дальний стук колес замер вдали.
Мой путь лежал в противоположном направлении, и вскоре я оказался в двух милях от Заморны, у ворот мирной усадьбы, окруженной высокими вязами и гладкими лужайками (не парком). Ракитник и розовые кусты склонялись над росистыми травами, и все вокруг дышало тишиной и покоем. Луна всходила на безоблачном небосводе, звезды ласково взирали на землю с небес, а ветерок шептался с листвой. Огни города мерцали вдали, а его приглушенный ропот, оживляемый звоном колоколов, отсюда казался шумом горного ручья.
Передо мной была усадьба «Под вязами», некогда бывшая местом романтического заточения Лили Харт. В те времена Заморна слыла глухой деревушкой, а ее окрестности были столь же пустынны, как ныне оживленны. Капитан Уильям Перси приобрел поместье у Фидены сразу после женитьбы и с тех пор жил тут.
Вскоре мои думы прервал шорох шагов. Компания из четырех-пяти человек медленно пересекала просторный выгон, тянувшийся от ворот. Миновав заросший боярышником лаз, они остановились рядом со мной. Я с удивлением разглядел впереди статную фигуру майора Говарда. Две дамы, в классических чертах, светлых волосах, белоснежной коже и надменном взгляде синих глаз, в которых я сразу узнал Джорджиану и Элизу Сеймур, опирались на руки майора и казались так поглощены кавалером, что в своем царственном высокомерии не замечали никого вокруг.
Они называли его Августом – отнюдь не Альбертом и не Говардом. Капитан и леди Перси замыкали шествие. Поравнявшись со мной, Сесилия, добрая душа, взяла меня за руку и увлекла за собой.
– Чарли, – сказала она, – не желаете провести вечер в моем доме? У нас небольшое, но избранное общество. Джорджиана и Элиза приехали вчера и прогостят неделю. Помните, как дружески вы болтали с ними в детстве?
– Не помню, – отвечал я, – впрочем, едва ли болтал, скорее, они гладили меня по головке. Я гляжу, дамы глаз не сводят с этого Аполлона в обличье Марса, майора Говарда. Он женат?
– Вдовец, – отвечал Уильям Перси. – Отец пятерых-шестерых детей.
– Пятерых-шестерых! В его-то годы?
– Не все ли равно, сэр? Мой вам совет, держитесь от него подальше. Майор весьма вспыльчивого нрава.
Через стеклянную дверь мы вошли в гостиную, залитую мерцающим светом жарко натопленного камина. Майор Альберт непринужденно разлегся на диване.
– Сюда, красавицы, – позвал он моих благородных кузин, – вон табуреты, диван я забираю себе.
В подтверждение своего бесцеремонного приглашения майор закинул длинные ноги на бархатную обивку, разметав по подушкам пышные кудри. Девицы Сеймур с грацией персидских царевен расположились у его ног, почти заслонив роскошный ковер пышными юбками. Юный Перси прислонился к спинке дивана.
– Сесилия, – обратился он к жене, – как бы завидовал мне этот мерзавец Эдвард, знай он, какое сокровище я здесь прячу. Согласитесь, ваше величество, моя вилла красивее Эдвардстона?
– Уединеннее, – отвечал майор, – а после треволнений дня чего еще желать? А теперь, Уильям, берите флейту. Сесилия, волшебница, вот арфа и ноты. Джорджиана, там, в нише, я заметил гитару. Элиза, рояль жаждет прикосновения ваших пальчиков. Посвятим вечер гармонии и покою. Я же намерен лежать и слушать.
Я был несказанно опечален, когда бронзовые часы пробили полночь. Не припомню, чтобы когда-нибудь посвящал вечер наслаждениям более изысканным и глубоким. Он вечно останется в памяти ярким солнечным бликом на сумрачной жизненной тропе.
Назавтра, в десять вечера, я, генерал Торнтон, лорд Каслрей, мистер Эдвард Перси и майор Альберт Говард прибыли в Адрианополь дилижансом – модным средством передвижения en passant[58], которое ангрийцы зачастую предпочитают собственным экипажам.
Мы вышли у «Плюмажа и Сабли». Расплатившись за проезд, майор Говард запахнул широкий алый рокелор и смешался с толпой в переулке. Осторожно ступая, я последовал за ним.
Майор избрал на диво кружной путь: узкие кривые улочки, тупики. Казалось, Адрианополь знаком ему в самых низменных подробностях. Я же, напротив, очутился в совершенно незнакомой местности, однако благодаря высившейся впереди, подобно Саулу, фигуре, а порой – когда ее окутывал мрак – мерному звуку шагов, с собачьим упорством держался сзади.
Из узкого мрачного переулка мы выбрались на широкое пространство, залитое светом луны, облюбовавшей величественную белоснежную громаду около двухсот ярдов в длину. В мозгу моем теснились картины одна возвышеннее другой, но, приглядевшись, я понял, что нечто, показавшееся мне поначалу грозным и непостижимым, словно убеленные пики Кавказских гор, представляет собой творение человеческих рук. Каменная громада раскинулась вширь и ввысь, но ее границы были искусно очерчены. Ряд бледных колонн, льдисто сверкающих в лунном свете, уходил вдаль в величественной перспективе. Мощный фундамент, пышные капители и длинный, взметнувшийся ввысь карниз являли собой подобие благородных греческих образцов. Все здесь дышало Ионией классических времен. Рука великого Палладио не коснулась этих стен. Венецианская грация уступила место основательному, суровому, имперскому стилю. Сравнение дворца Заморны с Уэллсли-Хаусом подтверждало, как изменился, как возвысился его хозяин. А ведь когда-то ему – Гомеру и Меценату в одном лице – был не чужд вкус и талант, любовь к учению и наукам: впрочем, не стану тратить время и пыл, описывая, во что он превратился ныне.
Широкий Калабар катил перед дворцом свои тихие воды. Я слышал, как набегающие волны нежным поцелуем приникают к мраморным стенам, выражая почтение тому, кто прославил берега, что доныне прозябали в дикости и невежестве.
Майор Говард пересек пустынную площадь, миновал парадный вход и, обогнув дворцовое крыло, остановился перед незаметной дверцей, которую охранял часовой.
– Стой! – воскликнул тот, заметив высокую тень.
– Восстань[59], – был краткий ответ.
Ружье стукнуло оземь, а часовой отпрянул в немом благоговении.
– Уильям Чедвик, если не ошибаюсь, – сказал Говард.
– Он самый, ваше величество.
– С тобой дежурит Джон Ингрем?
– Ваше величество всех знает.
– Только по именам. Всего доброго, Уильям, звездная сегодня выдалась ночка.
Майор коснулся звонка, ответившего слабой мелодичной трелью. Дверь немедленно отворилась – и он вошел. Я проскользнул вслед за ним мгновение спустя и вскоре лицезрел, как Эжен Розьер помогает хозяину высвободиться из складок рокелора.
– Ваша светлость переоденется сейчас или позже? – спросил тот.
– Не важно. Где хозяйка, Розьер?
– Полагаю, в пурпурном салоне, милорд. Она принимает мистера Роберта С’Дохни, полчаса уж прошло.
– С’Дохни! Знать бы, каким ветром занесло сюда этого негодяя.
С этими словами он удалился. Я последовал за ним, не удерживаемый ни часовым, ни Эженом, прекрасно меня знавшими. Крадучись, я поднялся по небольшой мраморной лестнице, миновал изысканный маленький вестибюль и очутился в гулком светлом коридоре. Вряд ли кто-нибудь другой осмелился бы нарушать покой сих величественных молчаливых покоев столь отчетливым звуком, как тот, что издавали подбитые медью сапоги майора Говарда. Он свернул, и вслед за ним я очутился в анфиладе роскошных комнат. Торжественный и мягкий лунный свет, что лился из греческих окон, пятная мебель жемчужно-серебристыми отблесками, лишь подчеркивал их великолепие.
Помедлив, майор раздвинул створки дверей одной из комнат и, не заботясь притворить их за собой, вошел внутрь, оставив превосходный обзор. Теплый свет озарял тяжелые занавеси, яркие ковры и восточные кушетки. Посреди комнаты – одна, всеми покинута и заброшена (как говорит леди Джулия) – нежная, словно видение, утонченная и безмятежная, откинувшись на алый шелк оттоманки, сидела королева Мария Генриетта.
Лишь теперь я осознал, что нахожусь в королевских покоях. Прелестницы, очаровывавшие меня на улицах Заморны, были забыты. Женщины из плоти и крови, болтающие и смеющиеся, сбившись в стайки, они были существами этого мира, а ныне предо мной сияла чистая звезда, обитающая на ясном небосводе, принадлежащем ей одной, – бесценная жемчужина, которую сильный мужчина сумел завоевать и с тех пор ревниво оберегал свое сокровище. Впрочем, в уединении королевы сквозила скрытая меланхолия. Я не завидовал ее доле. Величие отдалило Мэри от прочих женщин, однако в надменном изгибе бровей и лучезарном взоре я не разглядел сожалений. Впрочем, и довольной она не была – скорее задумчивой и печальной. Головка Мэри беспокойно металась на подушке, рука прикрывала лоб, по тонким пальчикам стекали слезы, о причине которых ведала лишь она.
На столике черного дерева рядом с оттоманкой лежало раскрытое письмо. Мэри не сводила с него глаз. Майор Альберт устремил на нее пристальный взор и не успел отвести его, как она вскочила, с резвостью, свидетельствующей о крайней взвинченности. Мгновение герцогиня стояла в замешательстве, сбитая с толку маскарадом. Впрочем, единственное слово – ее имя, произнесенное шепотом – развеяло сомнения.
Мэри не бросилась к нему, лишь печально промолвила:
– Ах, Заморна, неужто вы решили, что меня обманет личина? Где вы были, милорд? Давно ли вернулись? Я потеряла счет времени.
Заморна скривил губы, подошел к огню, продолжая хранить молчание. В кои-то веки герцог был собой недоволен.
– Просто скажите, где вы были, Адриан? – снова спросила герцогиня.
– Что тревожит вас, Генриетта? – промолвил он быстро.
– Меня гнетет давняя печаль.
Рука Заморны двинулась к золотой цепи, висевшей на шее, выглядел он при этом мрачнее тучи.
– Опять старая история? – Он вскинул глаза и тут же опустил их – угрюмый взгляд, едва ли из земли перстный[60].
Герцогиня не ответила, и тогда он спросил:
– Я слышал, вас посетил С’Дохни?
– Да, милорд.
– С какой стати?
– Он прибыл от моего отца, сир.
– Вот уж в чем я не сомневался! Мерзавцу не впервой быть на побегушках у сатаны. Так что с вашим отцом, голубка?
– Его здоровье и дух подорваны жизнью на чужбине. Посланник также доставил письмо, которое я хочу вручить вашему величеству, боюсь только…
– Напрасно, дитя мое. Вряд ли в моем сердце способно угнездиться больше дьявольской ненависти к вашему родителю, чем я испытываю ныне. Давайте сюда ваше драгоценное письмо.
– Я верю, сир, что вы смените гнев на милость, ибо это послание откроет пред вами его душу, – сказала Генриетта, передавая мужу письмо.
Заморна сел. Сжав губы, прямой как струна, герцог изучал знаменитое письмо Нортенгерленда ангрийцам. Слабый отраженный свет падал с потолка. Ни единый звук не нарушал тишины, лишь шуршали страницы.
Мэри не сводила глаз с мужа. Не сознавая, что делает, она приблизилась и встала с ним рядом, а устав стоять, опустилась на колено, оперлась на диван и обратила к своему господину взор, исполненный такой безоглядной любви, нежности и мольбы, коих передать не способны ни резец скульптора, ни кисть живописца.
Дочитав, Заморна сложил письмо. Кровь прихлынула к щекам, в глазах вспыхнул огонь.
– Сир, выслушайте меня, – обратилась к нему королева, молитвенно сжав руки.
Герцог слышал ее голос, но не слова: дух его блуждал в иных сферах. Он улыбнулся слабой рассеянной улыбкой – ибо нельзя было противиться невыразимому очарованию Мэри – однако ж мысли были далеко.
Герцогиня, приняв улыбку за позволение, подобралась ближе и обратилась к мужу с прочувствованной речью:
– Сир, теперь вы видите, лорд Нортенгерленд не желает вам зла. Он называет Заморну своим благородным королем, искренне восхищается им. О, Адриан, когда б вы знали, как сильно я люблю отца, то оценили бы, сколько я перестрадала! Я видела, как вы мрачнеете, когда он проходит мимо. Я знала, как вы ненавидите его, и не смела вам перечить. Я простилась с ним – возможно, навсегда. Я видела, как челн, увлекший его от берегов Африки, растаял вдали, – и не двинулась с места. Я слышала отовсюду, что королеву ни во что не ставят, что у нее нет сердца! Мой брат Эдвард заявлял мне это в лицо, но я не дрогнула. Однако более всего я боялась – и разве мои сомнения лишены оснований? – что ваша неприязнь к Перси перекинется на его несчастную дочь! Я плакала в одиночестве, и, хотя мое сердце едва не разорвалось от горя, я сомкнула уста. Даже себе страшилась я признаться в причине своего главного страха: что, если Перси и впрямь проклятие Заморны? Правда это или ложь, хорошо или дурно, но я с готовностью пожертвовала бы жизнью отца – как бы преданно его ни любила – ради того, кому поклоняюсь слепо, неистово и пылко. Не говоря уже о собственной жизни! Что мне до нее? Но, сир, когда я прочла его послание, страх рассеялся. Теперь я знаю, что Нортенгерленд служил вам верой и правдой, и благословляю его всей душой. Мой отец был дурным правителем, подлым и бесчестным. Человеческие чувства – и нечеловеческий интеллект! Мог ли он противостоять тому, над чем был не властен, не стало ли это причиной его трагических заблуждений? Мой король, мой супруг, мое божество, улыбнись же мне и скажи, что отныне мой отец снова станет твоей правой рукой! О, сир, он стоит всех подлецов, что толпятся вокруг вас! Перси, царственный лев, достойный служить вам опорой, а его клеветники лишь прах у ваших ног! Проведу ли я эту ночь без сна, Заморна? Суждено ли мне есть хлеб горечи и пить горькую чашу, или, осиянная светом твоего прощения, я усну спокойно, а проснусь в мире?
Ее воодушевление, то, с каким искренним рвением припала она к его ногам, и весь облик Мэри – Филиппа, заступница жителей Кале[61], Эсфирь, защитница иудеев, – очень скоро отвлекли Заморну от дум, и последнюю часть ее мольбы он выслушал с глубоким вниманием. Овладевшие герцогом чувства были так сильны, что монаршая длань дрожала, когда, проведя по высокому белому лбу, он уронил ее на голову своей королевы, склонившейся пред ним, словно лилия, истерзанная бурей.
Его пальцы принялись перебирать ее золотистые локоны, и королева разрыдалась.
– Успокойся, любимая, успокойся, моя дорогая Мэри, – произнес он своим проникновенным голосом, звук которого лорд Ричтон сравнил с флейтовым регистром органа. – Я принял бы твоего отца с распростертыми объятиями ради его нежной дочери, будь истиной хотя бы четверть того, о чем он пишет, – но нет, Мэри, в его письме нет ни слова правды. Пустая шестерня вращается вхолостую – и весь механизм прядет завесу обмана, способную затуманить маккиавеллиевы глаза. Однако меня не проведешь – я не сверну с пути.
Герцогиня глубоко вздохнула:
– И я никогда больше не увижу отца?
– Увидишь, любимая, обещаю, увидишь здесь, во дворце. Скажу больше – не пройдет и месяца, как он снова станет премьер-министром Ангрии. Я не намерен чинить ему препятствий. Его гений явлен в сем послании со всей полнотой – хотел бы я обладать таким же даром, – но, видит Бог, я не имею права забывать о его коварстве.
– Он любит вас, сир, – перебила Генриетта.
Герцог улыбнулся. Осторожно подняв жену с пола и усадив на диван, он, скрестив на груди руки и нахмурив чело, принялся мерить гостиную шагами. Постепенно шаги стали быстрее, свидетельствуя, как мучительно убыстряется ход его мыслей.
Герцог остановился. Мэри затаила дыхание. Он стоял, освещенный алым пламенем камина, – выставив ногу вперед, гордо вскинув голову. Его пронзительный взор, устремленный на противоположную стену, был наполнен вдохновенным огнем – безумием, что всегда дремало в крови, а ныне прорывалось сквозь расширенные зрачки, как будто видения, пролетавшие перед его мысленным взором, были материальны.
– Мы идем вместе, – промолвил он. – Рука об руку, движимые одной целью. У него нет сердца, и я вырву свое из груди, не дожидаясь, пока горячие пульсации станут помехой тому, что я вижу, чувствую, предвкушаю денно и нощно. Иначе зачем мы родились в одну эпоху? Его солнце должно было закатиться до того, как взошло мое, иначе пожара не миновать. Клянусь Верховными духами! О, оно разрастается, это широкое кровавое сияние! Я иду за ним – ты не посмеешь заманить меня туда, куда мне нет пути. Ха! Оно заполнило все вокруг – чернота, чернота, где я? Почему погас свет дня? Какая беспросветная темень, дух! Перси! Я вижу конец моих сражений. Как бежит время – ты говоришь, двадцать лет? – отсюда они кажутся часом. Жизнь ускользает, это глоток вечности. Вечность! Бездна, бестелесная, бесформенная, куда мне плыть? Почему так тихо? Какое хладное молчание, какая безжизненная пустыня! Куда делись звезды? Говорите, я должен вспомнить? Тщетная надежда – мысль ускользнула. Низменное и высокое – везде я был велик, но я забыл свое величие.
Он замолчал, глаза смотрели в одну точку, безжизненное лицо посерело. Одна рука покоилась на груди, другая сжимала опору лампы, удерживая его на ногах.
Мое внимание было полностью захвачено речью Заморны, и я не заметил того, что происходило в дальнем углу гостиной.
Внезапно кто-то спросил:
– Вам случалось видеть его таким прежде, Мэри?
Я оглянулся. Господин в черном стоял рядом с герцогиней – эти напудренные волосы и чеканный профиль могли принадлежать только герцогу Веллингтону. На герцоге был дорожный костюм, вероятно, он прибыл только что.
На заднем плане маячила высокая мощная фигура мистера Максвелла-старшего.
Внешне королева Генриетта казалась собранной и невозмутимой, но с головы до ног ее сотрясала дрожь.
– Дважды, – отвечала она, – и оба раза наедине. До сих пор я не обмолвилась об этом ни единому живому существу. Ваша светлость знает о его припадках?
– Да, Мэри, бывало и хуже, по крайней мере опаснее. Элфорд здесь?
– Здесь, но умоляю вашу светлость не посылать за ним! Заморна не в беспамятстве. Малейшее движение или слабый звук разъярят его. Однажды я уже попыталась звать на помощь и до сих пор не могу забыть его взгляд и тон, когда он меня одернул.
– Хм, словно одержимый, – заметил мой отец. – Временами твой хозяин, Максвелл, становится исчадием ада.
Максвелл покачал головой.
– Послать за Уильямом? – прошептал он. – Он был с герцогом на Философском острове, когда у того помутился разум после смерти леди Викторин.
– Говорю вам, не стоит ни за кем посылать, – перебила Мэри. – Я попробую подойти к нему сама, если вы не решаетесь, Максвелл. Я не леди Викторин, которую он видит пред собой, хотя ее дух однажды уже стоял меж нами. Никому из живущих не понять, как тяжело тому, кто, подобно мне, боготворит Заморну и принужден наблюдать за ним в такие минуты. Ему ведомы откровения, недоступные прочим, а его воображение жарче угля. Смотрите, он пошевелился, я иду к нему!
Мэри подалась вперед, но сильные мускулистые руки герцога Веллингтона удержали ее.
– Назад, моя дорогая, в таком состоянии я ему не доверяю.
Заморна прошелся по гостиной, развернулся и приблизился к ним. Не хотел бы я там оказаться! Замерев в полу-ярде, он смотрел на них таким странным, таким невыразимо странным взглядом, что не подлежало сомнению: герцог не узнает ни отца, ни жены, ни Максвелла! Его глаза остекленели, а пристальный взор словно пронзал предметы насквозь, оставаясь неподвижным, лишь трепетали порой веки и длинные ресницы.
Призрачные видения, создания неукротимого воображения, скользили перед его мысленным взором, но вот и они улетучились. Герцог побледнел как мел, в углах губ появилась пена, мышцы на лице задергались.
– Уведите мою дочь, – обернулся герцог Веллингтон к Максвеллу. – Силком, если потребуется, а сами немедленно возвращайтесь.
Дворецкий подчинился, а мой отец тщательно затворил за ним все три двери, лишив меня обзора, – и более мне нечего об этом сказать.
– Вы здесь, отец? – удивился Заморна, входя на следующее утро в столовую герцогини. Он выглядел вполне здоровым, лишь на лице залегла тень усталости. – Когда вы приехали? Что случилось? Впрочем, кажется, я знаю. Письмо Нортенгерленда?
Герцог хмуро кивнул.
– Что ж, – продолжил сын, – я подверг этот вопрос всестороннему изучению, и вот результат моих размышлений.
Он протянул моему отцу набросок речи, которую впоследствии прочел на открытии ангрийского парламента.
– Когда вы это написали? – спросил Веллингтон, прочтя ее.
– Вечером!
– Вечером, мальчик мой? Невозможно! Вы сознаете, в каком состоянии были вчера?
– Состоянии, состоянии, – буркнул Заморна, словно прогоняя неприятные думы. – Этого я и боялся, ибо, проснувшись около полуночи, совершено не помнил событий прошлого вечера. И вы там были? Господи, надеюсь, больше никого? А Мэри… разумеется, достаточно взглянуть на нее – бледная, изнуренная, будь благословенна, Генриетта, когда-нибудь я тебя уморю, и ты от меня отвернешься – как отвернулся Он. Но я не виноват – это сильнее меня.
Заморна покраснел и печально опустил голову на руки. Мэри, не сводившая с мужа влюбленного взгляда, хотела было вскочить, но мой отец сменил тему, и герцогине пришлось остаться в кресле.
– Я прибыл в Адрианополь еще и по частному делу, – сказал герцог, – и мы обсудим его сейчас, а политику оставим на потом. Прочтите, Август.
Вытащив из записной книжки письмо, он бросил его через стол. Письмо было адресовано «Его светлости высокородному Артуру Августу Адриану, герцогу Заморне, королю Ангрии и прочая, прочая» и гласило:
«Милорд герцог, с сожалением сообщаю об уходе моего благородного господина. Его высочество герцог Бадхи скончался вчера вечером. Он сидел в кресле у камина, когда трубка выпала из рук, а лицо почернело. Месье Дезиньят, оказавшийся в доме, испробовал все средства, но тщетно – жизнь угасла. По мнению месье Дезиньята, причиной смерти стал апоплексический удар, посему требуется вскрытие. Разумеется, я счел, что мой долг – воспрепятствовать подобным намерениям, по крайней мере до тех пор, пока не свяжусь с вашей светлостью. Завещание у меня, копию я отправил мистеру Уильяму Максвеллу. Если ваша светлость сочтет нужным самому распорядиться насчет похорон, дворец Бадхи в вашем распоряжении. Если нет, буду счастлив поступить под начало мистера Максвелла. До сих пор я не сообщил о прискорбном событии в Хьюмшир, ибо, полагаю, ваша светлость захочет написать леди Френсис Миллисент Хьюм собственноручно, смягчив своим посредничеством боль потери. Остаюсь вашим самым преданным и смиренным слугой.
Милдерт О’Салливан.
P.S. Утром я навел справки относительно некогда высказанного вашей светлостью желания сменить титул герцога Бадхи на титул герцога Олдервуда. Сэр Копли Линдхерст уверил меня, что пятисот фунтов в казну вашего августейшего отца и столько же – в казну Витрополя достаточно, чтобы уладить формальности».
– Хорошая весть, – сказал Заморна, отложив письмо, – хоть это и весть о смерти. О'Салливан умеет держать язык за зубами. Никаких поздравлений, похвально. Эти дворецкие мягко стелют. Максвеллу есть с кого брать пример, когда придет его черед писать такое письмо. Хм, стало быть, его высочество Александр Бадхи наконец-то выкурил последнюю трубку, проглотил последнюю пинту и перерезал горло последнему подданному. Старый греховодник ускользнул тихо, как мышь! Жаль, не увижу, как на смертном одре он на чем свет костерит слуг!
– И это все, что вы можете сказать о человеке, – перебил мой отец сей весьма непочтительный монолог, – который оставил вам две тысячи фунтов стерлингов в год?
– Почти, – был ему ответ. – Впрочем, меня занимает другое, отец. Куда он отправится: вверх или вниз? И хотя дряхлый распутник не заслужил вечного блаженства, очаг, что растопил хозяин лорда Нортенгерленда, для него жарковат. «Тебе возможность все ж дана, чтоб лучше быть»[62]. Я всегда говорил, в аду следует выделить особый угол для ему подобных.
Вытащив записную книжку, герцог сделал пометку: «На следующем вечернем заседании завести со Стэнхоупом спор на любимую тему. Б. imprimis[63] его жизнь и разговор, secundum[64] его смерть и спасение – разбить аргументы – окончательно сокрушить оппонента».
Затем продолжил:
– Отец, что скажете о похоронах? Чем пышнее, тем лучше? Как-никак один из Двенадцати!
И августейший повеса многозначительно хмыкнул.
– Как пожелаете, сир, но проявите должное уважение, мой вам совет. Идемте, я приказал Максвеллу ждать нас в кабинете.
– Иду. Доброе утро, Мэри. Кажется, мы не увидимся до вечера. Скверно, любимая, но придется облачиться в черное как можно скорее. Подумать только, иной причины для самого глубокого траура, кроме нового титула и наследства, у нас нет. Впрочем, прелестному личику моей Мэри черная вуаль только к лицу. Поцелуй, и еще один, доброе утро, герцогиня Заморна, герцогиня Олдервуд, королева Ангрии и не знаю каких еще земель.
Герцог вышел.
– Храни Господь его великодушное сердце, – пробормотала Генриетта.
– И его смятенный разум, – добавил мой отец, выходя вслед за ним.
В кабинете старший и младший Максвеллы приветствовали их глубокими поклонами и почтительным бормотанием. Заморна, замерев на пороге, окинул обоих пристальным взглядом (сравню ли его с тем горящим взором двенадцать часов назад, когда воображение взяло верх над рассудком, едва не приведя к погибели?).
– Достойнейшие крокодилы и аллигаторы дома и поместья, – промолвил он, – кто из вас двоих готов разделить мою невосполнимую утрату? Уильям, твоя желтушная физиономия подойдет. Какая каменная неподвижность мышц! Взгляните на него, отец: брови сморщились, физиономия вытянулась – вылитая скрипка Паганини, уголки губ опущены, лицо посерело, словно скорбь спровоцировала разлитие желчи, черные локоны на смуглых висках струятся с такой неподдельной печалью! О, что за вид – плачущий нарцисс Саронский, рыдающая лилия долин! Мой дорогой Уильям – мой Ионафан, мой Пифий, мой Пилад, мой Иоав, мой Ахат, мой Патрокл, утри слезы. Горевать будем завтра, а сейчас – за дело! Где завещание?
– Вашей светлости известно, что оригинала у меня нет, – рассудительно ответствовал мистер Максвелл, – только копия, заверенная мистером О’Салливаном. Должен ли я прочесть завещание вслух? – спросил он, извлекая громадный пакет, перевязанный, опечатанный и сложенный с казенной скрупулезностью.
– Ни вслух, ни про себя, сэр. Отдайте его вашему отцу, пусть прочтет моему, а вы садитесь и пишите то, что я надиктую. Милдерту О’Салливану, эсквайру, дворецкому поместья Олдервуд. Приступим.
«Сэр, герцог Заморна поручил мне выразить глубочайшую озабоченность вашим рассказом касательно вчерашнего события».
Готово? К тому же это истинная правда! Я и впрямь весьма озабочен.
«Учитывая высокий статус покойного, его светлость высказал желание, чтобы похороны были устроены по высшему разряду, и…»
Пишите, что вы возитесь, Уильям!
«… и приглашения были разосланы тем из оставшихся в живых Двенадцати, кто пока не non compos mentis»[65].
Такая оговорка исключит нашего досточтимого патриарха Колочуна. Пишите, сэр, нечего рассиживаться!
«Итак, по порядку: Уэллсли-Хаус и дворец Ватерлоо примут участие в похоронной процессии, из Адрианополя надлежит вызвать войска. Мой господин дал понять, что возглавит церемонию, будучи самым близким родственником усопшего, а также наследником титула и прочая. Госпожа не прибудет. Его светлость выразил желание, чтобы вы продолжали исполнять обязанности дворецкого, равно как и прочая домашняя челядь. Остаюсь, сэр, вашим покорным слугой, Уильям Максвелл».
Готово? Сомневаюсь, что вы состряпали бы что-нибудь умнее, умудрившись нигде не сфальшивить. А теперь поднимайтесь – следующее письмо я напишу собственноручно.
Мистер Максвелл встал из-за секретера, а его светлость, заняв место дворецкого, взял чистый лист и набросал следующее послание:
«Миллисент, детка, я знаю, твое доброе сердечко будет скорбеть, когда ты узнаешь, что тот, кто должен был быть тебе отцом, скончался от удара несколько дней назад. Но умоляю: один краткий вздох, одна скупая слезинка, ибо большего он не заслужил. Он даже не упомянул твоего имени в завещании, щедрой рукой отдав все до последнего штивера в мои загребущие руки, но знай, я не забуду мою милую кузину. Отныне да не коснется тебя ни единый порыв холодного ветра, Милли. Август теперь твой отец, а равно брат и защитник. Я знаю, моя бедная слепая сиротка, эта весть умножит твою печаль, но если бы я мог принести ее тебе сам, во плоти, то не позволил бы пролиться слезам, или рука, что пишет сейчас эти строки, немедля осушила бы их. Где ты хочешь жить, Френсис? В замке, в старом поместье, в Морнингтон-Корте, во дворце или в Веллингтонстоуне?
Вероятно, ни в одном из этих мест. Я помню затаенное желание, высказанное в твоем последнем письме, быть ближе к Заморне, который занимает в твоих мыслях гораздо больше места, чем заслуживает. Хочешь, детка, я выстрою для тебя красивый маленький павильон над бурным потоком, который я окрестил Арно? Поток бежит сквозь Хоксклифский лес в уединенной зеленой долине. Я вижу, ты улыбаешься, одобряя мой замысел, а значит, так тому и быть. Эффи Линдсей прочтет тебе это письмо. Скажи ей, пусть будет такой же умницей, как и красавицей, и не бросает занятий музыкой. В следующий раз, когда я приеду и заберу ее вместе с гувернанткой на Восток, она непременно должна спеть мне «Джесси – цветок Данблейна». Моя кормилица будет сидеть на старом пороге под древней кровлей.
Остаюсь вечно твой, Август Уэлсли».
Найдено в кабинете герцога Заморны, между страницами греческой книги. Странный, дикий фрагмент, растолкуйте мне его, если сможете.
Сцена представляет собой балкон дворца, залитый лунным светом. Вдали виднеется Адрианополь. Зенобия одна.
Зен. Тихий, ясный, безмятежный! Такими эпитетами награждают лунный свет, но сейчас они не кажутся мне подходящими. Какая страшная нынче луна! Алая, словно кровь, хотя висит совсем низко. В ней есть что-то угрожающее, а громадный тусклый нимб обещает ненастье. Вон барк собирается отплыть по водам Калабара – на месте моряков я бы остереглась. Ба, но куда пропал корабль? Тень от тучи скрыла его светлый силуэт, приглушила блеск волн, а теперь туча движется к Адрианополю. Она наступает, наступает – и вот уже поглотила башню, купол, дворец, улицу, площадь – и снова просвет, и снова тьма, и опять во тьме проступают призрачные, мертвенно-бледные очертания. Туча ушла, но что затеняет горизонт? Нет, нет, то лишь тень лежит на холмах Заморны. Но тень растет. Ее края отливают серебром, а земля и небо очистились.
Почему я не в силах отвести глаз от неверного столба тумана? Не ведаю. Весь день мой дух пребывал в беспокойстве, и вечер не принес облегчения. Я охотно сосредоточилась бы на чем-то ином, но увы. Разрозненные обрывки давних воспоминаний о том, чего не вернуть, скользят перед мысленным взором, словно этот туман. А когда воспоминания отлетают от меня, остается странная, навязчивая фантазия. Глупо, но я не в силах отринуть ее – будто бы до полуночи мне предстоит некая мрачная миссия. Я не помню, в чем она состоит, но временами нервическое беспокойство заставляет меня в ужасе вскакивать с места.
В полдень я едва не поймала ускользающее видение. В картинной галерее мой взор привлек портрет Александра. Он ожил, как часто бывает, когда я одна и погружена в раздумья, на глазах обретая плоть и кровь. Его взгляд поразил меня! Печальный, тревожный и повелительный, он взывал ко мне, а я трепетала, потрясенная невероятным сходством. И на меня нахлынули воспоминания! Я что-то обещала ему, давным-давно. Я силилась вспомнить, что именно, но тщетно. Снова и снова всматривалась я в портрет, но изображение вновь стало слабым подобием того, которого я знала и любила, а воспоминания померкли. Но чу, я слышу шаги!
Входит Альфа.
Альфа. Зенобия, вы одна? Что вы здесь делаете? Тут холодно, темно, и до полуночи осталось полчаса.






